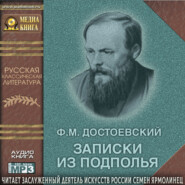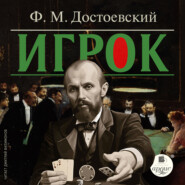По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кроткая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты предобрый мальчик, – прошептала она, смотря на меня тихими глазками, – пожалуйста же, не сердись на меня, а? не будешь?
Словом, мы стали самыми нежными, самыми верными друзьями.
Было довольно рано, когда я проснулся, но солнце заливало уже ярким светом всю комнату. Я вскочил с постели, совершенно здоровый и бодрый, как будто и не бывало вчерашней лихорадки, вместо которой теперь ощущал я в себе неизъяснимую радость. Я вспомнил вчерашнее и почувствовал, что отдал бы целое счастье, если б мог в эту минуту обняться, как вчера, с моим новым другом, с белокурой нашей красавицей; но еще было очень рано и все спали. Наскоро одевшись, сошел я в сад, а оттуда в рощу. Я пробирался туда, где гуще зелень, где смолистее запах деревьев и куда веселее заглядывал солнечный луч, радуясь, что удалось там и сям пронизать мглистую густоту листьев. Было прекрасное утро.
Незаметно пробираясь все далее и далее, я вышел наконец на другой край рощи, к Москве-реке. Она текла шагов двести впереди, под горою. На противоположном берегу косили сено. Я засмотрелся, как целые ряды острых кос, с каждым взмахом косца, дружно обливались светом и потом вдруг опять исчезали, как огненные змейки, словно куда прятались; как срезанная с корня трава густыми, жирными грудками отлетала в стороны и укладывалась в прямые, длинные борозды. Уж не помню, сколько времени провел я в созерцании, как вдруг очнулся, расслышав в роще, шагах от меня в двадцати, в просеке, которая пролегала от большой дороги к господскому дому, храп и нетерпеливый топот коня, рывшего копытом землю. Не знаю, заслышал ли я этого коня тотчас же, как подъехал и остановился всадник, или уж долго мне слышался шум, но только напрасно щекотал мне ухо, бессильный оторвать меня от моих мечтаний. С любопытством вошел я в рощу и, пройдя несколько шагов, услышал голоса, говорившие скоро, но тихо. Я подошел еще ближе, бережно раздвинул последние ветви последних кустов, окаймлявших просеку, и тотчас же отпрянул назад в изумлении: в глазах моих мелькнуло белое знакомое платье и тихий женский голос отдался в моем сердце как музыка. Это была m-me M*. Она стояла возле всадника, который торопливо говорил ей с лошади, и, к моему удивлению, я узнал в нем Н-го, того молодого человека, который уехал от нас еще вчера поутру и о котором так хлопотал m-r M*. Но тогда говорили, что он уезжает куда-то очень далеко, на юг России, а потому я очень удивился, увидев его опять у нас так рано и одного с m-me M*.
Она была одушевлена и взволнована, как никогда еще я не видал ее, и на щеках ее светились слезы. Молодой человек держал ее за руку, которую целовал, нагибаясь с седла. Я застал уже минуту прощанья. Кажется, они торопились. Наконец он вынул из кармана запечатанный пакет, отдал его m-me M*, обнял ее одною рукою, как и прежде, не сходя с лошади, и поцеловал крепко и долго. Мгновение спустя он ударил коня и промчался мимо меня как стрела. M-me M* несколько секунд провожала его глазами, потом задумчиво и уныло направилась к дому. Но, сделав несколько шагов по просеке, вдруг как будто очнулась, торопливо раздвинула кусты и пошла через рощу.
Я пошел вслед за нею, смятенный и удивленный всем тем, что увидел. Сердце мое билось крепко, как от испуга. Я был как оцепенелый, как отуманенный; мысли мои были разбиты и рассеяны; но помню, что было мне отчего-то ужасно грустно. Изредка мелькало передо мною сквозь зелень ее белое платье. Машинально следовал я за нею, не упуская ее из вида, но трепеща, чтоб она меня не заметила. Наконец, она вышла на дорожку, которая вела в сад. Переждав с полминуты, вышел и я; но каково же было мое изумление, когда вдруг заметил я на красном песке дорожки запечатанный пакет, который узнал с первого взгляда, – тот самый, который десять минут назад был вручен m-me M*.
Я поднял его: со всех сторон белая бумага, никакой подписи; на взгляд небольшой, но тугой и тяжелый, как будто в нем было листа три и более почтовой бумаги.
Что значит этот пакет? Без сомнения, им объяснилась бы вся эта тайна. Может быть, в нем досказано было то, чего не надеялся высказать Н-ой за короткостью торопливого свидания. Он даже не сходил с лошади… Торопился ли он, или, может быть, боялся изменить себе в час прощания, – бог знает…
Я остановился, не выходя на дорожку, бросил на нее пакет на самое видное место и не спускал с него глаз, полагая, что m-me M* заметит потерю, воротится, будет искать. Но, прождав минуты четыре, я не выдержал, поднял опять свою находку, положил в карман и пустился догонять m-me M*. Я настиг ее уже в саду, в большой аллее; она шла прямо домой, скорой и торопливой походкой, но задумавшись и потупив глаза в землю. Я не знал, что делать. Подойти, отдать? Это значило сказать, что я знаю все, видел все. Я изменил бы себе с первого слова. И как я буду смотреть на нее? Как она будет смотреть на меня?.. Я все ожидал, что она опомнится, хватится потерянного, воротится по следам своим. Тогда бы я мог, незамеченный, бросить пакет на дорогу, и она бы нашла его. Но нет! Мы уже подходили к дому; ее уже заметили…
В это утро, как нарочно, почти все поднялись очень рано, потому что еще вчера, вследствие неудавшейся поездки, задумали новую, о которой я и не знал. Все готовились к отъезду и завтракали на террасе. Я переждал минут десять, чтоб не видели меня с m-me M*, и, обойдя сад, вышел к дому с другой стороны, гораздо после нее. Она ходила взад и вперед по террасе, бледная и встревоженная, скрестив на груди руки и, по всему было видно, крепясь и усиливаясь подавить в себе мучительную, отчаянную тоску, которая так и вычитывалась в ее глазах, в ее ходьбе, во всяком движении ее. Иногда сходила она со ступенек и проходила несколько шагов между клумбами по направлению к саду; глаза ее нетерпеливо, жадно, даже неосторожно искали чего-то на песке дорожек и на полу террасы. Не было сомнения: она хватилась потери и, кажется, думает, что обронила пакет где-нибудь здесь, около дома, – да, это так, и она в этом уверена!
Кто-то, а затем и другие заметили, что она бледна и встревожена. Посыпались вопросы о здоровье, досадные сетования; она должна была отшучиваться, смеяться, казаться веселою. Изредка взглядывала она на мужа, который стоял в конце террасы, разговаривая с двумя дамами, и та же дрожь, то же смущение, как тогда, в первый вечер приезда его, охватывали бедную. Засунув руку в карман и крепко держа в ней пакет, я стоял поодаль от всех, моля судьбу, чтоб m-me M* меня заметила. Мне хотелось ободрить, успокоить ее, хоть бы только взглядом; сказать ей что-нибудь мельком, украдкой. Но когда она случайно взглянула на меня, я вздрогнул и потупил глаза.
Я видел ее мучения и не ошибся. Я до сих пор не знаю этой тайны, ничего не знаю, кроме того, что сам видел и что сейчас рассказал. Эта связь, может быть, не такова, как о ней предположить можно с первого взгляда. Может быть, этот поцелуй был прощальный, может быть, он был последнею, слабой наградой за жертву, которая была принесена ее спокойствию и чести. Н-ой уезжал; он оставлял ее, может быть, навсегда. Наконец, даже письмо это, которое я держал в руках, – кто знает, что оно заключало? Как судить и кому осуждать? А между тем, в этом нет сомнения, внезапное обнаружение тайны было бы ужасом, громовым ударом в ее жизни. Я еще помню лицо ее в ту минуту: нельзя было больше страдать. Чувствовать, знать, быть уверенной, ждать, как казни, что через четверть часа, через минуту могло быть обнаружено все; пакет кем-нибудь найден, поднят; он без надписи, его могут вскрыть, а тогда… что тогда? Какая казнь ужаснее той, которая ее ожидает? Она ходила между будущих судей своих. Через минуту их улыбавшиеся, льстивые лица будут грозны и неумолимы. Она прочтет насмешку, злость и ледяное презрение на этих лицах, а потом настанет вечная, безрассветная ночь в ее жизни… Да, я тогда не понимал всего этого так, как теперь об этом думаю. Мог я только подозревать и предчувствовать да болеть сердцем за ее опасность, которую даже не совсем сознавал. Но, что бы ни заключалось в ее тайне, – теми скорбными минутами, которых я был свидетелем и которых никогда не забуду, было искуплено многое, если только нужно было что-нибудь искупить.
Но вот раздался веселый призыв к отъезду; все радостно засуетились; со всех сторон раздался резвый говор и смех. Через две минуты терраса опустела. M-me M* отказалась от поездки, сознавшись наконец, что она нездорова. Но, слава богу, все отправились, все торопились, и докучать сетованиями, расспросами и советами было некогда. Немногие оставались дома. Муж сказал ей несколько слов; она отвечала, что сегодня же будет здорова, чтоб он не беспокоился, что ложиться ей не для чего, что она пойдет в сад, одна… со мною… Тут она взглянула на меня. Ничего не могло быть счастливее! Я покраснел от радости; через минуту мы были в дороге.
Она пошла по тем самым аллеям, дорожкам и тропинкам, по которым недавно возвращалась из рощи, инстинктивно припоминая свой прежний путь, неподвижно смотря перед собою, не отрывая глаз от земли, ища на ней, не отвечая мне, может быть забыв, что я иду вместе с нею.
Но когда мы дошли почти до того места, где я поднял письмо и где кончалась дорожка, m-me M* вдруг остановилась и слабым, замиравшим от тоски голосом сказала, что ей хуже, что она пойдет домой. Но, дойдя до решетки сада, она остановилась опять, подумала с минуту; улыбка отчаяния показалась на губах ее, и, вся обессиленная, измученная, решившись на все, покорившись всему, она молча воротилась на первый путь, в этот раз позабыв даже предупредить меня…
Я разрывался от тоски и не знал, что делать.
Мы пошли или, лучше сказать, я привел ее к тому месту, с которого услышал, час назад, топот коня и их разговор. Тут, вблизи густого вяза, была скамья, иссеченная в огромном цельном камне, вокруг которого обвивался плющ и росли полевой жасмин и шиповник. (Вся эта рощица была усеяна мостиками, беседками, гротами и тому подобными сюрпризами.) M-me M* села на скамейку, бессознательно взглянув на дивный пейзаж, расстилавшийся перед нами. Через минуту она развернула книгу и неподвижно приковалась к ней, не перелистывая страниц, не читая, почти не сознавая, что делает. Было уже половина десятого. Солнце взошло высоко и пышно плыло над нами по синему, глубокому небу, казалось, расплавляясь в собственном огне своем. Косари ушли уже далеко: их едва было видно с нашего берега. За ними неотвязчиво ползли бесконечные борозды скошенной травы, и изредка чуть шевелившийся ветерок веял на нас ее благовонной испариной. Кругом стоял неумолкаемый концерт тех, которые «не жнут и не сеют», а своевольны, как воздух, рассекаемый их резвыми крыльями. Казалось, что в это мгновение каждый цветок, последняя былинка, курясь жертвенным ароматом, говорила создавшему ее: «Отец! я блаженна и счастлива!»
Я взглянул на бедную женщину, которая одна была как мертвец среди всей этой радостной жизни: на ресницах ее неподвижно остановились две крупные слезы, вытравленные острою болью из сердца. В моей власти было оживить и осчастливить это бедное, замиравшее сердце, и я только не знал, как приступить к тому, как сделать первый шаг. Я мучился. Сто раз порывался я подойти к ней, и каждый раз какое-то невозбранное чувство приковывало меня на месте, и каждый раз как огонь горело лицо мое.
Вдруг одна светлая мысль озарила меня. Средство было найдено; я воскрес.
– Хотите, я вам букет нарву! – сказал я таким радостным голосом, что m-me M* вдруг подняла голову и пристально посмотрела на меня.
– Принеси, – проговорила она, наконец, слабым голосом, чуть-чуть улыбнувшись и тотчас же опять опустив глаза в книгу.
– А то и здесь, пожалуй, скосят траву и не будет цветов! – закричал я, весело пускаясь в поход.
Скоро я набрал мой букет, простой, бедный. Его бы стыдно было внести в комнату; но как весело билось мое сердце, когда я собирал и вязал его! Шиповнику и полевого жасмина взял я еще на месте. Я знал, что недалеко есть нива с дозревавшею рожью. Туда я сбегал за васильками. Я перемешал их с длинными колосьями ржи, выбрав самые золотые и тучные. Тут же, недалеко, попалось мне целое гнездо незабудок, и букет мой уже начинал наполняться. Далее, в поле, нашлись синие колокольчики и полевая гвоздика, а за водяными, желтыми лилиями сбегал я на самое прибрежье реки. Наконец, уже возвращаясь на место и зайдя на миг в рощу, чтоб промыслить несколько ярко-зеленых лапчатых листьев клена и обернуть ими букет, я случайно набрел на целое семейство анютиных глазок, вблизи которых, на мое счастье, ароматный фиалковый запах обличал в сочной, густой траве притаившийся цветок, еще весь обсыпанный блестящими каплями росы. Букет был готов. Я перевязал его длинной, тонкой травой, которую свил в бечеву, и вовнутрь осторожно вложил письмо, прикрыв его цветами, – но так, что его очень можно было заметить, если хоть маленьким вниманием подарят мой букет.
Я понес его к m-me M*.
Дорогой показалось мне, что письмо лежит слишком на виду: я побольше прикрыл его. Подойдя еще ближе, я вдвинул его еще плотнее в цветы и, наконец уже почти дойдя до места, вдруг сунул его так глубоко вовнутрь букета, что уже ничего не было приметно снаружи. На щеках моих горело целое пламя. Мне хотелось закрыть руками лицо и тотчас бежать, но она взглянула на мои цветы так, как будто совсем позабыла, что я пошел набирать их. Машинально, почти не глядя, протянула она руку и взяла мой подарок, но тотчас же положила его на скамью, как будто я затем и передавал ей его, и снова опустила глаза в книгу, точно была в забытьи. Я готов был плакать от неудачи. «Но только б мой букет был возле нее, – думал я, – только бы она о нем не забыла!» Я лег неподалеку на траву, положил под голову правую руку и закрыл глаза, будто меня одолевал сон. Но я не спускал с нее глаз и ждал…
Прошло минут десять; мне показалось, что она все больше и больше бледнела… Вдруг благословенный случай пришел мне на помощь.
Это была большая золотая пчела, которую принес добрый ветерок мне на счастье. Она пожужжала сперва над моей головою и потом подлетела к m-me M*. Та отмахнулась было рукою один и другой раз, но пчела, будто нарочно, становилась все неотвязчивее. Наконец m-me M* схватила мой букет и махнула им перед собою. В этот миг пакет вырвался из-под цветов и упал прямо в раскрытую книгу. Я вздрогнул. Некоторое время m-me M* смотрела, немая от изумления, то на пакет, то на цветы, которые держала в руках, и, казалось, не верила глазам своим… Вдруг она покраснела, вспыхнула и взглянула на меня. Но я уже перехватил ее взгляд и крепко закрыл глаза, притворяясь спящим; ни за что в мире я бы не взглянул теперь ей прямо в лицо. Сердце мое замирало и билось, словно пташка, попавшая в лапки кудрявого деревенского мальчугана. Не помню, сколько времени пролежал я, закрыв глаза: минуты две-три. Наконец я осмелился их открыть. M-me M* жадно читала письмо, и, по разгоревшимся ее щекам, по сверкавшему, слезящемуся взгляду, по светлому лицу, в котором каждая черточка трепетала от радостного ощущения, я догадался, что счастье было в этом письме и что развеяна как дым вся тоска ее. Мучительно-сладкое чувство присосалось к моему сердцу, тяжело было мне притворяться…
Никогда не забуду я этой минуты!
Вдруг, еще далеко от нас, послышались голоса:
– Madame M*! Natalie! Natalie!
M-me M* не отвечала, но быстро поднялась со скамьи, подошла ко мне и наклонилась надо мною. Я чувствовал, что она смотрит мне прямо в лицо. Ресницы мои задрожали, но я удержался и не открыл глаз. Я старался дышать ровнее и спокойнее, но сердце задушало меня своими смятенными ударами. Горячее дыхание ее палило мои щеки; она близко-близко нагнулась к лицу моему, словно испытывая его. Наконец, поцелуй и слезы упали на мою руку, на ту, которая лежала у меня на груди. И два раза она поцеловала ее.
– Natalie! Natalie! где ты? – послышалось снова, уже очень близко от нас.
– Сейчас! – проговорила m-me M* своим густым, серебристым голосом, но заглушенным и дрожавшим от слез, и так тихо, что только я один мог слышать ее, – сейчас!
Но в этот миг сердце наконец изменило мне и, казалось, выслало всю свою кровь мне в лицо. В тот же миг скорый, горячий поцелуй обжег мои губы. Я слабо вскрикнул, открыл глаза, но тотчас же на них упал вчерашний газовый платочек ее, – как будто она хотела закрыть меня им от солнца. Мгновение спустя ее уже не было. Я расслышал только шелест торопливо удалявшихся шагов. Я был один.
Я сорвал с себя ее косынку и целовал ее, не помня себя от восторга; несколько минут я был как безумный!.. Едва переводя дух, облокотясь на траву, глядел я, бессознательно и неподвижно, перед собою, на окрестные холмы, пестревшие нивами, на реку, извилисто обтекавшую их и далеко, как только мог следить глаз, вьющуюся между новыми холмами и селами, мелькавшими, как точки, по всей, залитой светом, дали, на синие, чуть видневшиеся леса, как будто курившиеся на краю раскаленного неба, и какое-то сладкое затишье, будто навеянное торжественною тишиною картины, мало-помалу смирило мое возмущенное сердце. Мне стало легче, я вздохнул свободнее… Но вся душа моя как-то глухо и сладко томилась, будто прозрением чего-то, будто каким-то предчувствием. Что-то робко и радостно отгадывалось испуганным сердцем моим, слегка трепетавшим от ожидания… И вдруг грудь моя заколебалась, заныла, словно от чего-то пронзившего ее, и слезы, сладкие слезы брызнули из глаз моих. Я закрыл руками лицо и, весь трепеща, как былинка, невозбранно отдался первому сознанию и откровению сердца, первому, еще неясному прозрению природы моей… Первое детство мое кончилось с этим мгновением…
Когда, через два часа, я воротился домой, то не нашел уже m-me M*: она уехала с мужем в Москву, по какому-то внезапному случаю. Я уже никогда более не встречался с нею.
Скверный анекдот
Этот скверный анекдот случился именно в то самое время, когда началось с такою неудержимою силою и с таким трогательно-наивным порывом возрождение нашего любезного отечества и стремление всех доблестных сынов его к новым судьбам и надеждам. Тогда, однажды зимой, в ясный и морозный вечер, впрочем часу уже в двенадцатом, три чрезвычайно почтенные мужа сидели в комфортной и даже роскошно убранной комнате, в одном прекрасном двухэтажном доме на Петербургской стороне и занимались солидным и превосходным разговором на весьма любопытную тему. Эти три мужа были все трое в генеральских чинах. Сидели они вокруг маленького столика, каждый в прекрасном, мягком кресле, и между разговором тихо и комфортно потягивали шампанское. Бутылка стояла тут же на столике в серебряной вазе – со льдом. Дело в том, что хозяин, тайный советник Степан Никифорович Никифоров, старый холостяк лет шестидесяти пяти, праздновал свое новоселье в только что купленном доме, а кстати уж и день своего рождения, который тут же пришелся и который он никогда до сих пор не праздновал. Впрочем, празднование было не бог знает какое; как мы уже видели, было только двое гостей, оба прежние сослуживцы г-на Никифорова и прежние его подчиненные, а именно: действительный статский советник Семен Иванович Шипуленко и другой, тоже действительный статский советник, Иван Ильич Пралинский. Они пришли часов в девять, кушали чай, потом принялись за вино и знали, что ровно в половине двенадцатого им надо отправляться домой. Хозяин всю жизнь любил регулярность. Два слова о нем: начал он свою карьеру мелким необеспеченным чиновником, спокойно тянул канитель лет сорок пять сряду, очень хорошо знал, до чего дослужится, терпеть не мог хватать с неба звезды, хотя имел их уже две, и особенно не любил высказывать по какому бы то ни было поводу свое собственное личное мнение. Был он и честен, то есть ему не пришлось сделать чего-нибудь особенно бесчестного; был холост, потому что был эгоист; был очень не глуп, но терпеть не мог выказывать свой ум; особенно не любил неряшества и восторженности, считая ее неряшеством нравственным, и под конец жизни совершенно погрузился в какой-то сладкий, ленивый комфорт и систематическое одиночество. Хотя сам он и бывает иногда в гостях у людей получше, но еще смолоду терпеть не мог гостей у себя, а в последнее время, если не раскладывал гранпасьянс, довольствовался обществом своих столовых часов и по целым вечерам невозмутимо выслушивал, дремля в креслах, их тиканье под стеклянным колпаком на камине. Наружности был он чрезвычайно приличной и выбритой, казался моложе своих лет, хорошо сохранился, обещал прожить еще долго и держался самого строгого джентльменства. Место у него было довольно комфортное: он где-то заседал и что-то подписывал. Одним словом, его считали превосходнейшим человеком. Была у него одна только страсть или, лучше сказать, одно горячее желанье: это – иметь свой собственный дом, и именно дом, выстроенный на барскую, а не на капитальную ногу. Желанье его наконец осуществилось: он приглядел и купил дом на Петербургской стороне, правда далеко, но дом с садом, и притом дом изящный. Новый хозяин рассуждал, что оно и лучше, если подальше: у себя принимать он не любил, а ездить к кому-нибудь или в должность – на то была у него прекрасная двуместная карета шоколадного цвету, кучер Михей и две маленькие, но крепкие и красивые лошадки. Все это было благоприобретенное сорокалетней, кропотливой экономией, так что сердце на все это радовалось. Вот почему, приобретя дом и переехав в него, Степан Никифорович ощутил в своем спокойном сердце такое довольство, что пригласил даже гостей на свое рожденье, которое прежде тщательно утаивал от самых близких знакомых. На одного из приглашенных он имел даже особые виды. Сам он в доме занял верхний этаж, а в нижний, точно так же выстроенный и расположенный, понадобилось жильца. Степан Никифорович и рассчитывал на Семена Ивановича Шипуленко и в этот вечер даже два раза сводил разговор на эту тему. Но Семен Иванович на этот счет отмалчивался. Это был человек тоже туго и долговременно пробивавший себе дорогу, с черными волосами и бакенбардами и с оттенком постоянного разлития желчи в физиономии. Был он женат, был угрюмый домосед, свой дом держал в страхе, служил с самоуверенностию, тоже прекрасно знал, до чего он дойдет, и еще лучше – до чего никогда не дойдет, сидел на хорошем месте и сидел очень крепко. На начинавшиеся новые порядки он смотрел хоть и не без желчи, но особенно не тревожился: он был очень уверен в себе и не без насмешливой злобы выслушивал разглагольствия Ивана Ильича Пралинского на новые темы. Впрочем, все они отчасти подвыпили, так что даже сам Степан Никифорович снизошел до господина Пралинского и вступил с ним в легкий спор о новых порядках. Но несколько слов о его превосходительстве господине Пралинском, тем более что он-то и есть главный герой предстоящего рассказа.
Действительный статский советник Иван Ильич Пралинский всего только четыре месяца как назывался вашим превосходительством, одним словом, был генерал молодой. Он и по летам был еще молод, лет сорока трех и никак не более, на вид же казался и любил казаться моложе. Это был мужчина красивый, высокого роста, щеголял костюмом и изысканной солидностью в костюме, с большим уменьем носил значительный орден на шее, умел еще с детства усвоить несколько великосветских замашек и, будучи холостой, мечтал о богатой и даже великосветской невесте. Он о многом еще мечтал, хотя был далеко не глуп. Подчас он был большой говорун и даже любил принимать парламентские позы. Происходил он из хорошего дома, был генеральский сын и белоручка, в нежном детстве своем ходил в бархате и батисте, воспитывался в аристократическом заведении и хоть вынес из него не много познаний, но на службе успел и дотянул до генеральства. Начальство считало его человеком способным и даже возлагало на него надежды. Степан Никифорович, под началом которого он и начал и продолжал свою службу почти до самого генеральства, никогда не считал его за человека весьма делового и надежд на него не возлагал никаких. Но ему нравилось, что он из хорошего дома, имеет состояние, то есть большой капитальный дом с управителем, сродни не последним людям и, сверх того, обладает осанкой. Степан Никифорович хулил его про себя за избыток воображения и легкомыслие. Сам Иван Ильич чувствовал иногда, что он слишком самолюбив и даже щекотлив. Странное дело: подчас на него находили припадки какой-то болезненной совестливости и даже легкого в чем-то раскаянья. С горечью и с тайной занозой в душе сознавался он иногда, что вовсе не так высоко летает, как ему думается. В эти минуты он даже впадал в какое-то уныние, особенно когда разыгрывался его геморрой, называл свою жизнь une existence manquеe[1 - Неудавшейся жизнью (фр.).], переставал верить, разумеется про себя, даже в свои парламентские способности, называя себя парлером, фразером, и хотя все это, конечно, приносило ему много чести, но отнюдь не мешало через полчаса опять подымать свою голову и тем упорнее, тем заносчивее ободряться и уверять себя, что он еще успеет проявиться и будет не только сановником, но даже государственным мужем, которого долго будет помнить Россия. Из этого видно, что Иван Ильич хватал высоко, хотя и глубоко, даже с некоторым страхом, таил про себя свои неопределенные мечты и надежды. Одним словом, человек он был добрый и даже поэт в душе. В последние годы болезненные минуты разочарованья стали было чаще посещать его. Он сделался как-то особенно раздражителен, мнителен и всякое возражение готов был считать за обиду. Но обновляющаяся Россия подала ему вдруг большие надежды. Генеральство их довершило. Он воспрянул; он поднял голову. Он вдруг начал говорить красноречиво и много, говорить на самые новые темы, которые чрезвычайно быстро и неожиданно усвоил себе до ярости. Он искал случая говорить, ездил по городу и во многих местах успел прослыть отчаянным либералом, что очень ему льстило. В этот же вечер, выпив бокала четыре, он особенно разгулялся. Ему захотелось переубедить во всем Степана Никифоровича, которого он перед этим давно не видал и которого до сих пор всегда уважал и даже слушался. Он почему-то считал его ретроградом и напал на него с необыкновенным жаром. Степан Никифорович почти не возражал, а только лукаво слушал, хотя тема интересовала его. Иван Ильич горячился и в жару воображаемого спора чаще, чем бы следовало, пробовал из своего бокала. Тогда Степан Никифорович брал бутылку и тотчас же добавлял его бокал, что, неизвестно почему, начало вдруг обижать Иван Ильича, тем более что Семен Иваныч Шипуленко, которого он особенно презирал и, сверх того, даже боялся за цинизм и за злость его, тут же сбоку прековарно молчал и чаще, чем бы следовало, улыбался. «Они, кажется, принимают меня за мальчишку», – мелькнуло в голове Ивана Ильича.
– Нет-с, пора, давно уж пора было, – продолжал он с азартом. – Слишком опоздали-с, и, на мой взгляд, гуманность первое дело, гуманность с подчиненными, памятуя, что и они человеки. Гуманность все спасет и все вывезет…
– Хи-хи-хи-хи! – послышалось со стороны Семена Ивановича.
– Да что же, однако ж, вы нас так распекаете, – возразил наконец Степан Никифорович, любезно улыбаясь. – Признаюсь, Иван Ильич, до сих пор не могу взять в толк, что вы изволили объяснять. Вы выставляете гуманность. Это значит человеколюбие, что ли?
– Да, пожалуй, хоть и человеколюбие. Я…
– Позвольте-с. Сколько могу судить, дело не в одном этом. Человеколюбие всегда следовало. Реформа же этим не ограничивается. Поднялись вопросы крестьянские, судебные, хозяйственные, откупные, нравственные и… и… и без конца их, этих вопросов, и всё вместе, всё разом может породить большие, так сказать, колебанья. Вот мы про что опасались, а не об одной гуманности…
– Да-с, дело поглубже-с, – заметил Семен Иванович.
– Очень понимаю-с, и позвольте вам заметить, Семен Иванович, что я отнюдь не соглашусь отстать от вас в глубине понимания вещей, – язвительно и чересчур резко заметил Иван Ильич, – но, однако ж, все-таки возьму на себя смелость заметить и вам, Степан Никифорович, что вы тоже меня вовсе не поняли.
– Не понял.
– А между тем я именно держусь и везде провожу идею, что гуманность, и именно гуманность с подчиненными, от чиновника до писаря, от писаря до дворового слуги, от слуги до мужика, – гуманность, говорю я, может послужить, так сказать, краеугольным камнем предстоящих реформ и вообще к обновлению вещей. Почему? Потому. Возьмите силлогизм: я гуманен, следовательно, меня любят. Меня любят, стало быть, чувствуют доверенность. Чувствуют доверенность, стало быть, веруют; веруют, стало быть, любят… то есть нет, я хочу сказать, если веруют, то будут верить и в реформу, поймут, так сказать, самую суть дела, так сказать, обнимутся нравственно и решат всё дело дружески, основательно. Чего вы смеетесь, Семен Иванович? Непонятно?
Степан Никифорович молча поднял брови; он удивлялся.
– Мне кажется, я немного лишнее выпил, – заметил ядовито Семен Иваныч, – а потому и туг на соображение. Некоторое затмение в уме-с.