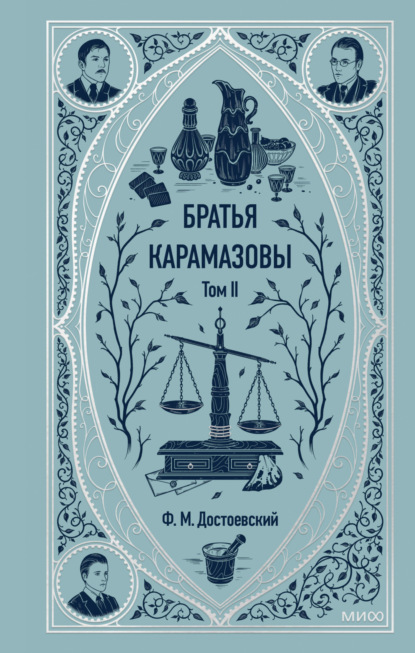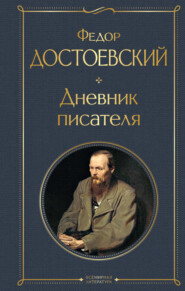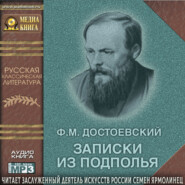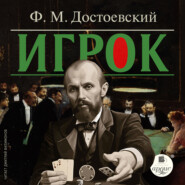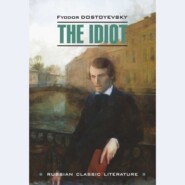По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Братья Карамазовы. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ракитин удивлялся на их восторженность и обидчиво злился, хотя и мог бы сообразить, что у обоих как раз сошлось все, что могло потрясти их души так, как случается это нечасто в жизни. Но Ракитин, умевший весьма чувствительно понимать все, что касалось его самого, был очень груб в понимании чувств и ощущений ближних своих – отчасти по молодой неопытности своей, а отчасти и по великому своему эгоизму.
– Видишь, Алешечка, – нервно рассмеялась вдруг Грушенька, обращаясь к нему, – это я Ракитке похвалилась, что луковку подала, а тебе не похвалюсь, я тебе с иной целью это скажу. Это только басня, но она хорошая басня, я ее, еще дитей была, от моей Матрены, что теперь у меня в кухарках служит, слышала. Видишь, как это: «Жила-была одна баба злющая-презлющая и померла. И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. А ангел-хранитель ее стоит да и думает: какую бы мне такую добродетель ее припомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу: она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему Бог: возьми ж ты, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется, и коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, а оборвется луковка, то там и оставаться бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку: на, говорит, баба, схватись и тянись. И стал он ее осторожно тянуть и уж всю было вытянул, да грешники прочие в озере, как увидали, что ее тянут вон, и стали все за нее хвататься, чтоб и их вместе с нею вытянули. А баба-то была злющая-презлющая, и почала она их ногами брыкать: „Меня тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша“. Только что она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро и горит по сей день. А ангел заплакал и отошел». Вот она эта басня, Алеша, наизусть запомнила, потому что сама я и есть эта самая баба злющая. Ракитке я похвалилась, что луковку подала, а тебе иначе скажу: всего-то я луковку какую-нибудь во всю жизнь мою подала, всего только на мне и есть добродетели. И не хвали ты меня после того, Алеша, не почитай меня доброю, злая я, злющая-презлющая, а будешь хвалить, в стыд введешь. Эх, да уж покаюсь совсем. Слушай, Алеша: я тебя столь желала к себе залучить и столь приставала к Ракитке, что ему двадцать пять рублей пообещала, если тебя ко мне приведет. Стой, Ракитка, жди! – Она быстрыми шагами подошла к столу, отворила ящик, вынула портмоне, а из него двадцатипятирублевую кредитку.
– Экой вздор! Экой вздор! – восклицал озадаченный Ракитин.
– Принимай, Ракитка, долг, небось не откажешься, сам просил. – И швырнула ему кредитку.
– Еще б отказаться, – пробасил Ракитин, видимо сконфузившись, но молодцевато прикрывая стыд, – это нам вельми на руку будет, дураки и существуют в профит умному человеку.
– А теперь молчи, Ракитка, теперь все, что буду говорить, не для твоих ушей будет. Садись сюда в угол и молчи, не любишь ты нас, и молчи.
– Да за что мне любить-то вас? – не скрывая уже злобы, огрызнулся Ракитин. Двадцатипятирублевую кредитку он сунул в карман, и пред Алешей ему было решительно стыдно. Он рассчитывал получить плату после, так чтобы тот и не узнал, а теперь от стыда озлился. До сей минуты он находил весьма политичным не очень противоречить Грушеньке, несмотря на все ее щелчки, ибо видно было, что она имела над ним какую-то власть. Но теперь и он рассердился:
– Любят за что-нибудь, а вы что мне сделали оба?
– А ты ни за что люби, вот как Алеша любит.
– А чем он тебя любит, и что он тебе такого показал, что ты носишься?
Грушенька стояла среди комнаты, говорила с жаром, и в голосе ее послышались истерические нотки.
– Молчи, Ракитка, не понимаешь ты ничего у нас! И не смей ты мне впредь ты говорить, не хочу тебе позволять, и с чего ты такую смелость взял, вот что! Садись в угол и молчи, как мой лакей. А теперь, Алеша, всю правду чистую тебе одному скажу, чтобы ты видел, какая я тварь! Не Ракитке, а тебе говорю. Хотела я тебя погубить, Алеша, правда это великая, совсем положила; до того хотела, что Ракитку деньгами подкупила, чтобы тебя привел. И из чего такого я так захотела? Ты, Алеша, и не знал ничего, от меня отворачивался, пройдешь – глаза опустишь, а я на тебя сто раз до сего глядела, всех спрашивать об тебе начала. Лицо твое у меня в сердце осталось: «Презирает он меня, думаю, посмотреть даже на меня не захочет». И такое меня чувство взяло под конец, что сама себе удивляюсь: чего я такого мальчика боюсь? Проглочу его всего и смеяться буду. Обозлилась совсем. Веришь ли тому: никто-то здесь не смеет сказать и подумать, чтоб к Аграфене Александровне за худым этим делом прийти; старик один только тут у меня, связана я ему и продана, сатана нас венчал, зато из других – никто. Но на тебя глядя, положила: его проглочу. Проглочу и смеяться буду. Видишь, какая я злая собака, которую ты сестрой своею назвал! Вот теперь приехал этот обидчик мой, сижу теперь и жду вести. А знаешь, чем был мне этот обидчик? Пять лет тому как завез меня сюда Кузьма – так я сижу, бывало, от людей хоронюсь, чтоб меня не видали и не слыхали, тоненькая, глупенькая, сижу да рыдаю, ночей напролет не сплю – думаю: «И уж где ж он теперь, мой обидчик? Смеется, должно быть, с другою надо мной, и уж я ж его, думаю, только бы увидеть его, встретить когда: то уж я ж ему отплачу, уж я ж ему отплачу!» Ночью в темноте рыдаю в подушку и все это передумаю, сердце мое раздираю нарочно, злобой его утоляю: «Уж я ж ему, уж я ж ему отплачу!» Так, бывало, и закричу в темноте. Да как вспомню вдруг, что ничего-то я ему не сделаю, а он-то надо мной смеется теперь, а может, и совсем забыл и не помнит, так кинусь с постели на пол, зальюсь бессильною слезой и трясусь-трясусь до рассвета. Поутру встану злее собаки, рада весь свет проглотить. Потом, что ж ты думаешь: стала я капитал копить, без жалости сделалась, растолстела – поумнела, ты думаешь, а? Так вот нет же, никто того не видит и не знает во всей вселенной, а как сойдет мрак ночной, все так же, как и девчонкой, пять лет тому, лежу иной раз, скрежещу зубами и всю ночь плачу: «Уж я ж ему, да уж я ж ему, думаю!» Слышал ты это все? Ну так как же ты теперь понимаешь меня: месяц тому приходит ко мне вдруг это самое письмо: едет он, овдовел, со мной повидаться хочет. Дух у меня тогда весь захватило, господи, да вдруг и подумала: а приедет да свистнет мне, позовет меня, так я как собачонка к нему поползу битая, виноватая! Думаю это я и сама себе не верю: «Подлая я аль не подлая, побегу я к нему аль не побегу?» И такая меня злость взяла теперь на самое себя во весь этот месяц, что хуже еще, чем пять лет тому. Видишь ли теперь, Алеша, какая я неистовая, какая я яростная, всю тебе правду выразила! Митей забавлялась, чтобы к тому не бежать. Молчи, Ракитка, не тебе меня судить, не тебе говорила. Я теперь до вашего прихода лежала здесь, ждала, думала, судьбу мою всю разрешала, и никогда вам не узнать, что у меня в сердце было. Нет, Алеша, скажи своей барышне, чтоб она за третьеводнишнее не сердилась!.. И не знает никто во всем свете, каково мне теперь, да и не может знать… Потому я, может быть, сегодня туда с собой нож возьму, я еще того не решила…
И, вымолвив это «жалкое» слово, Грушенька вдруг не выдержала, не докончила, закрыла лицо руками, бросилась на диван в подушки и зарыдала как малое дитя. Алеша встал с места и подошел к Ракитину.
– Миша, – проговорил он, – не сердись. Ты обижен ею, но не сердись. Слышал ты ее сейчас? Нельзя с души человека столько спрашивать, надо быть милосерднее…
Алеша проговорил это в неудержимом порыве сердца. Ему надо было высказаться, и он обратился к Ракитину. Если б не было Ракитина, он стал бы восклицать один. Но Ракитин поглядел насмешливо, и Алеша вдруг остановился.
– Это тебя твоим старцем давеча зарядили, и теперь ты своим старцем в меня и выпалил, Алешенька, Божий человечек, – с ненавистною улыбкой проговорил Ракитин.
– Не смейся, Ракитин, не усмехайся, не говори про покойника: он выше всех, кто был на земле! – с плачем в голосе прокричал Алеша. – Я не как судья тебе встал говорить, а сам как последний из подсудимых. Кто я пред нею? Я шел сюда, чтобы погибнуть, и говорил: «Пусть, пусть!» – и это из-за моего малодушия, а она через пять лет муки, только что кто-то первый пришел и ей искреннее слово сказал, – все простила, все забыла и плачет! Обидчик ее воротился, зовет ее, и она все прощает ему, и спешит к нему в радости, и не возьмет ножа, не возьмет! Нет, я не таков. Я не знаю, таков ли ты, Миша, но я не таков! Я сегодня, сейчас этот урок получил… Она выше любовью, чем мы… Слышал ли ты от нее прежде то, что она рассказала теперь? Нет, не слышал; если бы слышал, то давно бы все понял… и другая, обиженная третьего дня, и та пусть простит ее! И простит, коль узнает… и узнает… Эта душа еще не примиренная, надо щадить ее… в душе этой может быть сокровище…
Алеша замолк, потому что ему пересекло дыхание. Ракитин, несмотря на всю свою злость, глядел с удивлением. Никогда не ожидал он от тихого Алеши такой тирады.
– Вот адвокат проявился! Да ты влюбился в нее, что ли? Аграфена Александровна, ведь постник-то наш и впрямь в тебя влюбился, победила! – прокричал он с наглым смехом.
Грушенька подняла с подушки голову и поглядела на Алешу с умиленною улыбкой, засиявшею на ее как-то вдруг распухшем от сейчашних слез лице.
– Оставь ты его, Алеша, херувим ты мой, видишь, он какой, нашел кому говорить. Я, Михаил Осипович, – обратилась она к Ракитину, – хотела было у тебя прощения попросить за то, что обругала тебя, да теперь опять не хочу. Алеша, поди ко мне, сядь сюда, – манила она его с радостною улыбкой, – вот так, вот садись сюда, скажи ты мне (она взяла его за руку и заглядывала ему, улыбаясь, в лицо), – скажи ты мне: люблю я того или нет? Обидчика-то моего, люблю или нет? Лежала я до вас здесь в темноте, все допрашивала сердце: люблю я того или нет? Разреши ты меня, Алеша, время пришло; что положишь, так и будет. Простить мне его или нет?
– Да ведь уж простила, – улыбаясь проговорил Алеша.
– А и впрямь простила, – вдумчиво произнесла Грушенька. – Экое ведь подлое сердце! За подлое сердце мое! – схватила она вдруг со стола бокал, разом выпила, подняла его и с размаха бросила на пол. Бокал разбился и зазвенел. Какая-то жестокая черточка мелькнула в ее улыбке.
– А ведь, может, еще и не простила, – как-то грозно проговорила она, опустив глаза в землю, как будто одна сама с собой говорила. – Может, еще только собирается сердце простить. Поборюсь еще с сердцем-то. Я, видишь, Алеша, слезы мои пятилетние страх полюбила… Я, может, только обиду мою и полюбила, а не его вовсе!
– Ну не хотел бы я быть в его коже! – прошипел Ракитин.
– И не будешь, Ракитка, никогда в его коже не будешь. Ты мне башмаки будешь шить, Ракитка, вот я тебя на какое дело употреблю, а такой, как я, тебе никогда не видать… Да и ему, может, не увидать…
– Ему-то? А нарядилась-то зачем? – ехидно поддразнил Ракитин.
– Не кори меня нарядом, Ракитка, не знаешь еще ты всего моего сердца! Захочу, и сорву наряд, сейчас сорву, сию минуту, – звонко прокричала она. – Не знаешь ты, для чего этот наряд, Ракитка! Может, выйду к нему и скажу: «Видал ты меня такую аль нет еще?» Ведь он меня семнадцатилетнюю, тоненькую, чахоточную плаксу оставил. Да подсяду к нему, да обольщу, да разожгу его: «Видал ты, какова я теперь, скажу, ну так и оставайся при том, милостивый государь, по усам текло, а в рот не попало!» – вот ведь к чему, может, этот наряд, Ракитка, – закончила Грушенька со злобным смешком. – Неистовая я, Алеша, яростная. Сорву я мой наряд, изувечу я себя, мою красоту, обожгу себе лицо и разрежу ножом, пойду милостыню просить. Захочу, и не пойду я теперь никуда и ни к кому, захочу – завтра же отошлю Кузьме все, что он мне подарил, и все деньги его, а сама на всю жизнь работницей поденной пойду!.. Думаешь, не сделаю я того, Ракитка, не посмею сделать? Сделаю, сделаю, сейчас могу сделать, не раздражайте только меня… а того прогоню, тому шиш покажу, тому меня не видать!
Последние слова она истерически прокричала, но не выдержала опять, закрыла руками лицо, бросилась в подушку и опять затряслась от рыданий. Ракитин встал с места.
– Пора, – сказал он, – поздно, в монастырь не пропустят.
Грушенька так и вскочила с места.
– Да неужто ж ты уходить, Алеша, хочешь! – воскликнула она в горестном изумлении, – да что ж ты надо мной теперь делаешь: всю воззвал, истерзал, и опять теперь эта ночь, опять мне одной оставаться!
– Не ночевать же ему у тебя? А коли хочет – пусть! Я и один уйду! – язвительно подшутил Ракитин.
– Молчи, злая душа, – яростно крикнула ему Грушенька, – никогда ты мне таких слов не говорил, какие он мне пришел сказать.
– Что он такое тебе сказал? – раздражительно проворчал Ракитин.
– Не знаю я, не ведаю, ничего не ведаю, что он мне такое сказал, сердцу сказалось, сердце он мне перевернул… Пожалел он меня первый, единый, вот что! Зачем ты, херувим, не приходил прежде, – упала вдруг она пред ним на колени, как бы в исступлении. – Я всю жизнь такого, как ты, ждала, знала, что кто-то такой придет и меня простит. Верила, что и меня кто-то полюбит, гадкую, не за один только срам!..
– Что я тебе такого сделал? – умиленно улыбаясь, отвечал Алеша, нагнувшись к ней и нежно взяв ее за руки, – луковку я тебе подал, одну самую малую луковку, только, только!..
И, проговорив, сам заплакал. В эту минуту в сенях вдруг раздался шум, кто-то вошел в переднюю; Грушенька вскочила как бы в страшном испуге. В комнату с шумом и криком вбежала Феня.
– Барыня, голубушка, барыня, эстафет прискакал! – восклицала она весело и запыхавшись. – Тарантас из Мокрого за вами, Тимофей ямщик на тройке, сейчас новых лошадей переложат… Письмо, письмо, барыня, вот письмо!
Письмо было в ее руке, и она все время, пока кричала, махала им по воздуху. Грушенька выхватила от нее письмо и поднесла к свечке. Это была только записочка, несколько строк, в один миг она прочла ее.
– Кликнул! – прокричала она, вся бледная, с перекосившимся от болезненной улыбки лицом, – свистнул! Ползи, собачонка!
Но только миг один простояла как бы в нерешимости; вдруг кровь бросилась в ее голову и залила ее щеки огнем.
– Еду! – воскликнула она вдруг. – Пять моих лет! Прощайте! Прощай, Алеша, решена судьба… Ступайте, ступайте, ступайте от меня теперь все, чтоб я уже вас не видала!.. Полетела Грушенька в новую жизнь… Не поминай меня лихом и ты, Ракитка. Может, на смерть иду! Ух! Словно пьяная!
Она вдруг бросила их и побежала в свою спальню.
– Ну, ей теперь не до нас! – проворчал Ракитин. – Идем, а то, пожалуй, опять этот бабий крик пойдет, надоели уж мне эти слезные крики…
Алеша дал себя машинально вывести. На дворе стоял тарантас, выпрягали лошадей, ходили с фонарем, суетились. В отворенные ворота вводили свежую тройку. Но только что сошли Алеша и Ракитин с крыльца, как вдруг отворилось окно из спальни Грушеньки, и она звонким голосом прокричала вслед Алеше:
– Алешечка, поклонись своему братцу Митеньке, да скажи ему, чтобы не поминал меня, злодейку свою, лихом. Да передай ему тоже моими словами: «Подлецу досталась Грушенька, а не тебе, благородному!» Да прибавь ему тоже, что любила его Грушенька один часок времени, только один часок всего и любила – так чтоб он этот часок всю жизнь свою отселева помнил, так, дескать, Грушенька на всю жизнь тебе заказала!..
Она закончила голосом, полным рыданий. Окно захлопнулось.
– Гм, гм! – промычал Ракитин, смеясь, – зарезала братца Митеньку, да еще велит на всю жизнь свою помнить. Экое плотоядие!
Алеша ничего не ответил, точно и не слыхал; он шел подле Ракитина скоро, как бы ужасно спеша; он был как бы в забытьи, шел машинально. Ракитина вдруг что-то укололо, точно ранку его свежую тронули пальцем. Совсем не того ждал он давеча, когда сводил Грушеньку с Алешей; совсем иное случилось, а не то, чего бы ему очень хотелось.
– Видишь, Алешечка, – нервно рассмеялась вдруг Грушенька, обращаясь к нему, – это я Ракитке похвалилась, что луковку подала, а тебе не похвалюсь, я тебе с иной целью это скажу. Это только басня, но она хорошая басня, я ее, еще дитей была, от моей Матрены, что теперь у меня в кухарках служит, слышала. Видишь, как это: «Жила-была одна баба злющая-презлющая и померла. И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. А ангел-хранитель ее стоит да и думает: какую бы мне такую добродетель ее припомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу: она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему Бог: возьми ж ты, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется, и коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, а оборвется луковка, то там и оставаться бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку: на, говорит, баба, схватись и тянись. И стал он ее осторожно тянуть и уж всю было вытянул, да грешники прочие в озере, как увидали, что ее тянут вон, и стали все за нее хвататься, чтоб и их вместе с нею вытянули. А баба-то была злющая-презлющая, и почала она их ногами брыкать: „Меня тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша“. Только что она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро и горит по сей день. А ангел заплакал и отошел». Вот она эта басня, Алеша, наизусть запомнила, потому что сама я и есть эта самая баба злющая. Ракитке я похвалилась, что луковку подала, а тебе иначе скажу: всего-то я луковку какую-нибудь во всю жизнь мою подала, всего только на мне и есть добродетели. И не хвали ты меня после того, Алеша, не почитай меня доброю, злая я, злющая-презлющая, а будешь хвалить, в стыд введешь. Эх, да уж покаюсь совсем. Слушай, Алеша: я тебя столь желала к себе залучить и столь приставала к Ракитке, что ему двадцать пять рублей пообещала, если тебя ко мне приведет. Стой, Ракитка, жди! – Она быстрыми шагами подошла к столу, отворила ящик, вынула портмоне, а из него двадцатипятирублевую кредитку.
– Экой вздор! Экой вздор! – восклицал озадаченный Ракитин.
– Принимай, Ракитка, долг, небось не откажешься, сам просил. – И швырнула ему кредитку.
– Еще б отказаться, – пробасил Ракитин, видимо сконфузившись, но молодцевато прикрывая стыд, – это нам вельми на руку будет, дураки и существуют в профит умному человеку.
– А теперь молчи, Ракитка, теперь все, что буду говорить, не для твоих ушей будет. Садись сюда в угол и молчи, не любишь ты нас, и молчи.
– Да за что мне любить-то вас? – не скрывая уже злобы, огрызнулся Ракитин. Двадцатипятирублевую кредитку он сунул в карман, и пред Алешей ему было решительно стыдно. Он рассчитывал получить плату после, так чтобы тот и не узнал, а теперь от стыда озлился. До сей минуты он находил весьма политичным не очень противоречить Грушеньке, несмотря на все ее щелчки, ибо видно было, что она имела над ним какую-то власть. Но теперь и он рассердился:
– Любят за что-нибудь, а вы что мне сделали оба?
– А ты ни за что люби, вот как Алеша любит.
– А чем он тебя любит, и что он тебе такого показал, что ты носишься?
Грушенька стояла среди комнаты, говорила с жаром, и в голосе ее послышались истерические нотки.
– Молчи, Ракитка, не понимаешь ты ничего у нас! И не смей ты мне впредь ты говорить, не хочу тебе позволять, и с чего ты такую смелость взял, вот что! Садись в угол и молчи, как мой лакей. А теперь, Алеша, всю правду чистую тебе одному скажу, чтобы ты видел, какая я тварь! Не Ракитке, а тебе говорю. Хотела я тебя погубить, Алеша, правда это великая, совсем положила; до того хотела, что Ракитку деньгами подкупила, чтобы тебя привел. И из чего такого я так захотела? Ты, Алеша, и не знал ничего, от меня отворачивался, пройдешь – глаза опустишь, а я на тебя сто раз до сего глядела, всех спрашивать об тебе начала. Лицо твое у меня в сердце осталось: «Презирает он меня, думаю, посмотреть даже на меня не захочет». И такое меня чувство взяло под конец, что сама себе удивляюсь: чего я такого мальчика боюсь? Проглочу его всего и смеяться буду. Обозлилась совсем. Веришь ли тому: никто-то здесь не смеет сказать и подумать, чтоб к Аграфене Александровне за худым этим делом прийти; старик один только тут у меня, связана я ему и продана, сатана нас венчал, зато из других – никто. Но на тебя глядя, положила: его проглочу. Проглочу и смеяться буду. Видишь, какая я злая собака, которую ты сестрой своею назвал! Вот теперь приехал этот обидчик мой, сижу теперь и жду вести. А знаешь, чем был мне этот обидчик? Пять лет тому как завез меня сюда Кузьма – так я сижу, бывало, от людей хоронюсь, чтоб меня не видали и не слыхали, тоненькая, глупенькая, сижу да рыдаю, ночей напролет не сплю – думаю: «И уж где ж он теперь, мой обидчик? Смеется, должно быть, с другою надо мной, и уж я ж его, думаю, только бы увидеть его, встретить когда: то уж я ж ему отплачу, уж я ж ему отплачу!» Ночью в темноте рыдаю в подушку и все это передумаю, сердце мое раздираю нарочно, злобой его утоляю: «Уж я ж ему, уж я ж ему отплачу!» Так, бывало, и закричу в темноте. Да как вспомню вдруг, что ничего-то я ему не сделаю, а он-то надо мной смеется теперь, а может, и совсем забыл и не помнит, так кинусь с постели на пол, зальюсь бессильною слезой и трясусь-трясусь до рассвета. Поутру встану злее собаки, рада весь свет проглотить. Потом, что ж ты думаешь: стала я капитал копить, без жалости сделалась, растолстела – поумнела, ты думаешь, а? Так вот нет же, никто того не видит и не знает во всей вселенной, а как сойдет мрак ночной, все так же, как и девчонкой, пять лет тому, лежу иной раз, скрежещу зубами и всю ночь плачу: «Уж я ж ему, да уж я ж ему, думаю!» Слышал ты это все? Ну так как же ты теперь понимаешь меня: месяц тому приходит ко мне вдруг это самое письмо: едет он, овдовел, со мной повидаться хочет. Дух у меня тогда весь захватило, господи, да вдруг и подумала: а приедет да свистнет мне, позовет меня, так я как собачонка к нему поползу битая, виноватая! Думаю это я и сама себе не верю: «Подлая я аль не подлая, побегу я к нему аль не побегу?» И такая меня злость взяла теперь на самое себя во весь этот месяц, что хуже еще, чем пять лет тому. Видишь ли теперь, Алеша, какая я неистовая, какая я яростная, всю тебе правду выразила! Митей забавлялась, чтобы к тому не бежать. Молчи, Ракитка, не тебе меня судить, не тебе говорила. Я теперь до вашего прихода лежала здесь, ждала, думала, судьбу мою всю разрешала, и никогда вам не узнать, что у меня в сердце было. Нет, Алеша, скажи своей барышне, чтоб она за третьеводнишнее не сердилась!.. И не знает никто во всем свете, каково мне теперь, да и не может знать… Потому я, может быть, сегодня туда с собой нож возьму, я еще того не решила…
И, вымолвив это «жалкое» слово, Грушенька вдруг не выдержала, не докончила, закрыла лицо руками, бросилась на диван в подушки и зарыдала как малое дитя. Алеша встал с места и подошел к Ракитину.
– Миша, – проговорил он, – не сердись. Ты обижен ею, но не сердись. Слышал ты ее сейчас? Нельзя с души человека столько спрашивать, надо быть милосерднее…
Алеша проговорил это в неудержимом порыве сердца. Ему надо было высказаться, и он обратился к Ракитину. Если б не было Ракитина, он стал бы восклицать один. Но Ракитин поглядел насмешливо, и Алеша вдруг остановился.
– Это тебя твоим старцем давеча зарядили, и теперь ты своим старцем в меня и выпалил, Алешенька, Божий человечек, – с ненавистною улыбкой проговорил Ракитин.
– Не смейся, Ракитин, не усмехайся, не говори про покойника: он выше всех, кто был на земле! – с плачем в голосе прокричал Алеша. – Я не как судья тебе встал говорить, а сам как последний из подсудимых. Кто я пред нею? Я шел сюда, чтобы погибнуть, и говорил: «Пусть, пусть!» – и это из-за моего малодушия, а она через пять лет муки, только что кто-то первый пришел и ей искреннее слово сказал, – все простила, все забыла и плачет! Обидчик ее воротился, зовет ее, и она все прощает ему, и спешит к нему в радости, и не возьмет ножа, не возьмет! Нет, я не таков. Я не знаю, таков ли ты, Миша, но я не таков! Я сегодня, сейчас этот урок получил… Она выше любовью, чем мы… Слышал ли ты от нее прежде то, что она рассказала теперь? Нет, не слышал; если бы слышал, то давно бы все понял… и другая, обиженная третьего дня, и та пусть простит ее! И простит, коль узнает… и узнает… Эта душа еще не примиренная, надо щадить ее… в душе этой может быть сокровище…
Алеша замолк, потому что ему пересекло дыхание. Ракитин, несмотря на всю свою злость, глядел с удивлением. Никогда не ожидал он от тихого Алеши такой тирады.
– Вот адвокат проявился! Да ты влюбился в нее, что ли? Аграфена Александровна, ведь постник-то наш и впрямь в тебя влюбился, победила! – прокричал он с наглым смехом.
Грушенька подняла с подушки голову и поглядела на Алешу с умиленною улыбкой, засиявшею на ее как-то вдруг распухшем от сейчашних слез лице.
– Оставь ты его, Алеша, херувим ты мой, видишь, он какой, нашел кому говорить. Я, Михаил Осипович, – обратилась она к Ракитину, – хотела было у тебя прощения попросить за то, что обругала тебя, да теперь опять не хочу. Алеша, поди ко мне, сядь сюда, – манила она его с радостною улыбкой, – вот так, вот садись сюда, скажи ты мне (она взяла его за руку и заглядывала ему, улыбаясь, в лицо), – скажи ты мне: люблю я того или нет? Обидчика-то моего, люблю или нет? Лежала я до вас здесь в темноте, все допрашивала сердце: люблю я того или нет? Разреши ты меня, Алеша, время пришло; что положишь, так и будет. Простить мне его или нет?
– Да ведь уж простила, – улыбаясь проговорил Алеша.
– А и впрямь простила, – вдумчиво произнесла Грушенька. – Экое ведь подлое сердце! За подлое сердце мое! – схватила она вдруг со стола бокал, разом выпила, подняла его и с размаха бросила на пол. Бокал разбился и зазвенел. Какая-то жестокая черточка мелькнула в ее улыбке.
– А ведь, может, еще и не простила, – как-то грозно проговорила она, опустив глаза в землю, как будто одна сама с собой говорила. – Может, еще только собирается сердце простить. Поборюсь еще с сердцем-то. Я, видишь, Алеша, слезы мои пятилетние страх полюбила… Я, может, только обиду мою и полюбила, а не его вовсе!
– Ну не хотел бы я быть в его коже! – прошипел Ракитин.
– И не будешь, Ракитка, никогда в его коже не будешь. Ты мне башмаки будешь шить, Ракитка, вот я тебя на какое дело употреблю, а такой, как я, тебе никогда не видать… Да и ему, может, не увидать…
– Ему-то? А нарядилась-то зачем? – ехидно поддразнил Ракитин.
– Не кори меня нарядом, Ракитка, не знаешь еще ты всего моего сердца! Захочу, и сорву наряд, сейчас сорву, сию минуту, – звонко прокричала она. – Не знаешь ты, для чего этот наряд, Ракитка! Может, выйду к нему и скажу: «Видал ты меня такую аль нет еще?» Ведь он меня семнадцатилетнюю, тоненькую, чахоточную плаксу оставил. Да подсяду к нему, да обольщу, да разожгу его: «Видал ты, какова я теперь, скажу, ну так и оставайся при том, милостивый государь, по усам текло, а в рот не попало!» – вот ведь к чему, может, этот наряд, Ракитка, – закончила Грушенька со злобным смешком. – Неистовая я, Алеша, яростная. Сорву я мой наряд, изувечу я себя, мою красоту, обожгу себе лицо и разрежу ножом, пойду милостыню просить. Захочу, и не пойду я теперь никуда и ни к кому, захочу – завтра же отошлю Кузьме все, что он мне подарил, и все деньги его, а сама на всю жизнь работницей поденной пойду!.. Думаешь, не сделаю я того, Ракитка, не посмею сделать? Сделаю, сделаю, сейчас могу сделать, не раздражайте только меня… а того прогоню, тому шиш покажу, тому меня не видать!
Последние слова она истерически прокричала, но не выдержала опять, закрыла руками лицо, бросилась в подушку и опять затряслась от рыданий. Ракитин встал с места.
– Пора, – сказал он, – поздно, в монастырь не пропустят.
Грушенька так и вскочила с места.
– Да неужто ж ты уходить, Алеша, хочешь! – воскликнула она в горестном изумлении, – да что ж ты надо мной теперь делаешь: всю воззвал, истерзал, и опять теперь эта ночь, опять мне одной оставаться!
– Не ночевать же ему у тебя? А коли хочет – пусть! Я и один уйду! – язвительно подшутил Ракитин.
– Молчи, злая душа, – яростно крикнула ему Грушенька, – никогда ты мне таких слов не говорил, какие он мне пришел сказать.
– Что он такое тебе сказал? – раздражительно проворчал Ракитин.
– Не знаю я, не ведаю, ничего не ведаю, что он мне такое сказал, сердцу сказалось, сердце он мне перевернул… Пожалел он меня первый, единый, вот что! Зачем ты, херувим, не приходил прежде, – упала вдруг она пред ним на колени, как бы в исступлении. – Я всю жизнь такого, как ты, ждала, знала, что кто-то такой придет и меня простит. Верила, что и меня кто-то полюбит, гадкую, не за один только срам!..
– Что я тебе такого сделал? – умиленно улыбаясь, отвечал Алеша, нагнувшись к ней и нежно взяв ее за руки, – луковку я тебе подал, одну самую малую луковку, только, только!..
И, проговорив, сам заплакал. В эту минуту в сенях вдруг раздался шум, кто-то вошел в переднюю; Грушенька вскочила как бы в страшном испуге. В комнату с шумом и криком вбежала Феня.
– Барыня, голубушка, барыня, эстафет прискакал! – восклицала она весело и запыхавшись. – Тарантас из Мокрого за вами, Тимофей ямщик на тройке, сейчас новых лошадей переложат… Письмо, письмо, барыня, вот письмо!
Письмо было в ее руке, и она все время, пока кричала, махала им по воздуху. Грушенька выхватила от нее письмо и поднесла к свечке. Это была только записочка, несколько строк, в один миг она прочла ее.
– Кликнул! – прокричала она, вся бледная, с перекосившимся от болезненной улыбки лицом, – свистнул! Ползи, собачонка!
Но только миг один простояла как бы в нерешимости; вдруг кровь бросилась в ее голову и залила ее щеки огнем.
– Еду! – воскликнула она вдруг. – Пять моих лет! Прощайте! Прощай, Алеша, решена судьба… Ступайте, ступайте, ступайте от меня теперь все, чтоб я уже вас не видала!.. Полетела Грушенька в новую жизнь… Не поминай меня лихом и ты, Ракитка. Может, на смерть иду! Ух! Словно пьяная!
Она вдруг бросила их и побежала в свою спальню.
– Ну, ей теперь не до нас! – проворчал Ракитин. – Идем, а то, пожалуй, опять этот бабий крик пойдет, надоели уж мне эти слезные крики…
Алеша дал себя машинально вывести. На дворе стоял тарантас, выпрягали лошадей, ходили с фонарем, суетились. В отворенные ворота вводили свежую тройку. Но только что сошли Алеша и Ракитин с крыльца, как вдруг отворилось окно из спальни Грушеньки, и она звонким голосом прокричала вслед Алеше:
– Алешечка, поклонись своему братцу Митеньке, да скажи ему, чтобы не поминал меня, злодейку свою, лихом. Да передай ему тоже моими словами: «Подлецу досталась Грушенька, а не тебе, благородному!» Да прибавь ему тоже, что любила его Грушенька один часок времени, только один часок всего и любила – так чтоб он этот часок всю жизнь свою отселева помнил, так, дескать, Грушенька на всю жизнь тебе заказала!..
Она закончила голосом, полным рыданий. Окно захлопнулось.
– Гм, гм! – промычал Ракитин, смеясь, – зарезала братца Митеньку, да еще велит на всю жизнь свою помнить. Экое плотоядие!
Алеша ничего не ответил, точно и не слыхал; он шел подле Ракитина скоро, как бы ужасно спеша; он был как бы в забытьи, шел машинально. Ракитина вдруг что-то укололо, точно ранку его свежую тронули пальцем. Совсем не того ждал он давеча, когда сводил Грушеньку с Алешей; совсем иное случилось, а не то, чего бы ему очень хотелось.