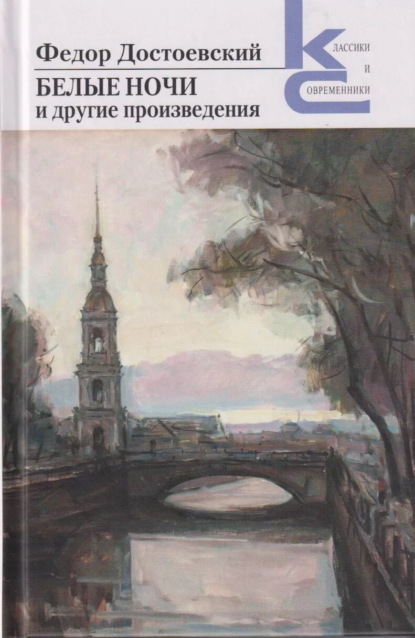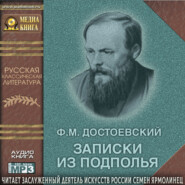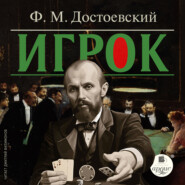По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«Белые ночи» и другие произведения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ваша
В.Д.
Июня 28.
Маточка, Варвара Алексеевна!
Полно кручиниться! Как же это не стыдно вам! Ну полноте, ангельчик мой; как это вам такие мысли приходят? Вы не больны, душечка, вовсе не больны; вы цветете, право цветете; бледненьки немножко, а все-таки цветете. И что это у вас за сны да за видения такие! Стыдно, голубчик мой, полноте; вы плюньте на сны-то эти, просто плюньте. Отчего же я сплю хорошо? Отчего же мне ничего не делается? Вы посмотрите-ка на меня, маточка. Живу себе, сплю покойно, здоровехонек, молодец молодцом, любо смотреть. Полноте, полноте, душечка, стыдно. Исправьтесь. Я ведь головку-то вашу знаю, маточка, чуть что-нибудь найдет, вы уж и пошли мечтать да тосковать о чем-то. Ради меня перестаньте, душенька. В люди идти? – никогда! Нет, нет и нет! Да и что это вам думается такое, что это находит на вас? Да еще и на выезд! Да нет же, маточка, не позволю, вооружаюсь всеми силами против такого намерения. Мой фрак старый продам и в одной рубашке стану ходить по улицам, а уж вы у нас нуждаться не будете. Нет, Варенька, нет; уж я знаю вас! Это блажь, чистая блажь! А что верно, так это то, что во всем Федора одна виновата: она, видно, глупая баба, вас на все надоумила. А вы ей, маточка, не верьте. Да вы еще, верно, не знаете всего-то, душенька?.. Она баба глупая, сварливая, вздорная; она и мужа своего покойника со свету выжила. Или она, верно, вас рассердила там как-нибудь? Нет, нет, маточка, ни за что! И я-то как же буду тогда, что мне-то останется делать? Нет, Варенька, душенька, вы это из головки-то выкиньте. Чего вам недостает у нас? Мы на вас не нарадуемся, вы нас любите – так и живите себе там смирненько; шейте или читайте, а пожалуй, и не шейте, – все равно, только с нами живите. А то вы сами посудите, ну на что это будет похоже тогда?.. Вот я вам книжек достану, а потом, пожалуй, и опять куда-нибудь гулять соберемся. Только вы-то полноте, маточка, полноте, наберитесь ума и из пустяков не блажите! Я к вам приду, и в весьма скором времени, только вы за это мое прямое и откровенное признание примите: нехорошо, душенька, очень нехорошо! Я, конечно, неученый человек и сам знаю, что неученый, что на медные деньги учился, да я не к тому и речь клоню, не во мне тут и дело-то, а за Ратазяева заступлюсь, воля ваша. Он мне друг, потому я за него и заступлюсь. Он хорошо пишет, очень, очень и опять-таки очень хорошо пишет. Не соглашаюсь я с вами и никак не могу согласиться. Писано цветисто, отрывисто, с фигурами, разные мысли есть; очень хорошо! Вы, может быть, без чувства читали, Варенька, или не в духе были, когда читали, на Федору за что-нибудь рассердились, или что-нибудь у вас там нехорошее вышло. Нет, вы прочтите-ка это с чувством, получше, когда вы довольны и веселы и в расположении духа приятном находитесь, вот, например, когда конфетку во рту держите, – вот когда прочтите. Я не спорю (кто же против этого), есть и лучше Ратазяева писатели, есть даже и очень лучшие, но и они хороши, и Ратазяев хорош; они хорошо пишут, и он хорошо пишет. Он себе особо, он так себе пописывает, и очень хорошо делает, что пописывает. Ну, прощайте, маточка; писать более не могу; нужно спешить, дело есть. Смотрите же, маточка, ясочка ненаглядная, успокойтесь, и господь да пребудет с вами, а я пребываю вашим верным другом
Макаром Девушкиным.
P. S. Спасибо за книжку, родная моя, прочтем и Пушкина; а сегодня я, повечеру, непременно зайду к вам.
Июля 1.
Дорогой мой Макар Алексеевич!
Нет, друг мой, нет, мне не житье между вами. Я раздумала и нашла, что очень дурно делаю, отказываясь от такого выгодного места. Там будет у меня по крайней мере хоть верный кусок хлеба; я буду стараться, я заслужу ласку чужих людей, даже постараюсь переменить свой характер, если будет надобно. Оно, конечно, больно и тяжело жить между чужими, искать чужой милости, скрываться и принуждать себя, да бог мне поможет. Не оставаться же век нелюдимкой. Со мною уж бывали такие же случаи. Я помню, когда я, бывало, еще маленькая, в пансион хаживала. Бывало, все воскресенье дома резвишься, прыгаешь, иной раз и побранит матушка, – все ничего, все хорошо на сердце, светло на душе. Станет подходить вечер, и грусть нападает смертельная, нужно в девять часов в пансион идти, а там все чужое, холодное, строгое, гувернантки по понедельникам такие сердитые, так и щемит, бывало, за душу, плакать хочется; пойдешь в уголок и поплачешь одна-одинешенька, слезы скрываешь, – скажут, ленивая; а я вовсе не о том и плачу, бывало, что учиться надобно. Ну, что ж? я привыкла, и потом, когда выходила из пансиона, так тоже плакала, прощаясь с подружками. Да и нехорошо я делаю, что живу в тягость обоим вам. Эта мысль – мне мученье. Я вам откровенно говорю все это, потому что привыкла быть с вами откровенною. Разве я не вижу, как Федора встает каждый день раным-ранехонько, да за стирку свою принимается и до поздней ночи работает? – а старые кости любят покой. Разве я не вижу, что вы на меня разоряетесь, последнюю копейку ребром ставите да на меня ее тратите? не с вашим состоянием, мой друг! Пишете вы, что последнее продадите, а меня в нужде не оставите. Верю, друг мой, я верю в ваше доброе сердце – но это вы теперь так говорите. Теперь у вас есть деньги неожиданные, вы получили награждение; но потом что будет, потом? Вы знаете сами – я больная всегда; я не могу так же, как и вы, работать, хотя бы душою рада была, да и работа не всегда бывает. Что же мне остается? Надрываться с тоски, глядя на вас обоих, сердечных. Чем я могу оказать вам хоть малейшую пользу? И отчего я вам так необходима, друг мой? Что я вам хорошего сделала? Я только привязана к вам всею душою, люблю вас крепко, сильно, всем сердцем, но – горька судьба моя! – я умею любить и могу любить, но только, а не творить добро, не платить вам за ваши благодеяния. Не держите же меня более, подумайте и скажите ваше последнее мнение. В ожидании пребываю
вас любящая
В.Д.
Июля 1.
Блажь, блажь, Варенька, просто блажь! Оставь вас так, так вы там головкой своей и чего-чего не передумаете. И то не так и это не так! А я вижу теперь, что это все блажь. Да чего же вам недостает у нас, маточка, вы только это скажите! Вас любят, вы нас любите, мы все довольны и счастливы – чего же более? Ну, а что вы в чужих-то людях будете делать? Ведь вы, верно, еще не знаете, что такое чужой человек?.. Нет, вы меня извольте-ка порасспросить, так я вам скажу, что такое чужой человек. Знаю я его, маточка, хорошо знаю; случалось хлеб его есть. Зол он, Варенька, зол, уж так зол, что сердечка твоего недостанет, так он его истерзает укором, попреком да взглядом дурным. У нас вам тепло, хорошо, – словно в гнездышке приютились. Да и нас-то вы как без головы оставите. Ну что мы будем делать без вас; что я, старик, буду делать тогда? Вы нам не нужны? Не полезны? Как не полезны? Нет, вы, маточка, сами рассудите, как же вы не полезны? Вы мне очень полезны, Варенька. Вы этакое влияние имеете благотворное… Вот я об вас думаю теперь, и мне весело… Я вам иной раз письмо напишу и все чувства в нем изложу, на что подробный ответ от вас получаю. Гардеробцу вам накупил, шляпку сделал; от вас комиссия подчас выходит какая-нибудь, я и комиссию… Нет, как же вы не полезны? Да и что я один буду делать на старости, на что годиться буду? Вы, может быть, об этом и не подумали, Варенька; нет, вы именно об этом подумайте – что вот, дескать, на что он будет без меня-то годиться? Я привык к вам, родная моя. А то что из этого будет? Пойду к Неве, да и дело с концом. Да, право же, будет такое, Варенька; что же мне без вас делать останется! Ах, душечка моя, Варенька! Хочется, видно, вам, чтобы меня ломовой извозчик на Волково свез; чтобы какая-нибудь там нищая старуха-пошлепница одна мой гроб провожала, чтобы меня там песком засыпали, да прочь пошли, да одного там оставили. Грешно, грешно, маточка! Право, грешно, ей-богу, грешно! Отсылаю вам вашу книжку, дружочек мой, Варенька, и если вы, дружочек мой, спросите мнения моего насчет вашей книжки, то я скажу, что в жизнь мою не случалось мне читать таких славных книжек. Спрашиваю я теперь себя, маточка, как же это я жил до сих пор таким олухом, прости господи? Что делал? Из каких я лесов? Ведь ничего-то я не знаю, маточка, ровно ничего не знаю! совсем ничего не знаю! Я вам, Варенька, спроста скажу, – я человек неученый; читал я до сей поры мало, очень мало читал, да почти ничего: «Картину человека», умное сочинение, читал; «Мальчика, наигрывающего разные штучки на колокольчиках» читал да «Ивиковы журавли», – вот только и всего, а больше ничего никогда не читал. Теперь я «Станционного смотрителя» здесь в вашей книжке прочел; ведь вот скажу я вам, маточка, случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад было, так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все, помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. И наконец, вот отчего еще я полюбил вашу книжку: иное творение, какое там ни есть, читаешь-читаешь, иной раз хоть тресни – так хитро, что как будто бы его и не понимаешь. Я, например, – я туп, я от природы моей туп, так я не могу слишком важных сочинений читать; а это читаешь, – словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно – вот как! Да и дело-то простое, бог мой; да чего! право, и я так же бы написал; отчего же бы и не написал? Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился, как, примерно сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга. Да и сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же горемык сердечных! И как ловко описано все! Меня чуть слезы не прошибли, маточка, когда я прочел, что он спился, грешный, так, что память потерял, горьким сделался и спит себе целый день под овчинным тулупом, да горе пуншиком захлебывает, да плачет жалостно, грязной полою глаза утирая, когда вспоминает о заблудшей овечке своей, об дочке Дуняше! Нет, это натурально! Вы прочтите-ка; это натурально! это живет! Я сам это видал, – это вот все около меня живет; вот хоть Тереза – да чего далеко ходить! – вот хоть бы и наш бедный чиновник, – * ведь он, может быть, такой же Самсон Вырин, только у него другая фамилия, Горшков. Дело-то оно общее, маточка, и над вами и надо мной может случиться. И граф, что на Невском или на набережной живет, и он будет то же самое, так только казаться будет другим, потому что у них все по-своему, по высшему тону, но и он будет то же самое, все может случиться, и со мною то же самое может случиться. Вот оно что, маточка, а вы еще тут от нас отходить хотите; да ведь грех, Варенька, может застигнуть меня. И себя и меня сгубить можете, родная моя. Ах, ясочка вы моя, выкиньте, ради бога, из головки своей все эти вольные мысли и не терзайте меня напрасно. Ну где же, птенчик вы мой слабенький, неоперившийся, где же вам самое себя прокормить, от погибели себя удержать, от злодеев защититься! Полноте, Варенька, поправьтесь; вздорных советов и наговоров не слушайте, а книжку вашу еще раз прочтите, со вниманием прочтите: вам это пользу принесет.
Говорил я про «Станционного смотрителя» Ратазяеву. Он мне сказал, что это все старое и что теперь все пошли книжки с картинками и с разными описаниями; уж я, право, в толк не взял хорошенько, что он тут говорил такое. Заключил же, что Пушкин хорош и что он святую Русь прославил, и много еще мне про него говорил. Да, очень хорошо, Варенька, очень хорошо; прочтите-ка книжку еще раз со вниманием, советам моим последуйте и послушанием своим меня, старика, осчастливьте. Тогда сам господь наградит вас, моя родная, непременно наградит.
Ваш искренний друг
Макар Девушкин.
Июля 6.
Милостивый государь, Макар Алексеевич!
Федора принесла мне сегодня пятнадцать рублей серебром. Как она была рада, бедная, когда я ей три целковых дала! Пишу вам наскоро. Я теперь крою вам жилетку, – прелесть какая материя, – желтенькая с цветочками. Посылаю вам одну книжку; тут все разные повести; я прочла кое-какие; прочтите одну из них под названием «Шинель». Вы меня уговариваете в театр идти вместе с вами; не дорого ли это будет? Разве уж куда-нибудь в галерею. Я уж очень давно не была в театре, да и, право, не помню когда. Только опять все боюсь, не дорого ли будет стоить эта затея? Федора только головой покачивает. Она говорит, что вы совсем не по достаткам жить начали; да я и сама это вижу; сколько вы на меня одну истратили! Смотрите, друг мой, не было бы беды. Федора и так мне говорила про какие-то слухи – что вы имели, кажется, спор с вашей хозяйкой за неуплату ей денег; я очень боюсь за вас. Ну, прощайте; я спешу. Дело есть маленькое; я переменяю ленты на шляпке.
В. Д.
P. S. Знаете ли, если мы пойдем в театр, то я надену мою новенькую шляпку, а на плеча черную мантилью. Хорошо ли это будет?
Июля 7.
Милостивая государыня. Варвара Алексеевна!
…Так вот я все про вчерашнее. Да, маточка, и на нас в оно время блажь находила. Врезался в эту актрисочку, по уши врезался, да это бы еще ничего; а самое-то чудное то, что я ее почти совсем не видал и в театре был всего один раз, а при всем том врезался. Жили тогда со мною стенка об стенку человек пятеро молодого, раззадорного народу. Сошелся я с ними, поневоле сошелся, хотя всегда был от них в пристойных границах. Ну, чтобы не отстать, я и сам им во всем поддакиваю. Насказали они мне об этой актриске! Каждый вечер, как только театр идет, вся компания – на нужное у них никогда гроша не бывало – вся компания отправлялась в театр, в галерею, и уж хлопают-хлопают, вызывают-вызывают эту актриску – просто беснуются! А потом и заснуть не дадут; всю ночь напролет об ней толкуют, всякий ее своей Глашей зовет, все в одну в нее влюблены, у всех одна канарейка на сердце. Раззадорили они и меня, беззащитного; я тогда еще молоденек был. Сам не знаю, как очутился я с ними в театре, в четвертом ярусе, в галерее. Видеть-то я один только краешек занавески видел, зато все слышал. У актрисочки, точно, голосок был хорошенький, – звонкий, соловьиный, медовый! Мы все руки у себя отхлопали, кричали-кричали, – одним словом, до нас чуть не добрались, одного уж и вывели, правда. Пришел я домой, – как в чаду хожу! в кармане только один целковый рубль оставался, а до жалованья еще добрых дней десять. Так как бы вы думали, маточка? На другой день, прежде чем на службу идти, завернул я к парфюмеру-французу, купил у него духов каких-то да мыла благовонного на весь капитал – уж и сам не знаю, зачем я тогда накупил всего этого? Да и не обедал дома, а все мимо ее окон ходил. Она жила на Невском, в четвертом этаже. Пришел домой, часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошел, чтобы только мимо ее окошек пройти. Полтора месяца я ходил таким образом, волочился за нею; извозчиков-лихачей нанимал поминутно и все мимо ее окон концы давал; замотался совсем, задолжал, а потом уж и разлюбил ее: наскучило! Так вот что актриска из порядочного человека сделать в состоянии, маточка! Впрочем, молоденек-то я, молоденек был тогда!..
М.Д.
Июля 8.
Милостивая государыня моя, Варвара Алексеевна!
Книжку вашу, полученную мною 6-го сего месяца, спешу возвратить вам и вместе с тем спешу в сем письме моем объясниться с вами. Дурно, маточка, дурно то, что вы меня в такую крайность поставили. Позвольте, маточка: всякое состояние определено всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником; такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано; иной на одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим богом. Состою я уже около тридцати лет на службе; служу безукоризненно, поведения трезвого, в беспорядках никогда не замечен. Как гражданин, считаю себя, собственным сознанием моим, как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною довольны; и хотя еще они доселе не оказывали мне особенных знаков благорасположения, но я знаю, что они довольны. Дожил до седых волос; греха за собою большого не знаю. Конечно, кто же в малом не грешен? Всякий грешен, и даже вы грешны, маточка! Но в больших проступках и продерзостях никогда не замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь или в нарушении общественного спокойствия, в этом я никогда не замечен, этого не было; даже крестик выходил – ну да уж что! Все это вы по совести должны бы были знать, маточка, и он должен бы был знать; уж как взялся описывать, так должен бы был все знать. Нет, я этого не ожидал от нас, маточка; нет, Варенька! Вот от вас-то именно такого и не ожидал.
Как! Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке своем, – каков уж он там ни есть, – жить водой не замутя, по пословице, никого не трогая, зная страх божий да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались да не подсмотрели – что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, водится ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем подбиты они; что ешь, что пьешь, что переписываешь?.. Да и что же тут такого, маточка, что вот хоть бы и я, где мостовая плоховата, пройду иной раз на цыпочках, что я сапоги берегу! Зачем писать про другого, что вот де он иной раз нуждается, что чаю не пьет? А точно все и должны уж так непременно чай пить! Да разве я смотрю в рот каждому, что, дескать, какой он там кусок жует? Кого же я обижал таким образом? Нет, маточка, зачем же других обижать, когда тебя не затрогивают! Ну, и вот вам пример, Варвара Алексеевна, вот что значит оно: служишь-служишь, ревностно, усердно, – чего! – и начальство само тебя уважает (уж как бы там ни было, а все-таки уважает), – и вот кто-нибудь под самым носом твоим, безо всякой видимой причины, ни с того ни с сего, испечет тебе пасквиль. Конечно, правда, иногда сошьешь себе что-нибудь новое, – радуешься, не спишь, а радуешься, сапоги новые, например, с таким сладострастием надеваешь – это правда, я ощущал, потому что приятно видеть свою ногу в тонком щегольском сапоге, – это верно описано! Но я все-таки истинно удивляюсь, как Федор-то Федорович без внимания книжку такую пропустили и за себя не вступились. Правда, что он еще молодой сановник и любит подчас покричать; но отчего же и не покричать? Отчего же и не распечь, коли нужно нашего брата распечь. Ну да положим и так, например, для тона распечь – ну и для тона можно; нужно приучать; нужно острастку давать; потому что – между нами будь это, Варенька, – наш брат ничего без острастки не сделает, всякий норовит только где-нибудь числиться, что вот, дескать, я там-то и там-то, а от дела-то бочком да стороночкой. А так как разные чины бывают и каждый чин требует совершенно соответственной по чину распеканции, то естественно, что после этого и тон распеканции выходит разночинный, – это в порядке вещей! Да ведь на том и свет стоит, маточка, что все мы один перед другим тону задаем, что всяк из нас один другого распекает. Без этой предосторожности и свет бы не стоял и порядка бы не было. Истинно удивляюсь, как Федор Федорович такую обиду пропустили без внимания!
И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мне за это шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит? Нет, Варенька, прочтет да еще продолжения потребует. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать – куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено! Да тут и на улицу нельзя показаться будет; ведь тут это все так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь.
Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил, поместил бы, например, хоть после того пункта, как ему бумажки на голову сыпали: что вот, дескать, при всем этом он был добродетелен, хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не заслуживал, послушествовал старшим (тут бы пример можно какой-нибудь), никому зла не желал, верил в бога и умер (если ему хочется, чтобы он уж непременно умер) – оплаканный. А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал, узнавши подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалованья, так что, видите ли, как бы это было: зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы, и канцеляристы-товарищи все бы ни с чем и остались. Я бы, например, так сделал; а то что тут у него особенного, что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного, подлого быта. Да и как вы-то решились мне такую книжку прислать, родная моя. Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька; это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька, формально жаловаться.
Покорнейший слуга ваш
Макар Девушкин.
Июля 27.
Милостивый государь, Макар Алексеевич!
Последние происшествия и письма ваши испугали, поразили меня и повергли в недоумение, а рассказы Федоры объяснили мне все. Но зачем же было так отчаиваться и вдруг упасть в такую бездну, в какую вы упали, Макар Алексеевич? Ваши объяснения вовсе не удовольствовали меня. Видите ли, была ли я права, когда настаивала взять то выгодное место, которое мне предлагали? К тому же и последнее мое приключение пугает меня не на шутку. Вы говорите, что любовь ваша ко мне заставила вас таиться от меня. Я и тогда уже видела, что многим обязана вам, когда вы уверяли, что издерживаете на меня только запасные деньги свои, которые, как говорили, у вас в ломбарде на всякий случай лежали. Теперь же, когда я узнала, что у вас вовсе не было никаких денег, что вы, случайно узнавши о моем бедственном положении и тронувшись им, решились издержать свое жалованье, забрав его вперед, и продали даже свое платье, когда я больна была, – теперь я, открытием всего этого, поставлена в такое мучительное положение, что до сих пор не знаю, как принять все это и что думать об этом. Ах! Макар Алексеевич! вы должны были остановиться на первых благодеяниях своих, внушенных вам состраданием и родственною любовью, а не расточать деньги впоследствии на ненужное. Вы изменили дружбе нашей, Макар Алексеевич, потому что не были откровенны со мною, и теперь, когда я вижу, что ваше последнее пошло мне на наряды, на конфеты, на прогулки, на театр и на книги, – то за все это я теперь дорого плачу сожалением о своей непростительной ветрености (ибо я принимала от вас все, не заботясь о вас самих); и все то, чем вы хотели доставить мне удовольствие, обратилось теперь в горе для меня и оставило по себе одно бесполезное сожаление. Я заметила вашу тоску в последнее время, и хотя сама тоскливо ожидала чего-то, но то, что случилось теперь, мне и в ум не входило. Как! вы до такой уже степени могли упасть духом, Макар Алексеевич! Но что теперь о вас подумают, что теперь скажут о вас все, кто вас знает? Вы, которого я и все уважали за доброту души, скромность и благоразумие, вы теперь вдруг впали в такой отвратительный порок, в котором, кажется, никогда не были замечены прежде. Что со мною было, когда Федора рассказала мне, что вас нашли на улице в нетрезвом виде и привезли на квартиру с полицией! Я остолбенела от изумления, хотя и ожидала чего-то необыкновенного, потому что вы четыре дня пропадали. Но подумали ли вы, Макар Алексеевич, что скажут ваши начальники, когда узнают настоящую причину вашего отсутствия? Вы говорите, что над вами смеются все; что все узнали о нашей связи и что и меня упоминают в насмешках своих соседи ваши. Не обращайте внимания на это, Макар Алексеевич, и, ради бога, успокойтесь. Меня пугает еще ваша история с этими офицерами; я об ней темно слышала. Растолкуйте мне, что это все значит? Пишете вы, что боялись открыться мне, боялись потерять вашим признанием мою дружбу, что были в отчаянии, не зная, чем помочь мне в моей болезни, что продали все, чтобы поддержать меня и не пускать в больницу, что задолжали сколько возможно задолжать и имеете каждый день неприятности с хозяйкой, – но, скрывая все это от меня, вы выбрали худшее. Но ведь теперь же я все узнала. Вы совестились заставить меня сознаться, что я была причиною вашего несчастного положения, а теперь вдвое более принесли мне горя своим поведением. Все это меня поразило, Макар Алексеевич. Ах, друг мой! несчастие – заразительная болезнь. Несчастным и бедным нужно сторониться друг от друга, чтоб еще более не заразиться. Я принесла вам такие несчастия, которых вы и не испытывали прежде в вашей скромной и уединенной жизни. Все это мучит и убивает меня.
Напишите мне теперь все откровенно, что с вами было и как вы решились на такой поступок. Успокойте меня, если можно. Не самолюбие заставляет меня писать теперь о моем спокойствии, но моя дружба и любовь к вам, которые ничем не изгладятся из моего сердца. Прощайте. Жду ответа вашего с нетерпением. Вы худо думали обо мне, Макар Алексеевич.
Вас сердечно любящая
Варвара Доброселова.
Июля 28.
Бесценная моя Варвара Алексеевна!
Ну уж, как теперь все кончено и все мало-помалу приходит в прежнее положение, то вот что скажу я вам, маточка: вы беспокоитесь об том, что обо мне подумают, на что спешу объявить вам, Варвара Алексеевна, что амбиция моя мне дороже всего. Вследствие чего и донося вам об несчастиях моих и всех этих беспорядках, уведомляю вас, что из начальства еще никто ничего не знает, да и не будет знать, так что они все будут питать ко мне уважение по-прежнему. Одного боюсь: сплетен боюсь. Дома у нас хозяйка кричит, а теперь, когда я с помощию ваших десяти рублей уплатил ей часть долга, только ворчит, а более ничего. Что же касается до прочих, то и они ничего; у них только не нужно денег взаймы просить, а то и они ничего. А в заключение объяснений моих скажу вам, маточка, что ваше уважение ко мне считаю я выше всего на свете и тем утешаюсь теперь во временных беспорядках моих. Слава богу, что первый удар и первые передряги миновали, и вы приняли это так, что не считаете меня вероломным другом и себялюбцем за то, что я вас у себя держал и обманывал вас, не в силах будучи с вами расстаться и любя вас, как моего ангельчика. Рачительно теперь принялся за службу и должность свою стал исправлять хорошо. Евстафий Иванович хоть бы слово сказал, когда я мимо их вчера проходил. Не скрою от вас, маточка, что убивают меня долги мои и худое положение моего гардероба, но это опять ничего, и об этом тоже, молю вас – не отчаивайтесь, маточка. Посылаете мне еще полтинничек, Варенька, и этот полтинничек мне мое сердце пронзил. Так так-то оно теперь стало, так вот оно как! то есть это не я, старый дурак, вам, ангельчику, помогаю, а вы, сироточка моя бедненькая, мне! Хорошо сделала Федора, что достала денег. Я покамест не имею надежд никаких, маточка, на получение, а если чуть возродятся какие-нибудь надежды, то отпишу вам обо всем подробно. Но сплетни, сплетни меня беспокоят более всего. Прощайте, мой ангельчик. Целую вашу ручку и умоляю вас выздоравливать. Пишу оттого не подробно, что в должность спешу, ибо старанием и рачением хочу загладить все вины мои в упущении по службе; дальнейшее же повествование о всех происшествиях и о приключении с офицерами откладываю до вечера.
Вас уважающий и вас сердечно любящий
Макар Девушкин.
Июля 28.
Эх, Варенька, Варенька! Вот именно-то теперь грех на вашей стороне и на совести вашей останется. Письмецом-то своим вы меня с толку последнего сбили, озадачили, да уж только теперь, как я на досуге во внутренность сердца моего проник, так и увидел, что прав был, совершенно был прав. Я не про дебош мой говорю (ну его, маточка, ну его!), а про то, что я люблю вас и что вовсе не неблагоразумно мне было любить вас, вовсе не неблагоразумно. Вы, маточка, не знаете ничего; а вот если бы знали только, отчего это все, отчего это я должен вас любить, так вы бы не то сказали. Вы это все резонное-то только так говорите, а я уверен, что на сердце-то у вас вовсе не то.
Маточка моя, я и сам-то не знаю и не помню хорошо всего, что было у меня с офицерами. Нужно вам заметить, ангельчик мой, что до того времени я был в смущении ужаснейшем. Вообразите себе, что уже целый месяц, так сказать, на одной ниточке крепился. Положение было пребедственное. От вас-то я скрывался, да и дома тоже, но хозяйка моя шуму и крику наделала. Оно бы мне и ничего Пусть бы кричала баба негодная, да одно то, что срам, а второе то, что она, господь ее знает как, об нашей связи узнала и такое про нее на весь дом кричала, что я обомлел да и уши заткнул. Да дело-то в том, что другие свои ушей не затыкали, а, напротив, развесили их. Я и теперь маточка, куда мне деваться, не знаю…
И вот, ангельчик мой, все-то это, весь-то этот сброд всяческого бедствия и доконал меня окончательно. Вдруг странные вещи слышу я от Федоры, что в дом к вам явился недостойный искатель и оскорбил вас недостойным предложением; что он вас оскорбил, глубоко оскорбил, я по себе сужу, маточка, потому что и я сам глубоко оскорбился. Тут-то я, ангельчик вы мой, и свихнулся, тут-то я и потерялся и пропал совершенно. Я, друг вы мой, Варенька, выбежал в бешенстве каком-то неслыханном, я к нему хотел идти, греховоднику; я уж и не знал, что я делать хотел, потому что я не хочу, чтобы вас, ангельчика моего, обижали! Ну, грустно было! а на ту пору дождь, слякоть, тоска была страшная!.. Я было уж воротиться хотел… Тут-то я и пал, маточка. Я Емелю встретил, Емельяна Ильича, он чиновник, то есть был чиновник, а теперь уж не чиновник, потому что его от нас выключили. Он уж я и не знаю, что делает, как-то там мается; вот мы с ним и пошли. Тут – ну, да что вам, Варенька, ну, весело, что ли, про несчастия друга своего читать, бедствия его и историю искушений, им претерпенных? На третий день, вечером, уж что Емеля подбил меня, я и пошел к нему, к офицеру-то. Адрес-то я у нашего дворника спросил. Я, маточка, уж если к слову сказать пришлось, давно за этим молодцом примечал; следил его, когда еще он в доме у нас квартировал. Теперь-то я вижу, что я неприличие сделал, потому что я не в своем виде был, когда обо мне ему доложили. Я, Варенька, ничего, по правде, и не помню; помню только, что у него было очень много офицеров, или это двоилось у меня – бог знает. Я не помню также, что я говорил, только я знаю, что я много говорил, в благородном негодовании моем. Ну, тут-то меня и выгнали, тут-то меня и с лестницы сбросили, то есть оно не то чтобы совсем сбросили, а только так вытолкали. Вы уж знаете, Варенька, как я воротился; вот оно и все. Конечно, я себя уронил и амбиция моя пострадала, но ведь этого никто не знает из посторонних-то, никто, кроме вас, не знает; ну, а в таком случае это все равно что как бы его и не было. Может быть, это и так, Варенька, как вы думаете? Что мне только достоверно известно, так что то, что прошлый год у нас Аксентий Осипович таким же образом дерзнул на личность Петра Петровича, но по секрету, он это сделал по секрету. Он его зазвал в сторожевскую комнату, я это все в щелочку видел; да уж там он как надобно было и распорядился, но благородным образом, потому что этого никто не видал, кроме меня; ну, а я ничего, то есть я хочу сказать, что я не объявлял никому. Ну, а после этого Петр Петрович и Аксентий Осипович ничего. Петр Петрович, знаете, амбиционный такой, так он и никому не сказал, так что они теперь и кланяются и руки жмут. Я не спорю, я, Варенька, с вами спорить не смею, я глубоко упал и, что всего ужаснее, в собственном мнении своем проиграл, но уж это, верно, мне так на роду было написано, уж это, верно, судьба, – а от судьбы не убежишь, сами знаете. Ну, вот и подробное объяснение несчастий моих и бедствий, Варенька, вот – все такое, что хоть бы и не читать, так в ту же пору. Я немного нездоров, маточка моя, и всей игривости чувств лишился. Посему теперь, свидетельствуя вам мою привязанность, любовь и уважение, пребываю, милостивая государыня моя, Варвара Алексеевна,
покорнейшим слугою вашим
В.Д.
Июня 28.
Маточка, Варвара Алексеевна!
Полно кручиниться! Как же это не стыдно вам! Ну полноте, ангельчик мой; как это вам такие мысли приходят? Вы не больны, душечка, вовсе не больны; вы цветете, право цветете; бледненьки немножко, а все-таки цветете. И что это у вас за сны да за видения такие! Стыдно, голубчик мой, полноте; вы плюньте на сны-то эти, просто плюньте. Отчего же я сплю хорошо? Отчего же мне ничего не делается? Вы посмотрите-ка на меня, маточка. Живу себе, сплю покойно, здоровехонек, молодец молодцом, любо смотреть. Полноте, полноте, душечка, стыдно. Исправьтесь. Я ведь головку-то вашу знаю, маточка, чуть что-нибудь найдет, вы уж и пошли мечтать да тосковать о чем-то. Ради меня перестаньте, душенька. В люди идти? – никогда! Нет, нет и нет! Да и что это вам думается такое, что это находит на вас? Да еще и на выезд! Да нет же, маточка, не позволю, вооружаюсь всеми силами против такого намерения. Мой фрак старый продам и в одной рубашке стану ходить по улицам, а уж вы у нас нуждаться не будете. Нет, Варенька, нет; уж я знаю вас! Это блажь, чистая блажь! А что верно, так это то, что во всем Федора одна виновата: она, видно, глупая баба, вас на все надоумила. А вы ей, маточка, не верьте. Да вы еще, верно, не знаете всего-то, душенька?.. Она баба глупая, сварливая, вздорная; она и мужа своего покойника со свету выжила. Или она, верно, вас рассердила там как-нибудь? Нет, нет, маточка, ни за что! И я-то как же буду тогда, что мне-то останется делать? Нет, Варенька, душенька, вы это из головки-то выкиньте. Чего вам недостает у нас? Мы на вас не нарадуемся, вы нас любите – так и живите себе там смирненько; шейте или читайте, а пожалуй, и не шейте, – все равно, только с нами живите. А то вы сами посудите, ну на что это будет похоже тогда?.. Вот я вам книжек достану, а потом, пожалуй, и опять куда-нибудь гулять соберемся. Только вы-то полноте, маточка, полноте, наберитесь ума и из пустяков не блажите! Я к вам приду, и в весьма скором времени, только вы за это мое прямое и откровенное признание примите: нехорошо, душенька, очень нехорошо! Я, конечно, неученый человек и сам знаю, что неученый, что на медные деньги учился, да я не к тому и речь клоню, не во мне тут и дело-то, а за Ратазяева заступлюсь, воля ваша. Он мне друг, потому я за него и заступлюсь. Он хорошо пишет, очень, очень и опять-таки очень хорошо пишет. Не соглашаюсь я с вами и никак не могу согласиться. Писано цветисто, отрывисто, с фигурами, разные мысли есть; очень хорошо! Вы, может быть, без чувства читали, Варенька, или не в духе были, когда читали, на Федору за что-нибудь рассердились, или что-нибудь у вас там нехорошее вышло. Нет, вы прочтите-ка это с чувством, получше, когда вы довольны и веселы и в расположении духа приятном находитесь, вот, например, когда конфетку во рту держите, – вот когда прочтите. Я не спорю (кто же против этого), есть и лучше Ратазяева писатели, есть даже и очень лучшие, но и они хороши, и Ратазяев хорош; они хорошо пишут, и он хорошо пишет. Он себе особо, он так себе пописывает, и очень хорошо делает, что пописывает. Ну, прощайте, маточка; писать более не могу; нужно спешить, дело есть. Смотрите же, маточка, ясочка ненаглядная, успокойтесь, и господь да пребудет с вами, а я пребываю вашим верным другом
Макаром Девушкиным.
P. S. Спасибо за книжку, родная моя, прочтем и Пушкина; а сегодня я, повечеру, непременно зайду к вам.
Июля 1.
Дорогой мой Макар Алексеевич!
Нет, друг мой, нет, мне не житье между вами. Я раздумала и нашла, что очень дурно делаю, отказываясь от такого выгодного места. Там будет у меня по крайней мере хоть верный кусок хлеба; я буду стараться, я заслужу ласку чужих людей, даже постараюсь переменить свой характер, если будет надобно. Оно, конечно, больно и тяжело жить между чужими, искать чужой милости, скрываться и принуждать себя, да бог мне поможет. Не оставаться же век нелюдимкой. Со мною уж бывали такие же случаи. Я помню, когда я, бывало, еще маленькая, в пансион хаживала. Бывало, все воскресенье дома резвишься, прыгаешь, иной раз и побранит матушка, – все ничего, все хорошо на сердце, светло на душе. Станет подходить вечер, и грусть нападает смертельная, нужно в девять часов в пансион идти, а там все чужое, холодное, строгое, гувернантки по понедельникам такие сердитые, так и щемит, бывало, за душу, плакать хочется; пойдешь в уголок и поплачешь одна-одинешенька, слезы скрываешь, – скажут, ленивая; а я вовсе не о том и плачу, бывало, что учиться надобно. Ну, что ж? я привыкла, и потом, когда выходила из пансиона, так тоже плакала, прощаясь с подружками. Да и нехорошо я делаю, что живу в тягость обоим вам. Эта мысль – мне мученье. Я вам откровенно говорю все это, потому что привыкла быть с вами откровенною. Разве я не вижу, как Федора встает каждый день раным-ранехонько, да за стирку свою принимается и до поздней ночи работает? – а старые кости любят покой. Разве я не вижу, что вы на меня разоряетесь, последнюю копейку ребром ставите да на меня ее тратите? не с вашим состоянием, мой друг! Пишете вы, что последнее продадите, а меня в нужде не оставите. Верю, друг мой, я верю в ваше доброе сердце – но это вы теперь так говорите. Теперь у вас есть деньги неожиданные, вы получили награждение; но потом что будет, потом? Вы знаете сами – я больная всегда; я не могу так же, как и вы, работать, хотя бы душою рада была, да и работа не всегда бывает. Что же мне остается? Надрываться с тоски, глядя на вас обоих, сердечных. Чем я могу оказать вам хоть малейшую пользу? И отчего я вам так необходима, друг мой? Что я вам хорошего сделала? Я только привязана к вам всею душою, люблю вас крепко, сильно, всем сердцем, но – горька судьба моя! – я умею любить и могу любить, но только, а не творить добро, не платить вам за ваши благодеяния. Не держите же меня более, подумайте и скажите ваше последнее мнение. В ожидании пребываю
вас любящая
В.Д.
Июля 1.
Блажь, блажь, Варенька, просто блажь! Оставь вас так, так вы там головкой своей и чего-чего не передумаете. И то не так и это не так! А я вижу теперь, что это все блажь. Да чего же вам недостает у нас, маточка, вы только это скажите! Вас любят, вы нас любите, мы все довольны и счастливы – чего же более? Ну, а что вы в чужих-то людях будете делать? Ведь вы, верно, еще не знаете, что такое чужой человек?.. Нет, вы меня извольте-ка порасспросить, так я вам скажу, что такое чужой человек. Знаю я его, маточка, хорошо знаю; случалось хлеб его есть. Зол он, Варенька, зол, уж так зол, что сердечка твоего недостанет, так он его истерзает укором, попреком да взглядом дурным. У нас вам тепло, хорошо, – словно в гнездышке приютились. Да и нас-то вы как без головы оставите. Ну что мы будем делать без вас; что я, старик, буду делать тогда? Вы нам не нужны? Не полезны? Как не полезны? Нет, вы, маточка, сами рассудите, как же вы не полезны? Вы мне очень полезны, Варенька. Вы этакое влияние имеете благотворное… Вот я об вас думаю теперь, и мне весело… Я вам иной раз письмо напишу и все чувства в нем изложу, на что подробный ответ от вас получаю. Гардеробцу вам накупил, шляпку сделал; от вас комиссия подчас выходит какая-нибудь, я и комиссию… Нет, как же вы не полезны? Да и что я один буду делать на старости, на что годиться буду? Вы, может быть, об этом и не подумали, Варенька; нет, вы именно об этом подумайте – что вот, дескать, на что он будет без меня-то годиться? Я привык к вам, родная моя. А то что из этого будет? Пойду к Неве, да и дело с концом. Да, право же, будет такое, Варенька; что же мне без вас делать останется! Ах, душечка моя, Варенька! Хочется, видно, вам, чтобы меня ломовой извозчик на Волково свез; чтобы какая-нибудь там нищая старуха-пошлепница одна мой гроб провожала, чтобы меня там песком засыпали, да прочь пошли, да одного там оставили. Грешно, грешно, маточка! Право, грешно, ей-богу, грешно! Отсылаю вам вашу книжку, дружочек мой, Варенька, и если вы, дружочек мой, спросите мнения моего насчет вашей книжки, то я скажу, что в жизнь мою не случалось мне читать таких славных книжек. Спрашиваю я теперь себя, маточка, как же это я жил до сих пор таким олухом, прости господи? Что делал? Из каких я лесов? Ведь ничего-то я не знаю, маточка, ровно ничего не знаю! совсем ничего не знаю! Я вам, Варенька, спроста скажу, – я человек неученый; читал я до сей поры мало, очень мало читал, да почти ничего: «Картину человека», умное сочинение, читал; «Мальчика, наигрывающего разные штучки на колокольчиках» читал да «Ивиковы журавли», – вот только и всего, а больше ничего никогда не читал. Теперь я «Станционного смотрителя» здесь в вашей книжке прочел; ведь вот скажу я вам, маточка, случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад было, так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все, помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. И наконец, вот отчего еще я полюбил вашу книжку: иное творение, какое там ни есть, читаешь-читаешь, иной раз хоть тресни – так хитро, что как будто бы его и не понимаешь. Я, например, – я туп, я от природы моей туп, так я не могу слишком важных сочинений читать; а это читаешь, – словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно – вот как! Да и дело-то простое, бог мой; да чего! право, и я так же бы написал; отчего же бы и не написал? Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился, как, примерно сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга. Да и сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же горемык сердечных! И как ловко описано все! Меня чуть слезы не прошибли, маточка, когда я прочел, что он спился, грешный, так, что память потерял, горьким сделался и спит себе целый день под овчинным тулупом, да горе пуншиком захлебывает, да плачет жалостно, грязной полою глаза утирая, когда вспоминает о заблудшей овечке своей, об дочке Дуняше! Нет, это натурально! Вы прочтите-ка; это натурально! это живет! Я сам это видал, – это вот все около меня живет; вот хоть Тереза – да чего далеко ходить! – вот хоть бы и наш бедный чиновник, – * ведь он, может быть, такой же Самсон Вырин, только у него другая фамилия, Горшков. Дело-то оно общее, маточка, и над вами и надо мной может случиться. И граф, что на Невском или на набережной живет, и он будет то же самое, так только казаться будет другим, потому что у них все по-своему, по высшему тону, но и он будет то же самое, все может случиться, и со мною то же самое может случиться. Вот оно что, маточка, а вы еще тут от нас отходить хотите; да ведь грех, Варенька, может застигнуть меня. И себя и меня сгубить можете, родная моя. Ах, ясочка вы моя, выкиньте, ради бога, из головки своей все эти вольные мысли и не терзайте меня напрасно. Ну где же, птенчик вы мой слабенький, неоперившийся, где же вам самое себя прокормить, от погибели себя удержать, от злодеев защититься! Полноте, Варенька, поправьтесь; вздорных советов и наговоров не слушайте, а книжку вашу еще раз прочтите, со вниманием прочтите: вам это пользу принесет.
Говорил я про «Станционного смотрителя» Ратазяеву. Он мне сказал, что это все старое и что теперь все пошли книжки с картинками и с разными описаниями; уж я, право, в толк не взял хорошенько, что он тут говорил такое. Заключил же, что Пушкин хорош и что он святую Русь прославил, и много еще мне про него говорил. Да, очень хорошо, Варенька, очень хорошо; прочтите-ка книжку еще раз со вниманием, советам моим последуйте и послушанием своим меня, старика, осчастливьте. Тогда сам господь наградит вас, моя родная, непременно наградит.
Ваш искренний друг
Макар Девушкин.
Июля 6.
Милостивый государь, Макар Алексеевич!
Федора принесла мне сегодня пятнадцать рублей серебром. Как она была рада, бедная, когда я ей три целковых дала! Пишу вам наскоро. Я теперь крою вам жилетку, – прелесть какая материя, – желтенькая с цветочками. Посылаю вам одну книжку; тут все разные повести; я прочла кое-какие; прочтите одну из них под названием «Шинель». Вы меня уговариваете в театр идти вместе с вами; не дорого ли это будет? Разве уж куда-нибудь в галерею. Я уж очень давно не была в театре, да и, право, не помню когда. Только опять все боюсь, не дорого ли будет стоить эта затея? Федора только головой покачивает. Она говорит, что вы совсем не по достаткам жить начали; да я и сама это вижу; сколько вы на меня одну истратили! Смотрите, друг мой, не было бы беды. Федора и так мне говорила про какие-то слухи – что вы имели, кажется, спор с вашей хозяйкой за неуплату ей денег; я очень боюсь за вас. Ну, прощайте; я спешу. Дело есть маленькое; я переменяю ленты на шляпке.
В. Д.
P. S. Знаете ли, если мы пойдем в театр, то я надену мою новенькую шляпку, а на плеча черную мантилью. Хорошо ли это будет?
Июля 7.
Милостивая государыня. Варвара Алексеевна!
…Так вот я все про вчерашнее. Да, маточка, и на нас в оно время блажь находила. Врезался в эту актрисочку, по уши врезался, да это бы еще ничего; а самое-то чудное то, что я ее почти совсем не видал и в театре был всего один раз, а при всем том врезался. Жили тогда со мною стенка об стенку человек пятеро молодого, раззадорного народу. Сошелся я с ними, поневоле сошелся, хотя всегда был от них в пристойных границах. Ну, чтобы не отстать, я и сам им во всем поддакиваю. Насказали они мне об этой актриске! Каждый вечер, как только театр идет, вся компания – на нужное у них никогда гроша не бывало – вся компания отправлялась в театр, в галерею, и уж хлопают-хлопают, вызывают-вызывают эту актриску – просто беснуются! А потом и заснуть не дадут; всю ночь напролет об ней толкуют, всякий ее своей Глашей зовет, все в одну в нее влюблены, у всех одна канарейка на сердце. Раззадорили они и меня, беззащитного; я тогда еще молоденек был. Сам не знаю, как очутился я с ними в театре, в четвертом ярусе, в галерее. Видеть-то я один только краешек занавески видел, зато все слышал. У актрисочки, точно, голосок был хорошенький, – звонкий, соловьиный, медовый! Мы все руки у себя отхлопали, кричали-кричали, – одним словом, до нас чуть не добрались, одного уж и вывели, правда. Пришел я домой, – как в чаду хожу! в кармане только один целковый рубль оставался, а до жалованья еще добрых дней десять. Так как бы вы думали, маточка? На другой день, прежде чем на службу идти, завернул я к парфюмеру-французу, купил у него духов каких-то да мыла благовонного на весь капитал – уж и сам не знаю, зачем я тогда накупил всего этого? Да и не обедал дома, а все мимо ее окон ходил. Она жила на Невском, в четвертом этаже. Пришел домой, часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошел, чтобы только мимо ее окошек пройти. Полтора месяца я ходил таким образом, волочился за нею; извозчиков-лихачей нанимал поминутно и все мимо ее окон концы давал; замотался совсем, задолжал, а потом уж и разлюбил ее: наскучило! Так вот что актриска из порядочного человека сделать в состоянии, маточка! Впрочем, молоденек-то я, молоденек был тогда!..
М.Д.
Июля 8.
Милостивая государыня моя, Варвара Алексеевна!
Книжку вашу, полученную мною 6-го сего месяца, спешу возвратить вам и вместе с тем спешу в сем письме моем объясниться с вами. Дурно, маточка, дурно то, что вы меня в такую крайность поставили. Позвольте, маточка: всякое состояние определено всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником; такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано; иной на одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим богом. Состою я уже около тридцати лет на службе; служу безукоризненно, поведения трезвого, в беспорядках никогда не замечен. Как гражданин, считаю себя, собственным сознанием моим, как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною довольны; и хотя еще они доселе не оказывали мне особенных знаков благорасположения, но я знаю, что они довольны. Дожил до седых волос; греха за собою большого не знаю. Конечно, кто же в малом не грешен? Всякий грешен, и даже вы грешны, маточка! Но в больших проступках и продерзостях никогда не замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь или в нарушении общественного спокойствия, в этом я никогда не замечен, этого не было; даже крестик выходил – ну да уж что! Все это вы по совести должны бы были знать, маточка, и он должен бы был знать; уж как взялся описывать, так должен бы был все знать. Нет, я этого не ожидал от нас, маточка; нет, Варенька! Вот от вас-то именно такого и не ожидал.
Как! Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке своем, – каков уж он там ни есть, – жить водой не замутя, по пословице, никого не трогая, зная страх божий да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались да не подсмотрели – что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, водится ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем подбиты они; что ешь, что пьешь, что переписываешь?.. Да и что же тут такого, маточка, что вот хоть бы и я, где мостовая плоховата, пройду иной раз на цыпочках, что я сапоги берегу! Зачем писать про другого, что вот де он иной раз нуждается, что чаю не пьет? А точно все и должны уж так непременно чай пить! Да разве я смотрю в рот каждому, что, дескать, какой он там кусок жует? Кого же я обижал таким образом? Нет, маточка, зачем же других обижать, когда тебя не затрогивают! Ну, и вот вам пример, Варвара Алексеевна, вот что значит оно: служишь-служишь, ревностно, усердно, – чего! – и начальство само тебя уважает (уж как бы там ни было, а все-таки уважает), – и вот кто-нибудь под самым носом твоим, безо всякой видимой причины, ни с того ни с сего, испечет тебе пасквиль. Конечно, правда, иногда сошьешь себе что-нибудь новое, – радуешься, не спишь, а радуешься, сапоги новые, например, с таким сладострастием надеваешь – это правда, я ощущал, потому что приятно видеть свою ногу в тонком щегольском сапоге, – это верно описано! Но я все-таки истинно удивляюсь, как Федор-то Федорович без внимания книжку такую пропустили и за себя не вступились. Правда, что он еще молодой сановник и любит подчас покричать; но отчего же и не покричать? Отчего же и не распечь, коли нужно нашего брата распечь. Ну да положим и так, например, для тона распечь – ну и для тона можно; нужно приучать; нужно острастку давать; потому что – между нами будь это, Варенька, – наш брат ничего без острастки не сделает, всякий норовит только где-нибудь числиться, что вот, дескать, я там-то и там-то, а от дела-то бочком да стороночкой. А так как разные чины бывают и каждый чин требует совершенно соответственной по чину распеканции, то естественно, что после этого и тон распеканции выходит разночинный, – это в порядке вещей! Да ведь на том и свет стоит, маточка, что все мы один перед другим тону задаем, что всяк из нас один другого распекает. Без этой предосторожности и свет бы не стоял и порядка бы не было. Истинно удивляюсь, как Федор Федорович такую обиду пропустили без внимания!
И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мне за это шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит? Нет, Варенька, прочтет да еще продолжения потребует. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать – куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено! Да тут и на улицу нельзя показаться будет; ведь тут это все так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь.
Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил, поместил бы, например, хоть после того пункта, как ему бумажки на голову сыпали: что вот, дескать, при всем этом он был добродетелен, хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не заслуживал, послушествовал старшим (тут бы пример можно какой-нибудь), никому зла не желал, верил в бога и умер (если ему хочется, чтобы он уж непременно умер) – оплаканный. А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал, узнавши подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалованья, так что, видите ли, как бы это было: зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы, и канцеляристы-товарищи все бы ни с чем и остались. Я бы, например, так сделал; а то что тут у него особенного, что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного, подлого быта. Да и как вы-то решились мне такую книжку прислать, родная моя. Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька; это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька, формально жаловаться.
Покорнейший слуга ваш
Макар Девушкин.
Июля 27.
Милостивый государь, Макар Алексеевич!
Последние происшествия и письма ваши испугали, поразили меня и повергли в недоумение, а рассказы Федоры объяснили мне все. Но зачем же было так отчаиваться и вдруг упасть в такую бездну, в какую вы упали, Макар Алексеевич? Ваши объяснения вовсе не удовольствовали меня. Видите ли, была ли я права, когда настаивала взять то выгодное место, которое мне предлагали? К тому же и последнее мое приключение пугает меня не на шутку. Вы говорите, что любовь ваша ко мне заставила вас таиться от меня. Я и тогда уже видела, что многим обязана вам, когда вы уверяли, что издерживаете на меня только запасные деньги свои, которые, как говорили, у вас в ломбарде на всякий случай лежали. Теперь же, когда я узнала, что у вас вовсе не было никаких денег, что вы, случайно узнавши о моем бедственном положении и тронувшись им, решились издержать свое жалованье, забрав его вперед, и продали даже свое платье, когда я больна была, – теперь я, открытием всего этого, поставлена в такое мучительное положение, что до сих пор не знаю, как принять все это и что думать об этом. Ах! Макар Алексеевич! вы должны были остановиться на первых благодеяниях своих, внушенных вам состраданием и родственною любовью, а не расточать деньги впоследствии на ненужное. Вы изменили дружбе нашей, Макар Алексеевич, потому что не были откровенны со мною, и теперь, когда я вижу, что ваше последнее пошло мне на наряды, на конфеты, на прогулки, на театр и на книги, – то за все это я теперь дорого плачу сожалением о своей непростительной ветрености (ибо я принимала от вас все, не заботясь о вас самих); и все то, чем вы хотели доставить мне удовольствие, обратилось теперь в горе для меня и оставило по себе одно бесполезное сожаление. Я заметила вашу тоску в последнее время, и хотя сама тоскливо ожидала чего-то, но то, что случилось теперь, мне и в ум не входило. Как! вы до такой уже степени могли упасть духом, Макар Алексеевич! Но что теперь о вас подумают, что теперь скажут о вас все, кто вас знает? Вы, которого я и все уважали за доброту души, скромность и благоразумие, вы теперь вдруг впали в такой отвратительный порок, в котором, кажется, никогда не были замечены прежде. Что со мною было, когда Федора рассказала мне, что вас нашли на улице в нетрезвом виде и привезли на квартиру с полицией! Я остолбенела от изумления, хотя и ожидала чего-то необыкновенного, потому что вы четыре дня пропадали. Но подумали ли вы, Макар Алексеевич, что скажут ваши начальники, когда узнают настоящую причину вашего отсутствия? Вы говорите, что над вами смеются все; что все узнали о нашей связи и что и меня упоминают в насмешках своих соседи ваши. Не обращайте внимания на это, Макар Алексеевич, и, ради бога, успокойтесь. Меня пугает еще ваша история с этими офицерами; я об ней темно слышала. Растолкуйте мне, что это все значит? Пишете вы, что боялись открыться мне, боялись потерять вашим признанием мою дружбу, что были в отчаянии, не зная, чем помочь мне в моей болезни, что продали все, чтобы поддержать меня и не пускать в больницу, что задолжали сколько возможно задолжать и имеете каждый день неприятности с хозяйкой, – но, скрывая все это от меня, вы выбрали худшее. Но ведь теперь же я все узнала. Вы совестились заставить меня сознаться, что я была причиною вашего несчастного положения, а теперь вдвое более принесли мне горя своим поведением. Все это меня поразило, Макар Алексеевич. Ах, друг мой! несчастие – заразительная болезнь. Несчастным и бедным нужно сторониться друг от друга, чтоб еще более не заразиться. Я принесла вам такие несчастия, которых вы и не испытывали прежде в вашей скромной и уединенной жизни. Все это мучит и убивает меня.
Напишите мне теперь все откровенно, что с вами было и как вы решились на такой поступок. Успокойте меня, если можно. Не самолюбие заставляет меня писать теперь о моем спокойствии, но моя дружба и любовь к вам, которые ничем не изгладятся из моего сердца. Прощайте. Жду ответа вашего с нетерпением. Вы худо думали обо мне, Макар Алексеевич.
Вас сердечно любящая
Варвара Доброселова.
Июля 28.
Бесценная моя Варвара Алексеевна!
Ну уж, как теперь все кончено и все мало-помалу приходит в прежнее положение, то вот что скажу я вам, маточка: вы беспокоитесь об том, что обо мне подумают, на что спешу объявить вам, Варвара Алексеевна, что амбиция моя мне дороже всего. Вследствие чего и донося вам об несчастиях моих и всех этих беспорядках, уведомляю вас, что из начальства еще никто ничего не знает, да и не будет знать, так что они все будут питать ко мне уважение по-прежнему. Одного боюсь: сплетен боюсь. Дома у нас хозяйка кричит, а теперь, когда я с помощию ваших десяти рублей уплатил ей часть долга, только ворчит, а более ничего. Что же касается до прочих, то и они ничего; у них только не нужно денег взаймы просить, а то и они ничего. А в заключение объяснений моих скажу вам, маточка, что ваше уважение ко мне считаю я выше всего на свете и тем утешаюсь теперь во временных беспорядках моих. Слава богу, что первый удар и первые передряги миновали, и вы приняли это так, что не считаете меня вероломным другом и себялюбцем за то, что я вас у себя держал и обманывал вас, не в силах будучи с вами расстаться и любя вас, как моего ангельчика. Рачительно теперь принялся за службу и должность свою стал исправлять хорошо. Евстафий Иванович хоть бы слово сказал, когда я мимо их вчера проходил. Не скрою от вас, маточка, что убивают меня долги мои и худое положение моего гардероба, но это опять ничего, и об этом тоже, молю вас – не отчаивайтесь, маточка. Посылаете мне еще полтинничек, Варенька, и этот полтинничек мне мое сердце пронзил. Так так-то оно теперь стало, так вот оно как! то есть это не я, старый дурак, вам, ангельчику, помогаю, а вы, сироточка моя бедненькая, мне! Хорошо сделала Федора, что достала денег. Я покамест не имею надежд никаких, маточка, на получение, а если чуть возродятся какие-нибудь надежды, то отпишу вам обо всем подробно. Но сплетни, сплетни меня беспокоят более всего. Прощайте, мой ангельчик. Целую вашу ручку и умоляю вас выздоравливать. Пишу оттого не подробно, что в должность спешу, ибо старанием и рачением хочу загладить все вины мои в упущении по службе; дальнейшее же повествование о всех происшествиях и о приключении с офицерами откладываю до вечера.
Вас уважающий и вас сердечно любящий
Макар Девушкин.
Июля 28.
Эх, Варенька, Варенька! Вот именно-то теперь грех на вашей стороне и на совести вашей останется. Письмецом-то своим вы меня с толку последнего сбили, озадачили, да уж только теперь, как я на досуге во внутренность сердца моего проник, так и увидел, что прав был, совершенно был прав. Я не про дебош мой говорю (ну его, маточка, ну его!), а про то, что я люблю вас и что вовсе не неблагоразумно мне было любить вас, вовсе не неблагоразумно. Вы, маточка, не знаете ничего; а вот если бы знали только, отчего это все, отчего это я должен вас любить, так вы бы не то сказали. Вы это все резонное-то только так говорите, а я уверен, что на сердце-то у вас вовсе не то.
Маточка моя, я и сам-то не знаю и не помню хорошо всего, что было у меня с офицерами. Нужно вам заметить, ангельчик мой, что до того времени я был в смущении ужаснейшем. Вообразите себе, что уже целый месяц, так сказать, на одной ниточке крепился. Положение было пребедственное. От вас-то я скрывался, да и дома тоже, но хозяйка моя шуму и крику наделала. Оно бы мне и ничего Пусть бы кричала баба негодная, да одно то, что срам, а второе то, что она, господь ее знает как, об нашей связи узнала и такое про нее на весь дом кричала, что я обомлел да и уши заткнул. Да дело-то в том, что другие свои ушей не затыкали, а, напротив, развесили их. Я и теперь маточка, куда мне деваться, не знаю…
И вот, ангельчик мой, все-то это, весь-то этот сброд всяческого бедствия и доконал меня окончательно. Вдруг странные вещи слышу я от Федоры, что в дом к вам явился недостойный искатель и оскорбил вас недостойным предложением; что он вас оскорбил, глубоко оскорбил, я по себе сужу, маточка, потому что и я сам глубоко оскорбился. Тут-то я, ангельчик вы мой, и свихнулся, тут-то я и потерялся и пропал совершенно. Я, друг вы мой, Варенька, выбежал в бешенстве каком-то неслыханном, я к нему хотел идти, греховоднику; я уж и не знал, что я делать хотел, потому что я не хочу, чтобы вас, ангельчика моего, обижали! Ну, грустно было! а на ту пору дождь, слякоть, тоска была страшная!.. Я было уж воротиться хотел… Тут-то я и пал, маточка. Я Емелю встретил, Емельяна Ильича, он чиновник, то есть был чиновник, а теперь уж не чиновник, потому что его от нас выключили. Он уж я и не знаю, что делает, как-то там мается; вот мы с ним и пошли. Тут – ну, да что вам, Варенька, ну, весело, что ли, про несчастия друга своего читать, бедствия его и историю искушений, им претерпенных? На третий день, вечером, уж что Емеля подбил меня, я и пошел к нему, к офицеру-то. Адрес-то я у нашего дворника спросил. Я, маточка, уж если к слову сказать пришлось, давно за этим молодцом примечал; следил его, когда еще он в доме у нас квартировал. Теперь-то я вижу, что я неприличие сделал, потому что я не в своем виде был, когда обо мне ему доложили. Я, Варенька, ничего, по правде, и не помню; помню только, что у него было очень много офицеров, или это двоилось у меня – бог знает. Я не помню также, что я говорил, только я знаю, что я много говорил, в благородном негодовании моем. Ну, тут-то меня и выгнали, тут-то меня и с лестницы сбросили, то есть оно не то чтобы совсем сбросили, а только так вытолкали. Вы уж знаете, Варенька, как я воротился; вот оно и все. Конечно, я себя уронил и амбиция моя пострадала, но ведь этого никто не знает из посторонних-то, никто, кроме вас, не знает; ну, а в таком случае это все равно что как бы его и не было. Может быть, это и так, Варенька, как вы думаете? Что мне только достоверно известно, так что то, что прошлый год у нас Аксентий Осипович таким же образом дерзнул на личность Петра Петровича, но по секрету, он это сделал по секрету. Он его зазвал в сторожевскую комнату, я это все в щелочку видел; да уж там он как надобно было и распорядился, но благородным образом, потому что этого никто не видал, кроме меня; ну, а я ничего, то есть я хочу сказать, что я не объявлял никому. Ну, а после этого Петр Петрович и Аксентий Осипович ничего. Петр Петрович, знаете, амбиционный такой, так он и никому не сказал, так что они теперь и кланяются и руки жмут. Я не спорю, я, Варенька, с вами спорить не смею, я глубоко упал и, что всего ужаснее, в собственном мнении своем проиграл, но уж это, верно, мне так на роду было написано, уж это, верно, судьба, – а от судьбы не убежишь, сами знаете. Ну, вот и подробное объяснение несчастий моих и бедствий, Варенька, вот – все такое, что хоть бы и не читать, так в ту же пору. Я немного нездоров, маточка моя, и всей игривости чувств лишился. Посему теперь, свидетельствуя вам мою привязанность, любовь и уважение, пребываю, милостивая государыня моя, Варвара Алексеевна,
покорнейшим слугою вашим