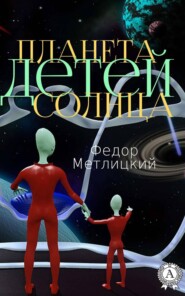По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Распад
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я вспоминаю: уже в начале
Надлом в душе, где холод повис.
В портовом городе синие дали —
Призыв – не в ту, что я прожил, жизнь.
Была амнистия. С парохода
Из темных трюмов лились «зэка».
Не стало в городе вдруг прохода —
Ах, уголовный голодный оскал!
А наши, дружные, с ремзавода,
За железяки тоже взялись.
Фанаты били, резали с ходу,
А те, тверезые, злобу жгли.
Вдруг – автоматчики на фургонах!
Тупою силой – свинцом по врагу.
Закон незыблем – и уж в загонах
Рабы зализывали свой разгул.
Мы, дети ледового света челюскинцев,
Сновали меж штабелями в порту, —
Лежал там кто-то в рванье, без челюсти,
Засиневевший, икал в поту!
А мы в жестоком страхе глазели,
И не жалели мы чужака.
То отчужденье, что в нас засело,
Казалось, в жизнь вошло на века.
Наверное, из-за этой травмы на него иногда находит непонятный ужас, близко – у сердца! Сминающий естественные чувства. Странное свойство, ставшее болезнью: не умел владеть собой в зависимом положении. То есть, открыт и искренен, но не мог это применить – опасно открываться, вызывать недоумение, не поймут все, от кого приходится зависеть. Повиновался общепринятому, хотя не мог этого выносить. Что внушило мысль, что быть тем, что он есть, – значит поставить себя вне людей? Что быть самим собой – преступление? Что-то внутри дико стыдится его нелепости, наверно, это и есть муки совести. Может быть, в роду были юродивые? Или носил в себе изначальную вину человека своего времени. Он как бы исторический продукт насилий эпохи. Хотя ему не приходило в голову винить кого-то, кроме себя. В нем не было ощущения мира, жил в облаке своих несмелых порочных побуждений и предопределенной вины.
Видимо, это повлияло на него, когда он впервые влюбился. Это была девчонка из параллельного класса, с большими очами, загадочно глядящими из темных, как от загара, глазных впадин, что необъяснимо привлекало. Он охотился за ней, чтобы смотреть украдкой. Так было полгода, и она, видимо, пугалась его, и тоже пряталась. Однажды, по совету приятеля, решился подойти, и с мукой сказал:
– Пойдем гулять.
Она испуганно глянула своими темными очами.
Он повернулся и пошел.
С тех пор она старалась не обращать на него внимания, гуляла с другим.
Куда делась смелость его чистоты? Это была унизительная зависимость. Потеря личности. Его стыдная любовь спряталась куда-то глубоко. Открыл, что никогда не сможет быть самим собой.
Становился нормальным, только вырвавшись из ужаса несвободы, зависимости. Когда взбирался на гору, над сияющим светом залива, где не надо прятать себя. Там открывался вид, как на многоярусных японских свитках. Наверно, в нем зачаток живущей там, рядом, за морем, древней восточной традиции ухода в одиночество гор, деревьев и воды. Маленькие робкие цветочки багульника на хилых прутиках представлялись сиреневыми вспышками в неясное исцеление, а тонкий запах – забытой родиной.
И с дружками во дворе Павлик не ощущал зависимости, они были свободны. Играя, надевал отцовскую фуражку с зеленым околышем, просовывал руку за борт пиджака и говорил, подражая сталинской речи из граммофонной пластинки: «Ны богу свэчка, ны черту кочерга!» За это отец нещадно его выпорол. С тех пор панически боялся отцовского ремня.
И еще – книги! Читал он запоем. Провинциальное воспитание и образование ничем не отличалось от других, даже столичного. Тоталитаризм был благотворным – создал одинаковое обеспечение духовного уровня и в центре, и в провинции. Вырос в доступной книжной среде классической литературы, не встречая ничего похожего в реальной жизни. Видит себя читающим у шкафа богатой отцовской библиотеки, несмотря на край земли. Инопланетный мир «Витязя в тигровой шкуре»… Сказочная родина «Малахитовой шкатулки» с волшебными цветными вкладками-картинками, переложенными прозрачной бумагой… Рассказы Чехова сами собой заучивались наизусть. Даже пытался осилить откопанные на чердаке старые слежавшиеся философские книги. И понимал! – правда, в голове остались фантастические представления.
Павлик глотал книги, не пытаясь осмыслить их идеи. Как будто и не читал ничего. И только взрослым, перечитывая все заново, стал понимать смысл прочитанного. Ему, страшно далекому от народа, казалось, что там настоящая свобода. Аура классиков вошла в него, как что-то вездесущее. В них затрагивало душу что-то вечно важное вне череды эпох. Не выбьешь никаким постмодернизмом, хотя уже не могут удовлетворить.
Завел тетрадь-дневник, на обложке начертал эпиграф: «Я каждый день/ Бессмертным сделать бы хотел, как тень/ Великого героя, и понять/ Я не могу, что значит отдыхать. М. Ю. Лермонтов». Может быть, такими рождаются люди, кому всегда что-то надо. Пассионарии. Его отличие от великого поэта – тот бросился в бездну, где «надежд разбитых груз лежит», и восстал, как страдающий демон, а Павлик спрятал свои разбитые надежды, боясь, что узнают. Тем более, у него уже скопился маленький груз любви и разбитых надежд. Хотя как сказать, маленький ли это груз? Любовь или отверженность не имеют возраста. Первую страницу начал поразившими ритмическими строчками: «Сегодня первую тетрадь/ Я собираюсь начинать». В них было ожидание чего-то необычного. Дальше не знал, о чем писать.
С тех пор не расставался с дневником, описывал в нем свои странные озарения. Они не казались чем-то настоящим, потому что были в стороне от реальности. Внешние события, высказывания авторитетов записывал как есть, как что-то важное, не считая, что его отношение что-то значит, да и было ли оно? Только тенденция, тень – поиска себя настоящего. Потом читать ранние дневники было скучно.
И вот, когда автобус забрался на сопку, открылось море, сияя – прямо в душу – чудом, бухта в зеленых пятнах подводных водорослей, очерчивая полукругом город. И снова нахлынули воспоминания……
Пахнущий морскими водорослями берег моря, на песке удивительные вещи, принесенные морем, волшебные зеленоватые стеклянные шары (узнал после – поплавки для сетей), остов парохода с высоко поднятым над водой носом, напоровшийся на подводную скалу. А ночью, в теплой тьме плещущего моря, прерывающийся рокот двигателя невидимого катера. И – огромный страшноватый причал в контейнерах и ящиках, трюмы пароходов с рыбными консервами и трюмными крысами, где они, дети, подрабатывали. До сих пор банки с надписью «Сайра» вызывают ностальгические воспоминания того голодного времени.
Вот всем классом качаются на катере, пахнущем смолой морских просторов, на грани тошноты, плывут к каким-то дальним берегам. Такие чувства, наверно, владели Робинзоном: выгрузились у незнакомой заводи – бухты Буян, рассыпались по берегу, подбирая цветные камешки.
И вдруг за бухтой открылись утесы – три высоких каменных столба. На их вершинах колыхались высокие травы, над ними кружили одинокие чайки. Что-то в утесах тихое и пустынное, безграничное одиночество свободы.
С тех пор, когда шепчет это слово: уте-сы, уу-те-сы-и, возникает необъяснимое, самое высокое чувство, где прячется разгадка его исцеления.
Что это за печаль, выросшая в заброшенном крае земли, не позволявшем увидеть то, что за его горизонтом? Печаль о родине – странное человеческое чувство, для одних воспоминание забытого эпизода длинной жизни, для других – оставшийся на всю жизнь ориентир чистоты. Бывает чувство, похожее на общую потребность сохранить родину, то есть свой покой в ней и гнев к вкрадчиво окружающему врагу, и есть детское чистое чувство счастливого края, который никогда не вернется, но пребудет вечно. Гениальность, которая всегда отдельна и единична, но мерцает в душе каждого как несбыточная мечта. Сохранить родину – это сохранить искренность души, близкое, – самое ценное в жестоком мире. Здесь – граница между людьми.
Сколько написано стихов и прозы о чуде детства, малой родины, все они в новом времени становятся никому не нужными личными чувствами. К чему чистота, если не применима? Всегда актуально не одинокое сияние прошлого, а мощный толчок в полуденный свет открытий, поднимающий в бессмертие все новые и новые творческие волны, чувство общего пути в неизведанную вселенную. Преодоление потерь, смерти.
Печаль Павла была той, что не открывала выхода.
Его детская болезнь ушла внутрь в голодные послевоенные годы, когда, семьей, уехали на Кавказ. Отец захотел воплотить мечту – увидеть некий город Ленкорань, поесть яблочек, пожить в раю. Это было его Эльдорадо. Помнит, как под ярким небом с багровыми полосами облаков, испуганный и беззащитный, шел по висячему мосту над темной бездной. Может быть, это приснилось?
В нем всегда жила бездомность вокзалов детства. Здравствуй, гулкий вокзал, откуда здесь запахи угля, с детства бездомного мне открывавшие мир?
Огромные послевоенные залы, пахнущие мешками и нищетой, доносящийся с неба громоносный голос из серебряных репродукторов, странные молочные шары светильников под потолком. Из какой страшной жизни убегали эти укутанные платками мешочники? Где был тот рай, которого искали и они?
Доехали лишь до какого-то села в Чечне. Там пошел в школу, и в классе из сорока учеников один написал диктант без ошибок.
Это был голод, пахнущий черемшой, которую собирали, жарили и ели. Черемша выходила длинными червями, которые надо было отрывать из зада. Собирали дикие груши, алычу в горах. Помнит, набрали на поле овса, крутили через крупорушку – трубу с ручкой, надетую на конусообразную болванку с нарезками. Он наелся овсяной муки с шелухой, и не мог разрешиться пять дней, корчась от боли в животе.
Не вовремя рожденный ребенок – братик все время кричал от голода – молока у матери не было. Потом он узнал, что отец в отчаянии задушил его подушкой.
Сестра Светлана заболела скарлатиной, ее увезли в больницу. Через три дня приехал отец, мокрый, в брезентовке с капюшоном, опустил голову на руки.
– Нет больше нашего Светика.
Иногда Павлу представляется неясный образ маленькой сестры, в спокойном тумане обреченности.
Тогда же он убежал в город, и от голода, и – скорее узнать, что там. Ночевал под тротуаром, а днем пытался что-нибудь украсть, чтобы поесть. Его поймали, когда на базаре схватил пирожок и сразу сунул в рот. И отправили в детский дом. Никогда не забудет, в вагоне по пути в детдом, вкус теплого лаваша, с выпуклостями от воздуха внутри, кусок которого ему оторвали.
В большой комнате детдома было очень много двухъярусных коек, и какой-то скелетик с неандертальскими надбровьями беспрерывно плакал:
– Исты хочу! Исты хочу!
Может быть, это был маленький Печенев.
Было голодно, и пацаны совершали набеги на кукурузные поля, объедались сырыми зернами, в страхе, не скачет ли всегда злой объездчик.
Однажды толстая воспитательница в гневе раздела догола одного из них и выгнала на улицу. Через некоторое время вошел директор детдома – высокий худющий офицер-инвалид, из своей широкой шинели выпростал голого мальчика. Лицо у него было такое, что воспитательница завизжала и выскочила вон. Теперь Павел понимает: причем тоталитаризм? Спасала самоорганизация людей для выживания, и человеческая совесть.
Потом пришла директор школы, маленькая хрупкая осетинка, похожая на крошку Цахес. Решила его усыновить, как самого симпатичного и умненького. Он подумал, и написал домой письмо.
Сразу приехала мать, и семья снова соединилась. Осиротевшие, с бедным скарбом, вернулись обратно, в приморский город на Дальнем Востоке. Наверно, оттуда его мелкие привычки, нервирующие жену – подбирать с тарелки дочиста. Видно, и вправду у него психология блокадника.
Надлом в душе, где холод повис.
В портовом городе синие дали —
Призыв – не в ту, что я прожил, жизнь.
Была амнистия. С парохода
Из темных трюмов лились «зэка».
Не стало в городе вдруг прохода —
Ах, уголовный голодный оскал!
А наши, дружные, с ремзавода,
За железяки тоже взялись.
Фанаты били, резали с ходу,
А те, тверезые, злобу жгли.
Вдруг – автоматчики на фургонах!
Тупою силой – свинцом по врагу.
Закон незыблем – и уж в загонах
Рабы зализывали свой разгул.
Мы, дети ледового света челюскинцев,
Сновали меж штабелями в порту, —
Лежал там кто-то в рванье, без челюсти,
Засиневевший, икал в поту!
А мы в жестоком страхе глазели,
И не жалели мы чужака.
То отчужденье, что в нас засело,
Казалось, в жизнь вошло на века.
Наверное, из-за этой травмы на него иногда находит непонятный ужас, близко – у сердца! Сминающий естественные чувства. Странное свойство, ставшее болезнью: не умел владеть собой в зависимом положении. То есть, открыт и искренен, но не мог это применить – опасно открываться, вызывать недоумение, не поймут все, от кого приходится зависеть. Повиновался общепринятому, хотя не мог этого выносить. Что внушило мысль, что быть тем, что он есть, – значит поставить себя вне людей? Что быть самим собой – преступление? Что-то внутри дико стыдится его нелепости, наверно, это и есть муки совести. Может быть, в роду были юродивые? Или носил в себе изначальную вину человека своего времени. Он как бы исторический продукт насилий эпохи. Хотя ему не приходило в голову винить кого-то, кроме себя. В нем не было ощущения мира, жил в облаке своих несмелых порочных побуждений и предопределенной вины.
Видимо, это повлияло на него, когда он впервые влюбился. Это была девчонка из параллельного класса, с большими очами, загадочно глядящими из темных, как от загара, глазных впадин, что необъяснимо привлекало. Он охотился за ней, чтобы смотреть украдкой. Так было полгода, и она, видимо, пугалась его, и тоже пряталась. Однажды, по совету приятеля, решился подойти, и с мукой сказал:
– Пойдем гулять.
Она испуганно глянула своими темными очами.
Он повернулся и пошел.
С тех пор она старалась не обращать на него внимания, гуляла с другим.
Куда делась смелость его чистоты? Это была унизительная зависимость. Потеря личности. Его стыдная любовь спряталась куда-то глубоко. Открыл, что никогда не сможет быть самим собой.
Становился нормальным, только вырвавшись из ужаса несвободы, зависимости. Когда взбирался на гору, над сияющим светом залива, где не надо прятать себя. Там открывался вид, как на многоярусных японских свитках. Наверно, в нем зачаток живущей там, рядом, за морем, древней восточной традиции ухода в одиночество гор, деревьев и воды. Маленькие робкие цветочки багульника на хилых прутиках представлялись сиреневыми вспышками в неясное исцеление, а тонкий запах – забытой родиной.
И с дружками во дворе Павлик не ощущал зависимости, они были свободны. Играя, надевал отцовскую фуражку с зеленым околышем, просовывал руку за борт пиджака и говорил, подражая сталинской речи из граммофонной пластинки: «Ны богу свэчка, ны черту кочерга!» За это отец нещадно его выпорол. С тех пор панически боялся отцовского ремня.
И еще – книги! Читал он запоем. Провинциальное воспитание и образование ничем не отличалось от других, даже столичного. Тоталитаризм был благотворным – создал одинаковое обеспечение духовного уровня и в центре, и в провинции. Вырос в доступной книжной среде классической литературы, не встречая ничего похожего в реальной жизни. Видит себя читающим у шкафа богатой отцовской библиотеки, несмотря на край земли. Инопланетный мир «Витязя в тигровой шкуре»… Сказочная родина «Малахитовой шкатулки» с волшебными цветными вкладками-картинками, переложенными прозрачной бумагой… Рассказы Чехова сами собой заучивались наизусть. Даже пытался осилить откопанные на чердаке старые слежавшиеся философские книги. И понимал! – правда, в голове остались фантастические представления.
Павлик глотал книги, не пытаясь осмыслить их идеи. Как будто и не читал ничего. И только взрослым, перечитывая все заново, стал понимать смысл прочитанного. Ему, страшно далекому от народа, казалось, что там настоящая свобода. Аура классиков вошла в него, как что-то вездесущее. В них затрагивало душу что-то вечно важное вне череды эпох. Не выбьешь никаким постмодернизмом, хотя уже не могут удовлетворить.
Завел тетрадь-дневник, на обложке начертал эпиграф: «Я каждый день/ Бессмертным сделать бы хотел, как тень/ Великого героя, и понять/ Я не могу, что значит отдыхать. М. Ю. Лермонтов». Может быть, такими рождаются люди, кому всегда что-то надо. Пассионарии. Его отличие от великого поэта – тот бросился в бездну, где «надежд разбитых груз лежит», и восстал, как страдающий демон, а Павлик спрятал свои разбитые надежды, боясь, что узнают. Тем более, у него уже скопился маленький груз любви и разбитых надежд. Хотя как сказать, маленький ли это груз? Любовь или отверженность не имеют возраста. Первую страницу начал поразившими ритмическими строчками: «Сегодня первую тетрадь/ Я собираюсь начинать». В них было ожидание чего-то необычного. Дальше не знал, о чем писать.
С тех пор не расставался с дневником, описывал в нем свои странные озарения. Они не казались чем-то настоящим, потому что были в стороне от реальности. Внешние события, высказывания авторитетов записывал как есть, как что-то важное, не считая, что его отношение что-то значит, да и было ли оно? Только тенденция, тень – поиска себя настоящего. Потом читать ранние дневники было скучно.
И вот, когда автобус забрался на сопку, открылось море, сияя – прямо в душу – чудом, бухта в зеленых пятнах подводных водорослей, очерчивая полукругом город. И снова нахлынули воспоминания……
Пахнущий морскими водорослями берег моря, на песке удивительные вещи, принесенные морем, волшебные зеленоватые стеклянные шары (узнал после – поплавки для сетей), остов парохода с высоко поднятым над водой носом, напоровшийся на подводную скалу. А ночью, в теплой тьме плещущего моря, прерывающийся рокот двигателя невидимого катера. И – огромный страшноватый причал в контейнерах и ящиках, трюмы пароходов с рыбными консервами и трюмными крысами, где они, дети, подрабатывали. До сих пор банки с надписью «Сайра» вызывают ностальгические воспоминания того голодного времени.
Вот всем классом качаются на катере, пахнущем смолой морских просторов, на грани тошноты, плывут к каким-то дальним берегам. Такие чувства, наверно, владели Робинзоном: выгрузились у незнакомой заводи – бухты Буян, рассыпались по берегу, подбирая цветные камешки.
И вдруг за бухтой открылись утесы – три высоких каменных столба. На их вершинах колыхались высокие травы, над ними кружили одинокие чайки. Что-то в утесах тихое и пустынное, безграничное одиночество свободы.
С тех пор, когда шепчет это слово: уте-сы, уу-те-сы-и, возникает необъяснимое, самое высокое чувство, где прячется разгадка его исцеления.
Что это за печаль, выросшая в заброшенном крае земли, не позволявшем увидеть то, что за его горизонтом? Печаль о родине – странное человеческое чувство, для одних воспоминание забытого эпизода длинной жизни, для других – оставшийся на всю жизнь ориентир чистоты. Бывает чувство, похожее на общую потребность сохранить родину, то есть свой покой в ней и гнев к вкрадчиво окружающему врагу, и есть детское чистое чувство счастливого края, который никогда не вернется, но пребудет вечно. Гениальность, которая всегда отдельна и единична, но мерцает в душе каждого как несбыточная мечта. Сохранить родину – это сохранить искренность души, близкое, – самое ценное в жестоком мире. Здесь – граница между людьми.
Сколько написано стихов и прозы о чуде детства, малой родины, все они в новом времени становятся никому не нужными личными чувствами. К чему чистота, если не применима? Всегда актуально не одинокое сияние прошлого, а мощный толчок в полуденный свет открытий, поднимающий в бессмертие все новые и новые творческие волны, чувство общего пути в неизведанную вселенную. Преодоление потерь, смерти.
Печаль Павла была той, что не открывала выхода.
Его детская болезнь ушла внутрь в голодные послевоенные годы, когда, семьей, уехали на Кавказ. Отец захотел воплотить мечту – увидеть некий город Ленкорань, поесть яблочек, пожить в раю. Это было его Эльдорадо. Помнит, как под ярким небом с багровыми полосами облаков, испуганный и беззащитный, шел по висячему мосту над темной бездной. Может быть, это приснилось?
В нем всегда жила бездомность вокзалов детства. Здравствуй, гулкий вокзал, откуда здесь запахи угля, с детства бездомного мне открывавшие мир?
Огромные послевоенные залы, пахнущие мешками и нищетой, доносящийся с неба громоносный голос из серебряных репродукторов, странные молочные шары светильников под потолком. Из какой страшной жизни убегали эти укутанные платками мешочники? Где был тот рай, которого искали и они?
Доехали лишь до какого-то села в Чечне. Там пошел в школу, и в классе из сорока учеников один написал диктант без ошибок.
Это был голод, пахнущий черемшой, которую собирали, жарили и ели. Черемша выходила длинными червями, которые надо было отрывать из зада. Собирали дикие груши, алычу в горах. Помнит, набрали на поле овса, крутили через крупорушку – трубу с ручкой, надетую на конусообразную болванку с нарезками. Он наелся овсяной муки с шелухой, и не мог разрешиться пять дней, корчась от боли в животе.
Не вовремя рожденный ребенок – братик все время кричал от голода – молока у матери не было. Потом он узнал, что отец в отчаянии задушил его подушкой.
Сестра Светлана заболела скарлатиной, ее увезли в больницу. Через три дня приехал отец, мокрый, в брезентовке с капюшоном, опустил голову на руки.
– Нет больше нашего Светика.
Иногда Павлу представляется неясный образ маленькой сестры, в спокойном тумане обреченности.
Тогда же он убежал в город, и от голода, и – скорее узнать, что там. Ночевал под тротуаром, а днем пытался что-нибудь украсть, чтобы поесть. Его поймали, когда на базаре схватил пирожок и сразу сунул в рот. И отправили в детский дом. Никогда не забудет, в вагоне по пути в детдом, вкус теплого лаваша, с выпуклостями от воздуха внутри, кусок которого ему оторвали.
В большой комнате детдома было очень много двухъярусных коек, и какой-то скелетик с неандертальскими надбровьями беспрерывно плакал:
– Исты хочу! Исты хочу!
Может быть, это был маленький Печенев.
Было голодно, и пацаны совершали набеги на кукурузные поля, объедались сырыми зернами, в страхе, не скачет ли всегда злой объездчик.
Однажды толстая воспитательница в гневе раздела догола одного из них и выгнала на улицу. Через некоторое время вошел директор детдома – высокий худющий офицер-инвалид, из своей широкой шинели выпростал голого мальчика. Лицо у него было такое, что воспитательница завизжала и выскочила вон. Теперь Павел понимает: причем тоталитаризм? Спасала самоорганизация людей для выживания, и человеческая совесть.
Потом пришла директор школы, маленькая хрупкая осетинка, похожая на крошку Цахес. Решила его усыновить, как самого симпатичного и умненького. Он подумал, и написал домой письмо.
Сразу приехала мать, и семья снова соединилась. Осиротевшие, с бедным скарбом, вернулись обратно, в приморский город на Дальнем Востоке. Наверно, оттуда его мелкие привычки, нервирующие жену – подбирать с тарелки дочиста. Видно, и вправду у него психология блокадника.