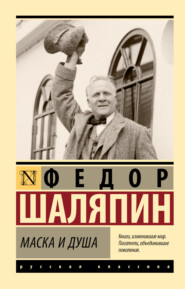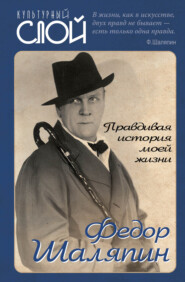По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Я был отчаянно провинциален…»
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2013
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Зачем же? Половина семи – 3,5, половина пяти – 2,5…
От этой дружеской арифметики я уходил на Воробьевы горы и оттуда любовался величием Москвы, которая, как все на свете, издали кажется красивее, чем вблизи. Сидя там в одиночестве, я с тревогой и грустью думал о себе, вспоминал мою жизнь, Тифлис, где мною было изжито немало счастливых часов, думал об Ольге, которой писал длинные письма, все более редко получая ответы на них. Не удалась мне моя первая юношеская любовь…
Прошло с месяц времени. В начале июля я получил от Рассохиной повестку, приглашавшую меня явиться в ее бюро. Захватил с собою ноты и побежал. В зале бюро сидел огромный детина с окладистой бородою, кудрявый, в поддевке, эдакий широкогрудый, густобровый богатырь. На груди у него висело фунта три брелоков. Смотрел он на всех внушительно и сердито. Вот это – настоящий московский антрепренер.
– Лентовский, – сказали мне.
Я уже слышал это знаменитое имя и немножко струсил, а Лентовский, осмотрев меня с ног до головы, сказал Рассохиной:
– Можно.
– Пойте, – предложила Рассохина.
Я запел арию из «Дон Карлоса», глядя в затылок аккомпаниатора. Послушав немного, Лентовский сказал:
– Довольно. Ну, что Вы знаете и что можете?
Я рассказал, что знаю. А вот что могу – этого не знаю!
– «Сказки Гофмана»[35 - Лирическая опера Ж. Оффенбаха.] пели?
– Нет.
– Вы будете играть Миракля. Возьмите клавир и учите. Вот вам сто рублей, а затем вы поедете в Петербург, петь в «Аркадии».
Все это: лаконизм Лентовского, сто рублей, его густые брови, брелоки – вызвало у меня подавляющее впечатление. Вот как действуют московские антрепренеры! Я подписал контракт, даже не прочитав, что подписываю, и, счастливый, бросился домой. Вскоре я подписал еще контракт на зимний сезон в Казань, к Унковскому, но в бюро мне сказали, что Унковский требует гарантию в том, что я действительно приеду, и поэтому я должен подписать вексель на 600 рублей.
Я подписал и поехал в Петербург, дружески простившись с Агнивцевым.
Ему все не везло. За последнее время у него еще начались какие-то недоразумения с голосом: он перестал петь баритоном и запел тенором. Прожив тяжелую жизнь, полную неудач и разочарований, он несколько лет тому назад, будучи крестьянским начальником в Сибири, буйно помешался и помер.
По дороге в Петербург я представлял себе этот город стоящим на горе, думал увидеть его белым, чистым, утопающим в зелени. Мне казалось, что он не может быть иным, если в нем живут цари.
Было немножко грустно увидать многочисленные трубы фабрик и тучу дыма над крышами, но все-таки своеобразная, хмурая красота города вызвала у меня сильное впечатление.
«Аркадия» тоже представлялась мне роскошным, невиданным садом, но оказалось, что это нечто вроде Панаевского сада в Казани, так же тесно застроенное, с такой же деревянной роскошью. В саду шли какие-то спектакли. На открытой сцене пела великолепная шансонетная певица Паола Кортэз. Я ежедневно ходил слушать ее, впервые видя столь талантливую женщину. Я не понимал, что она пела, но любовался ее голосом, интонациями, жестами. Ее песенки проникали куда-то глубже уха.
Прошло недели две. Явился Лентовский, и начались какие-то беспорядочные репетиции, неладные спектакли.
Оказалось, что хозяин предприятия не Лентовский, а буфетчик, и у него с Лентовским тотчас же начались не только ссоры, но и драки. Знаменитый московский импресарио походя бил буфетчика и, занятый этим делом, не особенно много обращал внимания на оперу. К тому же его увлекала феерия «Волшебные пилюли», для которой он пригласил весьма искусных акробатов. Они лазили по деревьям, проваливались сквозь землю при громе и молнии, их топили, давили, вешали. Все это было очень забавно, но в большом количестве – надоедало.
Я играл Миракля[36 - Миракль – ведущая басовая партия в опере Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана». Впервые опера поставлена с участием Ф.И. Шаляпина в петербургском летнем театре «Аркадия» 24 июля 1894 г.], но «Сказки Гофмана» успеха не имели. Публика не ходила в сад. Я должен был получать 300 рублей в месяц, но кроме сотни рублей, данной мне в Москве, не получил ничего. Часто я обращался к знаменитому антрепренеру с просьбой дать мне два-три рубля. Он давал полтинники. А мне уже надоело голодать, да и неловко как-то заниматься этим в столице.
В конце сезона со мною случилось комическое, но неприятное происшествие. Познакомился я в саду с какими-то двумя дамами, одна из которых, по твердому убеждению Лентовского, была шпионкой. Но я интересовался ею отнюдь не с этой стороны. Однажды я поехал с нею и ее подругой куда-то на извозчике. Ноги у меня были длинные, и, сидя в пролетке, я должен был выставить их на улицу. Поворачивая за угол, извозчик задел моими ногами за фонарный столб.
Я взвыл от боли, но мне стало еще хуже, когда я увидел, что сапог мой разлетелся вдребезги. Дамы завезли меня к себе на квартиру, растерли ушибленную ногу, но они не могли починить сапог! Я очень настойчиво просил у Лентовского денег на сапоги, но он не дал. К счастью, у меня были новые резиновые галоши. Они блестели, как лаковые сапоги. И я долго гулял в них по улицам великолепной столицы.
Сезон в «Аркадии» кончился скандально. Мне нужно ехать в Казань, а денег нет. Тут кто-то предложил мне вступить в оперное товарищество, которое собиралось ставить спектакли в Панаевском театре.
– У меня подписано условие в Казань.
– Это пустяки, – условие! Условие – это ерунда!
Странно. Я думал несколько иначе. Я был убежден, что если условие заключено, необходимо выполнить его. К тому же я подписал вексель на 600 рублей. Я задумался. Уезжать из Петербурга не хотелось. Мне нравились широкие улицы, электрические фонари, Нева, театры, общий тон жизни. Однажды я пошел в Панаевский театр, где собрались уже все члены товарищества во главе с дирижером Труффи, знакомым мне, пошел и сказал, что готов вступить в труппу. Я был хорошо встречен.
И вот я заседаю с хорошими товарищами, мы подписываем какие-то бумаги, достаем откуда-то деньги, репетируем. Вдруг, по случаю смерти императора Александра III, объявили, что все театры будут закрыты на шесть недель. Но мы начали «хлопотать», и нам милостиво разрешили петь. Спектакли пошли у нас удачно[37 - Сезон в оперном товариществе открылся 18 сентября 1894 г. оперой «Фауст» Ш. Гуно. Шаляпин пел партию Мефистофеля.]. Мне лично удалось быстро обратить на себя внимание публики, и ко мне за кулисы начали являться разные известные в музыкальном мире люди. Всем нравилось, как я пою Бертрама в «Роберте дьяволе»[38 - Опера Дж. Мейербера. Премьера в Панаевском театре состоялась 17 октября 1894 г.].
В.В. Андреев сообщил, что мною интересуются в Мариинском театре, а вскоре вслед за этим мне предложили сходить туда и спеть что-нибудь Направнику.
Надо сказать, что однажды, когда я пел в «Фаусте» «Заклинание цветов», публика единодушно, к моему искреннему удивлению, потребовала повторить арию. Это удивило и товарищей по сцене – раньше на эту арию как-то не обращали внимания. И вот, когда я решил пойти к Направнику, В.В. Андреев посоветовал мне спеть именно «Заклинание цветов». Направник был очень сухой человек, необщительный, сдержанный. Никогда нельзя было узнать, что нравится ему, что – нет. Прослушав меня, он не сказал ни слова.
Но вскоре я узнал, что мне хотят устроить пробу на сцене Мариинского театра, в присутствии директора. Я знал, что этому театру нужен бас, так как знаменитый Мельников в то время уже кончил свою карьеру.
Разумеется, я не мечтал занять его место и был очень встревожен, когда мне предложили для пробы приготовить арию Руслана – одну из коронных Мельникова. Проба состоялась. Но ария Руслана, видимо, не удовлетворила моих экзаменаторов и испытателей. Мне предложили спеть еще что-нибудь. Я спел четвертый акт «Жизни за царя», – арию и речитатив. Арию я пел, как поют все артисты, а речитатив – по-своему, как исполняю его и теперь. Кажется, это вызвало у испытателей моих впечатление, лестное для меня. Помню, Фигнер подошел ко мне, крепко пожал мою руку, и на глазах его были слезы. На другой день мне предложили подписать контракт, и я был зачислен в состав труппы императорских театров[39 - Дирекция императорских театров заключила контракт с Федором Ивановичем Шаляпиным в качестве певца баса русской оперы на три года – с 1 февраля 1895 г. по 1 сентября 1898 г.].
Рад я был этому? Не помню, но, кажется, не очень, потому что в то время радостей у меня было много. Продолжая петь в Панаевском театре, я усердно продолжал развивать мои знакомства. Я хорошо подружился с В.В. Андреевым, у которого по пятницам собирались художники, певцы, музыканты. Это был мир новый для меня. Душа моя насыщалась в нем красотою. Рисовали, пели, декламировали, спорили о музыке. Я смотрел, слушал и жадно учился. Часто с этих пятниц гурьбою отправлялись в ресторан Лейнера – излюбленное место артистов и там тоже беседовали и пели до рассвета. Тут я познакомился с Мамонтом Дальским, в ту пору молодым и пользовавшимся успехом у публики.
Я часто выступал в студенческих концертах и на благотворительных вечерах. Однажды за мной приехал В.И. Качалов, в то время студент и распорядитель на вечере. Он приехал в карете. Это мне страшно понравилось. До того я видел, что в каретах разъезжают только знатные дамы да архиереи. А теперь – не угодно ли? – я сам еду в карете!
Ах, как я был тогда молод и, скажу прямо, хорош в наивности своей! В.И. Качалов что-то говорил мне, о чем-то спрашивал, но я отвечал ему невпопад, поглядывая в окно и вспоминая детство, Казань, ночи, которые я спал в экипажах, когда работал у скорняка. От этой кареты также исходил приятный запах кожи и какой-то особенной материи.
Когда я вышел на эстраду Дворянского собрания[40 - Ныне Большой зал С.-Петербургской государственной филармонии.], я был поражен величественным видом зала, его колоннами и массой публики. Сердца коснулся страх, тотчас же сменившийся радостью. Я запел с большим подъемом. Особенно удались мне «Два гренадера»[41 - Романс Р. Шумана на стихи Г. Гейне, вошедший в основной концертный репертуар Шаляпина.]. В зале поднялся не слыханный мною шум. Меня не отпускали с эстрады. Каждую вещь я должен был петь по два, по три раза, и растроганный, восхищенный настроением публики, готов был петь до утра.
Мои приятели искренно поздравляли меня с успехом. Все говорили, что это сослужит мне большую службу и в казенном театре. Разумеется, я жил в восторге и все чаще выступал на благотворительных вечерах, на студенческих концертах. Вскоре дошло до того, что однажды мы с Дальским провели курьезный вечер. Нас пригласили участвовать в каком-то концерте, но карету за нами не прислали. Мы решили, что если за нами не едут, так мы сами приедем. Но куда? Отправились в какой-то зал и спрашиваем распорядителей концерта, не участвуем ли и мы у них?
– Нет, не участвуете, к сожалению, но если б вы пожелали принять участие…
Мы раздеваемся, исполняем свои номера и едем на следующий концерт. Снова попали не туда, где нас ждут. Однако и здесь я пел, Дальский декламировал. Побывав не без удовольствия для самих себя и для публики в четырех концертных залах, мы так и не попали туда, куда были приглашены.
Я был отчаянно провинциален и неуклюж. В.В. Андреев усердно и очень умело старался перевоспитать меня. Уговорил остричь длинные, «певческие» волосы, научил прилично одеваться и всячески заботился обо мне. Это было необходимо, потому что со мною происходили всяческие курьезы. Так, например, пригласили меня в один очень барский дом на чашку чая. Я напялил на себя усатовский фрак, блестяще начистил смазные сапоги и храбро явился в гостиную. Со мною рядом сели какие-то очень веселые и насмешливые барышни, а я был безобразно застенчив. Вдруг чувствую, что кто-то под столом методически и нежно пожимает мне ногу. По рассказам товарищей я уже знал, что значит эта тайная ласка, и от радости, от гордости немедленно захлебнулся чаем.
«Господи, – думал, – которая же барышня жмет мою ногу?» Разумеется, я не смел пошевелить ногою, и мне страшно хотелось заглянуть под стол. Наконец, не стерпев сладкой пытки, я объявил, что мне нужно немедленно уходить, выскочил из-за стола, начал раскланиваться и вдруг вижу, что один сапог у меня ослепительно блестит, а другой порыжел и мокрый. В то же время из-под стола вылезла, облизываясь, солидная собака, морда у нее испачкана ваксой, язык грязный. Велико было мое разочарование, и хохотал я, как безумный, шагая по улице в разноцветных сапогах. Андреев сказал мне, что чай пить во фраках не ходят и что фрак требует лаковых ботинок.
В контракте с дирекцией казенного театра было сказано, что я имею право на три дебюта и что если я не понравлюсь на этих дебютах, контракт будет сочтен недействительным. Я тотчас же заказал визитные карточки «Артист императорских театров». Мне очень льстило это звание. Я гордился им. Первый дебют мне дали в «Фаусте»[42 - Дебют Ф.И. Шаляпина на сцене Мариинского театра состоялся 5 апреля 1895 г. В этом же спектакле вместе с Шаляпиным – Мефистофелем в партии Фауста дебютировал И.В. Ершов и в партии Зибеля Ю.Н. Носилова.]. Уже тогда я мечтал сыграть Мефистофеля так, как играл его впоследствии и теперь играю, но начальство приказало мне надеть установленный им костюм, а грим, сделанный мною по-своему, с отступлением от принятого шаблона, вызвал в театре странное и насмешливое отношение ко мне. Это меня несколько смутило, расхолодило, и, кажется, я спел Мефистофеля не очень удачно.
Затем приказали мне петь Цунигу в «Кармен»[43 - Первое выступление Ф.И. Шаляпина в партии Цуниги состоялось 19 апреля 1895 г. (третий дебютный спектакль). Оно осталось не отмеченным петербургской прессой.]. Эту роль я исполнил с комическим оттенком и вызвал ею лучшее впечатление.
Главный режиссер спросил меня, не знаю ли я Руслана, и пояснил мне, что на исполнение мною этой роли будет обращено особенное внимание дирекции. Я в то время уже заразился той самонадеянностью, которая, кажется, свойственна всем молодым артистам.
Я уже испытал успех в Панаевском театре, на благотворительных концертах, получал цветы от поклонниц, частенько слышал сзади себя свое имя, произносимое особенным, волнующим шепотом. Похвалы товарищей, газетные рецензии – все это, вместе взятое, вскружило мне голову, и я думал о себе уже как о выдающемся артисте.
Зная, как скоро я могу учить роли, я сказал режиссеру, что в три недели я могу выучить не одного, а двух Русланов, если нужно.
– Учите, – приказал он.
Я тотчас нашел аккомпаниатора и на скорую руку, за три недели якобы выучил партию.
Но вот наступил день спектакля. Дирижирует Направник. Я нарядился русским витязем, надел толщинку, наклеил русую бородку и вышел на сцену. С первой же ноты я почувствовал, что пою плохо и очень похож на трех витязей, которые во дни святок танцуют кадриль и лансье в купеческих домах. Поняв это, я растерялся и, хотя усердно размахивал руками, делал страшные гримасы, это не помогло мне. Дирижер, сидя за пюпитром, тоже делал страшное лицо и шипел на меня: