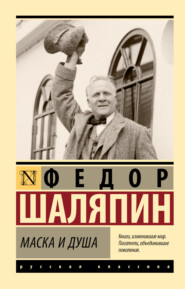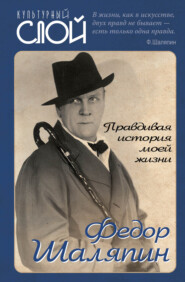По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Страницы из моей жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сотрешь мазь-то! Посидел бы немного, – сказала мать.
Я объяснил ей, что мазь уже вошла в нутро мое. И снова началась вольная жизнь с веселыми товарищами.
К сожалению, в школе Ведерниковой я научился довольно красиво писать, и это обстоятельство снова испортило мне жизнь.
– Из тебя, Скважина, вообще ни черта не выйдет! – сказал мне отец. – Довольно тебе шарлатанить! У тебя красивый почерк. Садись-ка за стол да каждый день списывай мне листа два-три! Скоро пора тебе ходить со мною в управу.
Я сел за стол. Мучительно скучно было выписывать красивыми буквами какие-то непонятные слова, когда вся душа на улице, где играют в бабки, в разбойники, в шар-мазло.
Да, я еще забыл, что после скарлатины и до работы у сапожника Андреева отец отдавал меня в ученье к токарю. Это было тоже очень плохо для меня. Кормил хозяин скверно. Работа была тяжелая, не по силам мне. Хозяин часто брал меня с собою на рынок, где он покупал березовые длинные жерди, вершков двух и трех толщиною. Эти жерди я должен был тащить домой. Повторяю, я был худ. У меня везде торчали кости. И мне было всего десять лет от роду. Однажды я тащил дерево домой и до того выбился из сил, что, бросив жердь, прижался к забору и заплакал. Ко мне подошел какой-то скучный господин, спросил меня, отчего я плачу, а когда я рассказал, в чем дело, он взял дерево и, сопровождаемый мною, понес его, а придя в мастерскую, стал, к моему изумлению, строго распекать хозяина.
– Я вас под суд отдам! – кричал он.
Хозяин выслушал его молча, но когда этот добрый человек ушел, хозяин жестоко вздул меня, приговаривая:
– Ты жаловаться? Жаловаться?
А я вовсе не жаловался. Только сказал, что нести дерево не могу и боюсь опоздать в мастерскую. Отколотив меня, хозяин пригрозил, что прогонит, если еще раз повторится такая неприятность для него. Я сжался.
Но через некоторое время хозяин, изругав меня, повернулся ко мне спиной. Я показал ему язык, а он увидел это в зеркале. В эту минуту он не сказал мне ни слова, но на другой день, как раз перед завтраком, когда мне страшно хотелось есть, он сказал мне:
– Бери свои пожитки и убирайся к черту! Мне таких не надо.
Я сразу догадался, за что он выгоняет меня, но как скажу об этом отцу?
Взял я свой сундучок с бельем и пошел домой.
– Ты что? – спросил отец.
– Прогнал хозяин.
– Почему?
– Не знаю.
Отец всыпал мне, сколько следовало по его расчету, и пошел к хозяину, но, воротясь от него, не сказал мне ни слова и больше не бил.
После этого меня отдали в 6-е городское училище. Учитель Башмаков оказался любителем хорового пения, и у него была скрипка. Этот инструмент давно и страшно нравился мне. И вот я стал уговаривать отца купить скрипку – мне казалось, что научиться играть на ней очень легко. Из денег, которые утаивались мною от жалованья, я не мог купить; это открыло бы отцу, что я не весь заработок отдаю ему. Да и, признаться, жалко мне было своих денег. Я умел и мог потратить их с неменьшим удовольствием. Отец купил мне скрипку на «толчке» за два рубля. Я был безумно рад и тотчас же начал пилить смычком по струнам, – скрипка отчаянно визжала, и отец, послушав, сказал:
– Ну, Скважина, если это будет долго, так я тебя скрипкой по башке!
Однако я довольно быстро выучил первую позицию, но дальше не пошло – не было никого, кто показал бы мне, как учиться дальше, ибо регенты, тоже самоучки, играли не лучше меня, хотя скрипка помогла мне написать трио.
В это время мне было лет одиннадцать и я уже имел несколько человек добрых товарищей. Странно это, но все они до одного погибли в ранней юности. Главарь кружка, Женя Бирилов, умер от сифилиса будучи офицером, Иван Михайлов, сын сторожа в городской управе, сделался отчаянным и безнадежным алкоголиком, Степан Орининский был кем-то убит на Казанке. Он был в год смерти студентом ветеринарного института! Иван Добров, будучи сельским дьячком или дьяконом и собирая по деревням «ругу», вывалился пьяный из саней и замерз. Странно!
Женя Бирилов – сын отставного штабс-капитана. Жил он хотя и небогато, но, видимо, в достатке. Помню, я однажды обедал у него. На последнее мне дали сладкого пирога. Само собой разумеется, я очистил тарелку как мог лучше и был очень удивлен, видя, что товарищ мой не доел пирог, оставил кусочек, – хоть и маленький, а оставил. Я запомнил это, думая, что такое поведение Жени, должно быть, является признаком его благородства. Он был интеллигентом нашего кружка и воспитывал нас. Например, – до знакомства с Женей мы ходили по улицам в царские дни, во время иллюминаций, буйной гурьбой, гася плошки, набирая в рот керосин и затем выпуская его на зажженную лучину так, чтобы в воздухе вспыхнуло пламенное облако. А главное развлечение праздника заключалось в том, чтобы, встретив шайку себе подобных, вступить с нею в честный бой. После таких прогулок некоторые из нас ходили с фонарями на лице вплоть до следующего праздника.
Но Женя убедил нас не ходить по улицам босиком, а надевать сапоги – у кого они есть – или хотя бы опорки, не драться и вообще вести себя благопристойно.
На одном дворе со мною жил Иван Добров, ученик духовного училища. От него я узнал странную вещь: в латинском алфавите буквы в полном беспорядке, не как у нас: а, б, в, г, но – a, b, c, d. Это очень удивило меня. И еще больше удивился я благозвучию языка, слушая, как Добров декламирует речь Цицерона против Катилины. Не понимал я, как это выходит: алфавит перепутан, а язык все-таки красив! И почему – Катилина, а не просто – Катерина? Много на свете встречается удивительного, когда тебе двенадцать лет.
Затем был у нас еще приятель Петров, старше всех; он служил в конторе нотариуса. Это – человек литературный. Он дружил с библиотекарем дворянского собрания, доставал у него разные книжки. Мои товарищи усердно читали их, и я часто слышал, как они разговаривают о Пушкине, Гоголе, Лермонтове. Речи их были мало понятны мне, а переспрашивать я совестился. Но мне не хотелось отстать от друзей. Я записался в библиотеку и тоже стал читать. Прочитал «Ревизора», «Женитьбу», первую часть «Мертвых душ». Понимал я далеко не все, но мне казалось, что это занятно и ловко сделано.
Добров, с которым я жил дверь в дверь и зимою вместе спал на печке, Добров зачитывался Майн Ридом. На печке мы прочитали «Квартеронку», «Всадника без головы», «Смертельный выстрел» и еще много подобных сочинений. Признаюсь, эта литература нравилась мне больше, чем Гоголь, и я усердно искал ее. Возьму каталог библиотеки и выбираю из него наиболее заманчивые названия книг: «Попеджой ли он?», «Феликс Гольд, радикал» или «Фиакр № 14». Если книга сразу не захватывала меня, я ее бросал и брал другую. Таким образом я прочитал кучу романов, где описывались злодеи и разбойники в плащах и широкополых шляпах, поджидавшие жертву свою в темных улицах; дуэлянты, убивавшие по семи человек в один вечер; омнибусы, фиакры; двенадцать ударов колокола на башне церкви Сен-Жермен л’Осеруа и прочие ужасы.
Я так много начитался о Париже, в котором все это происходило, что, когда попал в Париж, мне показалось, что я уже знаю этот город, жил в нем.
Мне было лет двенадцать, когда я в первый раз попал в театр. Случилось это так: в духовном хоре, где я пел, был симпатичнейший юноша Панкратьев. Ему было уже лет семнадцать, но он пел все еще дискантом. Сейчас он протодьякон в Казанском монастыре.
Так вот, как-то раз за обедней Панкратьев спросил меня, не хочу ли я пойти в театр? У него есть лишний билет в 20 копеек. Я знал, что театр – большое каменное здание с полукруглыми окнами. Сквозь пыльные стекла этих окон на улицу выглядывает какой-то мусор. Едва ли в этом доме могут делать что-нибудь такое, что было бы интересно мне.
– А что там будет? – спросил я.
– «Русская свадьба», дневной спектакль.
Свадьба? Я так часто певал на свадьбах, что эта церемония не могла уже возбуждать моего любопытства. Если б французская свадьба, это интереснее. Но все-таки я купил билет у Панкратьева, хотя и не очень охотно.
И вот я на галерке театра. Был праздник. Народу много. Мне пришлось стоять, придерживаясь руками за потолок.
Я с изумлением смотрел в огромный колодец, окруженный по стенам полукруглыми местами, на темное дно его, уставленное рядами стульев, среди которых растекались люди. Горел газ, и запах его остался для меня на всю жизнь приятнейшим запахом. На занавесе была написана картина: «Дуб зеленый, златая цепь на дубе том» и «Кот ученый все ходит по цепи кругом», – медведевский занавес. Играл оркестр. Вдруг занавес дрогнул, поднялся, и я сразу обомлел, очарованный. Предо мною ожила какая-то смутно знакомая мне сказка. По комнате, чудесно украшенной, ходили великолепно одетые люди, разговаривая друг с другом как-то особенно красиво. Я не понимал, что они говорят. Я до глубины души был потрясен зрелищем и, не мигая, ни о чем не думая, смотрел на эти чудеса.
Занавес опускался, а я все стоял, очарованный сном наяву, сном, которого я никогда не видал, но всегда ждал его, жду и по сей день. Люди кричали, толкали меня, уходили и снова возвращались, а я все стоял. И когда спектакль кончился, стали гасить огонь, мне стало грустно. Не верилось, что эта жизнь прекратилась. У меня затекли руки и ноги. Помню, что я шатался, когда вышел на улицу.
Я понял, что театр – это несравнимо интереснее балагана Яшки Мамонова. Было странно видеть, что на улице день и бронзовый Державин освещен заходящим солнцем. Я снова воротился в театр и купил билет на вечернее представление.
Вечером давали «Медею». Ее играла Пальчикова, Язона – Стрельский. У меня было удобное место. Я мог сидеть, облокотясь о барьер. Снова, не отрывая глаз, я смотрел на сцену, где светила взятая с неба луна, страдала Медея, убегая с детьми, метался красавец Язон. Я смотрел на все это, буквально разинув рот. И вдруг, уже в антракте, заметил, что у меня текут изо рта слюни. Это очень смутило меня. Я осторожно поглядел на соседей – видели они? Кажется, не видали.
– Надо закрывать рот, – сказал я себе.
Но когда занавес снова поднялся, губы против воли моей опять распустились. Тогда я прикрыл рот рукою.
Театр свел меня с ума, сделал почти невменяемым. Возвращаясь домой по пустынным улицам, видя, точно сквозь сон, как редкие фонари подмигивают друг другу, я останавливался на тротуарах, вспоминал великолепные речи актеров и декламировал, подражая мимике и жестам каждого.
– Царица я, но – женщина и мать! – возглашал я в ночной тишине, к удивлению сонных сторожей. Случалось, что хмурый прохожий останавливался предо мной и спрашивал:
– В чем дело?
Сконфуженный, я убегал от него, а он, глядя вслед мне, наверное, думал: пьян мальчишка!
Дома я рассказывал матери о том, что видел. Меня мучило желание передать ей хоть малую частицу радости, наполнявшей мое сердце. Я говорил о Медее, Язоне, Катерине из «Грозы», об удивительной красоте людей в театре, передавал их речи, но я чувствовал, что все это не занимает мать, непонятно ей.
– Так, так, – тихонько откликалась она, думая о своем.
Мне особенно хотелось рассказать ей о любви, главном стержне, вокруг которого вращалась вся приподнятая театральная жизнь. Но об этом говорить было почему-то неловко, да я и не в силах был рассказать об этом просто и понятно. Я сам не понимал, почему в театре о любви говорят так красиво, возвышенно и чисто, а в Суконной слободе любовь – грязное, похабное дело, возбуждающее злые насмешки? На сцене любовь вызывает подвиги, а на нашей улице мордобой. Что же – есть две любви? Одна считается высшим счастьем жизни, а другая – распутством и грехом?
Разумеется, я в это время не очень задумывался над этим противоречием, но, конечно, я не мог не видеть его. Уж очень оно било меня по глазам и по душе.
При всем желании открыть для матери мир, очаровавший меня, я не мог сделать этого. И, наконец, я сам не понимал простейшего: почему – Язон, а не Яков, Медея, а не Марья? Где творится все это, кто эти люди? Что такое «золотое руно», Колхида?