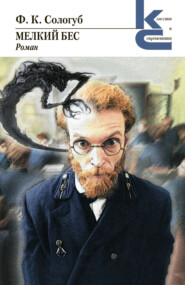По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тяжелые сны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Подлец этот ваш Молин! – крикнул Коноплев Шестову. – Я всегда это говорил. Тоже и девчонка, сказать по правде, стерва.
Нет, вы ошибаетесь, заговорил Шестов, краснея, – Алексей Иваныч очень честный человек.
Ну еще бы, честные люди всегда так делают!
– Он в этом деле даже и не виноват нисколько.
– Ну для него же лучше. Вы откуда же это знаете?
– Да он меня так уверял.
И только-то? Вот так доказательство! Коноплев хлопнул себя по коленям длинными руками и захохотал.
Молин не стал бы лгать, горячо спорил Шестов, он человек честный и умный, и свое дело знает, и ученики его уважают.
– Подите вы, – отъявленный прохвост! – решительно и даже с раздражением сказал Коноплев. – Охота вам была с ним якшаться! Я рад, что хоть с одного лицемера маску сдернули.
Шестов был весьма огорчен этими резкими отзывами о сослуживце и собирался еще что-то возражать. Но вмешался в разговор Ермолин; он до тех пор молчал и задумчивыми голубыми глазами ласково и грустно смотрел на Шестова.
– Не будем из-за него спорить, – сказал Ермолин примирительным голосом, – виноват он или нет, это обнаружится.
Анна не то застенчиво, не то задумчиво потупилась и тихо молвила:
– Да и говорить о нем невесело. Мне всегда стыдно было на него смотреть: он такой наглый, и цепляется, как репейник.
– И всем дает ругательные клички, – сказал Хотин. Видно было, что он вспомнил какую-нибудь из этих кличек – может быть, она относилась к кому-нибудь из присутствующих – и едва удержался от смеха: по его лицу пробежало отражение того нехорошего чувства, которое овладевает многими из нас при воспоминании о том, как обругали или осмеяли кого-нибудь из наших приятелей.
Шестов покраснел. Логин подумал, что грубая кличка могла относиться и к Анне, и почувствовал злобу. Быстро глянул на Анну. Брезгливое движение слегка тронуло ее губы. Она протянула руки вперед, словно запрещала говорить об этом дальше. Ее движение было повелительно.
– Вот более важная новость, – сказал Ермолин, – в нашей губернии уже были, говорят, случаи холеры. Хотин вздохнул, погладил бороду и сказал:
– Недаром, видно, у нас барак построили.
– Типун вам на язык! – сердито крикнул Коноплев. – Чего каркаете!
– Уж тут каркай не каркай… Слышали вы, что в народе болтают?
– А что? – спросил Логин.
– Известно что: барак построили, чтоб людей морить, будут здоровых таскать баграми, живых в гроб класть да известкой засыпать.
– А все-таки холера к лучшему, – заявил Коноплев. – Это чем же? – спросил Хотин несколько даже обидчивым голосом.
– А тем, что все-таки город почистили немножко. Все замолчали. Никому не хотелось больше говорить о холере. Она была еще далеко, и ясный весенний день с радостною зеленью, с нежными и веселыми шорохами и беззаботными чириканьями не верил холере и торопился жить своим, настоящим. Но этот разговор напомнил Анне другое неприятное, но более близкое этим цветам и звукам.
– Василий Маркович, вы были у Дубицкого? – спросила она у Логина и с тревожным ожиданием склонилась в его сторону стройным станом, опираясь на край стула обнаженною рукою.
– Да, как же, был. Почуеву дадут место, но в другой какой-нибудь школе.
– Ну вот, большое вам спасибо, – сказал Ермолин и крепко пожал руку Логина. – Как это вам удалось?
Анна посмотрела на Логина благодарными глазами, и ее рука нежным движением легла на его руку. Логин почувствовал, что ему не хочется рассказывать ей, потому что она смотрит так ясно, но он преодолел себя и подробно передал все, что было.
– Молодец генерал! – воскликнул Коноплев с искренним восторгом.
Хотин неодобрительно потряс черною бородою, Шестов покраснел от негодования, Анна спросила холодно и строго:
– Что же вам так нравится? Коноплев слегка смутился.
– Как же, дисциплина-то какая? Разве худо?
– Неумно. Какие жалкие дети!
– Обо всем не перенегодуешь, так не лучше ли поберечь сердце для лучших чувств, – сказал Логин с усмешкою.
Анна вспыхнула ярким румянцем, так что даже ее шея и плечи покраснели и глаза сделались влажными.
– Какие чувства могут быть лучше негодования? – тихо промолвила она.
– Любовь лучше, – сказал Шестов. Все на него посмотрели, и он закраснелся от смущения.
– Что любовь! – говорила Анна. – Во всякой любви есть эгоизм, одна ненависть бывает иногда бескорыстна.
В ее голосе звучали резкие, металлические ноты; голубые глаза ее стали холодными, и румянец быстро сбегал с ее смуглых щек. Ее обнаженные руки спокойно легли на коленях одна на другую. Шестов смотрел на нее, и ему стало немного даже страшно, что он возражал ей: такою строгою казалась ему эта босая девушка в сарафане, точно она привыкла проявлять свою волю.
– Да вот, – сказал Логин, – вы, конечно, давно негодуете, а много вы сделали?
Анна подняла на Логина спокойные глаза и встала. Ее рука легла на деревянные перила террасы.
– А вы знаете, что надо делать? – спросила она.
– Не знаю, – решительно ответил Логин. – Порою мне кажется, что негодующие на мучителей просто завидуют: обидно, что другие мучат, а не они. Приятно мучить.
Анна смотрела на Логина внимательно. Темное чувство подымалось в ней. Ее щеки рдяно горели.
– А что, – сказал Ермолин, – не приступить ли к делу? Василий Маркович прочтет нам…
– Постойте, – сказал Коноплев, – писать-то все можно, бумага стерпит.
Все засмеялись. Коноплева удивил внезапный смех. Он спросил:
– Что такое? Да нет, господа, постойте, я не то что… я хочу вот что сказать: важно знать сразу самую суть дела, главную идею, так сказать. Вот я, например, я уж после Других примкнул, мне рассказали, но, может быть, не все.
– Савва Иванович любит обстоятельность, – сказал Хотин, посмеиваясь.
– Ну а то как же? Все-таки интересно знать, что и как.
– В таком случае, – сказал Ермолин, – мы попросим Василия Марковича предварительно словесно изложить нам свои мысли, если это не затруднит.