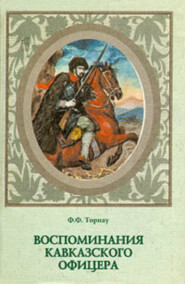По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дело чести. Быт русских офицеров
Автор
Жанр
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нашим арьергардом командовал граф Сиверс, а первой армии генерал Коновницын. Придя в Царево-Займище, мы узнали, что наш общий главнокомандующий – Кутузов. Много было пустых толков, да когда же и где их нет? Говорили, что Барклай – немец, изменяет, ведет француза в Москву, мало дерется, отдает города даром. Все подобные глупости беспрестанно повторялись, и очень рады были Михаилу Илларионовичу Кутузову.
Армия наша, кроме двух дней после Смоленска, везде имела продовольствие отличное: хлеба, мяса и вина всегда было довольно, даже с избытком. Спасибо командирам-отцам, мы были сыты вдоволь. Поговаривали, что Кутузов, приняв армию, даст потешиться нашим и остановит француза; но впоследствии оказалось, что Наполеон очень желал чаще сражений и бесился, что мы отступаем без боя, полагая своим множеством народа уничтожить нашу небольшую армию. Ошибся голубчик в расчете, сам себя скорее уничтожил. Кутузов и подлинно хотел дать сражение в Царевом Займище, но нашел, что позиция невыгодна, и отступил до Бородина, близ города Можайска в 9 верстах, а от Москвы в 90.
Я был послан в обоз привезти патронные ящики и продовольствие провианта, когда, возвращаясь обратно с ящиками и фурами и проезжая по дороге мимо Бородина, увидел множество возле харчевни генералов и офицеров. Я был позван к Кутузову, который сидел в сенях на скамеечке, окруженный большой свитой. Наряд мой был щегольской: шапка без козырька, старый изодранный сюртук, подпоясанный шарфом без кистей, чрез плечо на ремне нагайка казацкая, сабля у бедра и на тощем большом рыжаке. Я походил на рыцаря печального образа. В заключение сей экипировки была на плечах обгорелая на биваках байковая желтая бурка, я соскочил с рыжака, отдал его держать фурлейту, а сам подошел к главнокомандующему. Почтенный старик спросил меня, которого я полка, куда везу ящики и где наш полк? Я отвечал, что 50-го егерского полка, везу для бригады порох и хлеб, что полк наш в арьергарде второй армии. Он мне сказал, чтобы я ехал с его адъютантом, который покажет мне, где я должен остановиться и дожидаться своего полка, не трогаясь с места. Меня повели, и я рассматривал место и войска. Возле главнокомандующего, помню, был 1-й лейб-егерский полк, далее гвардия в колоннах, за ней первая армия, а после и наша вторая. Местоположение было первой армии очень возвышенное, внизу овраг и речка с кустами, а наше гораздо ниже и лес сбоку и пред нами. На месте, где я был остановлен, была батарея, называемая Раевского; место возвышенное, и тут я нашел уже полк наш отдыхающим. Привезенный провиант и вино были разобраны, но много вина еще оставалось, как неприятель начал посылать к нам из орудий большие круглые гостинцы. Вино[36 - Речь, конечно, идет о «хлебном вине», т. е. водке.] привозили обыватели, которые плакали, чтобы я их отпустил скорее и при каждом выстреле наклоняли головы свои. Я спросил у полковника, куда девать вино, его много. Он велел дать по другой чарке людям, а остальные бочки разбить, чтобы не перепились люди. Я исполнил и велел обручи рубить. Вино потекло, полилось, как 26-го числа кровь людей. Крестьяне, бросив телеги, а другие лошадей своих, бросились бежать.
Это было 24 августа в 2 часа пополудни. Не успели люди еще поесть, как приказано батальону идти в стрелки.
Бородинская резня
Описывать битву сию, незапамятную в истории, хотя бы я мог, узнав подробности ее после и читая описания многих очевидцев, но это будет лишнее: я пишу о себе, следовательно, и довольствуюсь тем, где я был и что сам видел.
24-го числа, как я сказал, в 2 часа не успели наши закусить, как батальон наш пошел в стрелки; а 3-я гренадерская рота подвинулась от полка вперед, но стали возле опушки леса, где и я был. Стрелки наши были в лесу часа три. Тогда неприятели правее нас стали показываться колоннами на поле. Нашей дивизии Тарнопольский полк пошел колонной в атаку с музыкой и песнями (что я в первый и последний раз видел). Он после бросился в штыки в глазах моих. Резня недолго была, и полкового их командира ранило в заднюю часть тела навылет пулею. Его понесли, и полк начал колебаться. Его место заступили, полк остановили, и он опять бросился в штыки и славно работал. После остановились, прогнали неприятеля, и нас сменили. Не знаю, что было после; но опять подошли к Раевского батарее, что было на конце левого фланга всей армии. Тогда ходили еще в атаку Александрийский и Ахтырский гусарские полки и храбро дрались из-за нас. На ночь мы опять пошли в стрелки и стояли смирно, а 25-го числа утром сменены были 49-м егерским полком, но ненадолго. После весь полк был несколько раз в стрелках и много потерял, а 49-й еще и более нас: у них потеря была очень велика. Во всей армии 25-е число было тихо, кроме нас. На левом фланге стрелков никто не замечал, а у нас в бригаде едва ли осталось по 30 человек в роте.
С 25-го на 26-е в ночи, близко нас, у неприятеля пели песни, били барабаны, музыка гремела, и на рассвете увидали мы: вырублен лес, и против нас, где был лес, явилась огромная батарея. Лишь только была заря, то зрелище открылось необыкновенное: стук орудий до того, что не слышно было до полудня ружейного выстрела, все сплошной огонь пушек. Говорят, что небо горело, но вряд ли кто видел небо за беспрестанным дымом. Егеря наши мало были в деле, но дело везде было артиллерийское, с утра против Нея, Мюрата и Даву корпусов. Наша дивизия была уничтожена. Меня опять послали за порохом, и я, проезжая верхом, не мог не только по дороге, но и полем проехать от раненых и изувеченных людей и лошадей, бежавших в ужаснейшем виде. Ужасы сии я описывать не в силах; да и теперь вспомнить не могу ужаснейшего зрелища. А стук от орудий был таков, что за пять верст оглушало, и сие было беспрерывно. Много о том писали и всем известно. Тут перо мое не может начертать всей картины. Проезжая поле, я увидел лошадей нашего полковника и спросил у музыканта Максимова, где полковник, не убит ли? К счастью, тот показал, что тут лежит, жив; он не сказал, а показал пальцем. Я подошел к нему, и он с горестью сказал, что полка нашего не существует. Это было в 7-м часов вечера. Я отослал ящики назад, а сам поехал вперед к деревне Семеновской, которая пылала в огне. На поле встретил я нашего майора Бурмина, у которого было 40 человек. Это был наш полк. Он велел сих людей вести в стрелки. Я пошел, и они мне сказали: «ваше благородие, наш полк весь тут, ведите нас последних добивать». Доподлинно, взойдя в лес, мне встретилась картина ужаснейшая и невиданная. Пехота разных полков, кавалерия спешившая без лошадей, артиллеристы без орудий. Всякий дрался чем мог, кто тесаком, саблей, дубиной, кто кулаками. Боже, что за ужас! Мои егеря рассыпались по лесу, и я их более не видал, и поехал к деревне Семеновской. Был уже 10-й час, пальба пушек не переставала с той же силою. На дороге я видел колонны русских и французов, как в игрушках согнутые карты, повалены дуновением ветра или пальцем. Картина ужасная. Но сердце замерло: ни одной слезы о несчастных! Наткнулся я на брата, который сказал, что он ранен в ногу. Я поделился с ним куском баранины[37 - Выходя раненым (тоже в ногу) из оставляемой войсками Москвы, Душенкевич также наткнулся на брата, служившего в другом полку. Вообще, некоторые параллельные свидетельства участия в сражениях совпадают едва ли не текстуально, интересно в этом смысле сравнить, например, описание собственных приключений при Гейльсберге двух уланов – Н.А. Дуровой и Ф.В. Булгарина. Возможно, это дань общей литературной моде, диктовавшей некоторые «беспроигрышные» сюжетные ходы. Спустя много лет память услужливо подставляла мемуаристу именно такие, «литературные» эпизоды.], доставшейся мне от казначея Толовикова, когда я ездил за патронами. Возле деревни встретил я дивизионного начальника, который мне велел, где увижу, собирать к деревне Шевардино его дивизию 27-ю.
В 11 часов была дивизия собрана, всего до 700 человек. В Одесском командовал поручик, в Тарнопольском фельдфебель, и так далее; в нашем полковник и три офицера со мною.
В полдень 26-го я с капитаном нашим Шубиным поехал на пригорок, где слышался необыкновенный шум, и что же? Мы видим: два кирасирских полка, Новороссийский и Малороссийский, под командою генерал-лейтенанта Дуки, пошли на неприятельскую батарею. Картина была великолепная! Кирасиры показали свою храбрость: как картечь их не валила, но хотя половиною силы, они достигли своей цели, и батарея была их. Но что за огонь они вытерпели, то был ад! За любопытство наше капитану Шубину оторвали правую руку, но, впрочем, на все судьба: это могло бы, и не трогаясь с места, быть; от сего отделаться нельзя. Мы видели, как Семеновской полк, несколько часов стоя на позиции, не сделав ни одного выстрела, был ядрами уничтожаем. Я видел, когда сняли незабвенного нашего князя Багратиона с лошади, раненного в ногу, и как он был терпелив и хладнокровен: слезал с коня в последний раз и поощрял солдат отмстить за себя. Помощник Суворова, бывший с ним в Италии и Швейцарии, командовал всегда авангардом и, наконец, бывши главнокомандующим, не берег себя и по привычке был в сильном огне. Он не вынес раны и вскоре умер. Царство ему небесное! Армия много в этот день потеряла хороших генералов: утром убило Тучкова, в полдень Кутайсова, начальника артиллерии, и многих очень. И граф Милорадович поспел на веселый пир. Он пред сражением привел резервы. Граф Воронцов командовал возле нас сводными гренадерскими ротами двух батальонов[38 - Как следует из текста, в состав сводной гренадерской дивизии при Бородине были отобраны гренадерские роты 2 действующих батальонов из каждого полка, помимо гренадерской роты запасного батальона.]; в числе сих были и нашего полка. Ночь прекратила побоище неслыханное в летописях, и мы пошли к Можайску. Да и неприятель отступил. Скелеты полков нашей дивизии поступили к графу Милорадовичу в арьергард.
За Бородино дали мне на шпагу Св. Анны 3-й степени, и два еще капитану и прапорщику. Вот наши и все награды за всю Русскую кампанию. Полку серебряные трубы, полковнику Св. Анны и Владимира 3-й степени на шею.
Я забыл сказать, что 26-е число Московское ополчение стояло в колонне сзади нас на горе; их било ядрами исправно, и даром. Главнокомандующий сделал славное из них употребление: поставил их цепью сзади войска, чтобы здоровые люди не выносили раненых, а убирали бы ополченцы. Сделано славно, но безбожники грабили раненых, что я сам видел, везя патроны в полк, и трем саблею от меня досталось по спинам плашмя. Этими молодцами после сражения укомплектовали дивизию нашу, с оружием бог знает каким: кто имел пику, кто бердыш, у иного ружье, пистолет и нож, а кто был с дубиной. К нам дали их офицера в треугольной шляпе, который вскоре и бежал. Да и войско его дошло с нами только до Москвы, а после и десятой части их не осталось: все разбрелись, дружки[39 - Андреев не единственный, кто говорит о невысоких боевых качествах ополчения.].
От Можайска до Москвы мы не дрались, только иногда кавалерия, всегда сзади нас шедшая, переведывалась помаленьку. Мы подошли к Москве, остановились на Воробьевых горах. Вид чудесный! Вся старушка-Москва под ногами. Я, быв в Москве зимой, не был на горах сих и в первый раз любовался местоположением прелестным. Пробыв там почти сутки, я был послан по дороге Владимирской отыскать обозы наши и 49-го полка, взять фуры и, нагрузив их в магазине в Москве, доставить в полки. Верст за 20 от Москвы нашел я обоз и на рассвете был в Москве. Там ожидало меня новое зрелище. Магазин был заперт, караула нет, армии я не нашел; куда пошла, мне неизвестно, да и кто знает, куда ведут начальники? Ломать печати и замки беда, без хлеба ехать еще хуже. Я решился, однако, нагрузить фуры и поехал за толпою народа, который, вероятно, выезжал и выходил туда, куда пошла армия, к городу Подольску. Вообразить себе можно, какая давка и теснота была в Москве на выездах.
Жители были до того времени покойны и не выезжали, пока армия оставила Москву. Я видел сию тревогу и с 10 часов утра до 7 вечера с трудом с 8 фурами выехал за заставу. Отъехав с версту, вижу, что за мною выехала наша арьергардная кавалерия, в том числе были гвардейский[40 - После слова «гвардейский», вероятно, выпущено слово «корпус». Перечисленные гвардейские полки входили в состав 1-го резервного кавалерийского корпуса под командованием графа Ф.П. Уварова.], гусарский, уланский и драгунский полки с пиками (гусаров я еще первых увидел с пиками[41 - При всей сумбурности, эта фраза весьма интересна, если ее понимать как «видел впервые с пиками». Перед войной первой шеренге гусар было приказано иметь пики; но на практике, видимо, это исполнялось только в гвардии.]); полки сии были очень невелики. Вскоре раздался залп из орудий неприятельских; это означало их вступление в нашу столицу, но для чего, я не знал: войска нашего там не было. Граф Милорадович сделал договор с Мюратом выпустить наши остальные войска из Москвы. Я продолжал путь и, отъехав 15 верст, уже ночью, увидел сильное зарево в Москве; белокаменная запылала. Но огонь ее очистил Россию от французов скоро: нет худа без добра. К свету настиг я на привале свой полк. На другой день шли к Подольску и повернули после круто на Калугу. Мы еще были в арьергарде, но, остановившись у села Воронова (Растопчина графа), мы уже были в авангарде: ибо ретироваться с сего пункта перестали. Граф Растопчин, истиннорусский, сжег сам свое село[42 - Вернее, усадьбу.], чтобы нога неприятеля не ступила в его строение.
Дивизионный наш Неверовский просил графа Милорадовича, чтобы сменил дивизию его, разбитую до невозможности, сказав, что она без обуви, не имеет времени починиться, да и силами ослабела, всегда под выстрелами от Смоленска. «Знаю, ваше превосходительство, что дивизия ваша ослабела силами, но зато тверда духом!» – отвечал граф, и Неверовскому не оставалось более, как благодарить за честь, которую ему делает граф[43 - Произносить напыщенные «исторические» фразы было очень в характере Милорадовича, который сознательно соревновался в сем искусстве со своим непосредственным противником, маршалом Мюратом. Об этом можно прочесть в мемуарах Ермолова.]. Церемония кончилась, а мы все остались в авангарде. Мы были еще в драке у реки Красной Пахры, и сия была уже для нас последняя. Подойдя к Тарутинскому лагерю, полки наши дошли до совершенного ничтожества: в нашем оставалось до 300 человек и 6 офицеров. Главнокомандующий уменьшил дивизию: из шести полков по два послал формироваться. Из нашей дивизии назначили Тарнапольский и наш 50-й егерский. Людей мы сдали в 49-й, оставив только 40 человек и полковой штаб. У нас было музыкантов с барабанщиками вдвое, чем весь полк. Наш бригадный Воейков просил меня идти к нему в адъютанты, ибо его адъютанта произвели в майоры. Я посоветовался с полковником, который мне не присоветовал, а взял с собою. Не знаешь, где найти и где потерять. Хорошо, что я не пошел к нему: он был бригадный одного полка и вскоре по болезни уехал в Петербург, и мы более о нем не слыхали: пропал без вести! По названию у нас все был полк, хотя 40 человек, но штаб был полка налицо.
Мы прошли Тулу и пошли в Нижегородскую губернию в исходе сентября. В каждом городе мы шли церемониально с музыкой, и когда проходили, то жители всегда спрашивали, где же полк? И мы показывали на наши остатки. Нас принимали везде, как родных; расспросов, разговоров не было конца. Стало уже холодно, и мы в ноябре пришли формироваться в город Ардатов, а главнокомандующий наш, генерал от инфантерии князь Лобанов-Ростовский, жил в Арзамасе; и кавалерийский же генерал Кологривов в Орле. Житье нам было в Ардатове! Скитавшись от апреля до 15 октября под открытым небом возле костров бивачных и быв беспрестанно в это время в опасности, можно вообразить, каково нам было! Городничий, судья, исправник, соляной пристав и откупщик Анцов – все люди богатые. У последнего была моя квартира, прекраснейшая, лучшая в городе. Пиры беспрестанные, разгулье молодецкое, и еще узнали, что француза погнали по старой разоренной дорожке. То-то была гульба! Раненые солдаты и офицеры к нам прибывали. Рекрут нам дали молодцов нижегородских. И мы с 15 октября до 1 декабря почти сформировали полк. Много прибывало и раненых, офицеров же не было половины комплекта. Мне дали 3-ю гренадерскую роту. Формировка продолжается сама по себе, а вечерами гульба ужасная. Вот что было у нас, пили напропалую. Музыканты отказывались от Цымлянского и выморозков[44 - Вымораживание – способ крепления вина, состоящий в замораживании до температуры замерзания воды. Затем лед удаляется, а оставшееся вино (выморозки) становится крепче.]. Очень я доволен был, что избавился от адъютантской должности: на месте все бы ничего, а походом каторга; было время, что сам не раздевался и лошадь не расседлывал по два месяца. Полковой адъютант в канцелярии и батальонный, по приходе на место, нарядить должен команды за дровами и водой с офицером, после ехать в дивизионную квартиру за приказанием, а нередко и в корпусную. Поди, отыщи и там дожидайся, пока приказы будут. Их нужно выписать и отвезти к начальству, к бригадному и полковому, после собрать фельдфебелей, отдать приказание, а глядишь, уже свет и в поход. Спал я часто верхом, и сбоку солдаты придерживали; хуже не было в полку должности моей. Хозяин мой Ардатовский был большой хлебосол, гости и офицеры у него безвыходно были, я ему был как брат, и старший. Езжали к нему часто соседи, живущие в трех верстах от города, семейство Бухваловых, состоящее из старой вдовы, ее сына и двух дочерей. Сын пошел в ополчение, но я его еще застал дома. Меньшая дочь, Марья Федоровна, очень мне понравилась. Я, отдохнув, забыл про беду и влюбился. Девица хороша, думаю я, за нею 60 прекрасных душ. Мне, правда, ровесница, 21 года; что же, жениться не худо, ежели пойдет. Сказано – и сделано. Я объяснился с моим хозяином (большим другом семейства Бухваловых), он одобрил. Я чрез два дня посватал и имел полный успех. Вот я и жених, меня любят, ласкают, и я как сыр в масле. Что же? Узнаёт мой добрый полковник – залучил меня в свой кабинет и начал журить по-отечески. Он мне сказал: «Что ты, брат Николай Иванович, задумал? Ужели ты век прожил; какого ты чина? Какое теперь у нас обстоятельство? Правда, девица хороша, но что же дальше? Ты очень еще молод, поспеешь жениться; а теперь что же будет? Отставки тебе в военное время не дадут; но хотя бы и дали оную, какую ты играть будешь роль в 20 лет в отставке? Подпоручик, имеющий Св. Анны на шпаге и медаль. И тебя выберут в заседатели в земский суд, привяжешь колокольчик к дуге, и вот блестящая твоя карьера. Того ли ожидает от тебя твой отец? Вот послужил сын его Отечеству ровно год! Ты молод, не понимаешь, что будет. За нею дадут хорошо 60 душ; подумай, у тебя будут дети, может быть, и много; ты размножишь слободу однодворцев[45 - В данном случае – оскуделых дворян без крепостных.], ты от скуки захочешь служить, состояние небольшое, жену оставишь дома. Сам влюбишься опять в другую: вот твоя перспектива! Словом, я тебе никак не позволяю сделать такую наивеличайшую глупость; выкинь из головы, займись лучше ротой, а частые твои поездки прекрати. Поди с богом, я твоих возражений и слушать не хочу; есть ли же не перестанешь ездить, то я поеду к ним сам и скажу, что мне отцом препоручен, и я, как отец и как начальник твой, тебе строго запрещаю жениться». Что было мне делать! Говорить – хуже: я знаю горячий нрав его; беда, что наделает! Бог знает, лучше молчать, а свое делать. Представится случай, мое не уйдет. Теперь Рождественский пост; вот как кончится, хозяин мой поможет, сделаем свадьбу втихомолку, у нас священник добрый, и Ардатовский дьякон, лихой игрок в карты, в бильярд и пойдет куда угодно! Ему знакомы другие попы, он устроит; часто он ночи просиживал до обедни, идет в церковь, в мелу замаран, проигравши. Ему тихонько покажешь карту с углом: он доволен, полагая отыграться! Человек располагает, а Бог управляет. Я немедля же поехал к Бухваловым. Когда же возвратился от них, мне сказали, что полковник за мною три раза присылал. Я иду. Вижу его серьезную мину. Он мне сказал: «Вот, любезнейший, всему конец. Полно тебе дурачиться: поздравляю тебя с походом: мы идем послезавтра в Орел. А тебе вот предписание: поезжай сейчас в слободу, отсюда за 60 верст – там найдешь 120 рекрут Житомирской губернии, прими их и артельные деньги, и выходи ко мне навстречу: тебе не далее будет 15 верст по тракту к городу Темникову Рязанской губернии. Возьми с собою трех старых солдат твоей роты, унтер-офицеров не бери. Прощай, поспеши: я буду дневать чрез два дня, и туда явишься». Взял я бумагу и думаю: прощай, быть может, и навек! Иду я к хозяину, сказываю свою беду; он спросил: «Что же вы намерены делать?» – «Жениться после праздника непременно, а там что Бог даст!» Вот я делаюсь против службы первый раз преступником! Прошу хозяина завтра съездить к невесте и уверить ее, что я скоро буду. Забрал в дорогу харчей и чаю, лошади готовы, вот я и в дороге.
В восьми лье от Москвы, слева от главной дороги, 23 сентября 1812 г.
Гравюра. Христиан Вильгельм фон Фабер дю Фор. XIX век
Зима стояла прежестокая, доходило выше 30 градусов. Лошади были подставные, по предписанию исправника. Я до света долетел до местечка, вижусь с гарнизонным офицером, принимаю команду, все идет скоро, деньги до 1500 рублей принял, пишу списки, и в день и ночь все готово: прошу офицера довести команду 15 верст до полку. Он сказал, что ему нужно еще 300 человек вести в полк Тираспольский. Вот задача! Что я буду делать?! Послать с солдатами команду – худо, а сказаться больным – все пропало! Думал я много, и тут нечистый искусил. Я вздумал команду вести в город Ардатов. Это вышло назад 50 верст, да оттуда, сдав гарнизонному офицеру, самому остаться больным и еще бедным рекрутам догонять полк 60 верст, что составило вместо 15 – 110 верст в такую стужу. Стоило бы подумать, что я буду солдат за такую проделку[46 - То есть такая «неисправность» по службе грозила разжалованием в солдаты.]. Молодость все прощает, был ветрен и хотел поставить на своем. Но лучше бы отправить со старыми солдатами, хотя они и были все пьяницы; но деньги я мог отправить по почте. Дело прошлое, согрешил и повел в Ардатов команду, а сам с половины дороги уехал один в город. Приезжаю, спрашиваю человека, ушел ли полк наш. Ушел, он отвечал. Вхожу в гостиную. В гостиной сидел мой хозяин с полковником. Я не помню, что со мною было. Это Бородинское жаркое дело! Первый вопрос полковника, почему я людей не принял? Я отвечал, что принял. Как я мог отправить команду без себя? Верно, я бежал? Я сказал, что команда идет сюда. «Подайте мне вашу шпагу!» – «Ея нет со мною: она в обозе». – «Покажите мне людей, которых вы приняли?» – «Их нет, они еще на половине дороги». – «Вы солдат! – сказал он, прибавив: – я знаю вашу хитрость. Приказываю: когда придут люди, немедля выйти из города и догонять полк». Он был взбешен, как я его никогда не видел. И было от чего. Сам он ушел немедля. После ухода его хозяин, добрый мой, обняв меня, заплакал и сказал, что полк наш вчерашний день ушел, а полковник остался за расчетом и завтра в 11 часов утра едет за полком на дневку, куда все городские приятели его провожают. Первое мое дело было броситься к исправнику и просить, чтобы близ города отвел квартиры моим рекрутам и дал бы им в 6 часов больше подвод с тулупами, да и впереди бы заготовил смену. Он, добряк, обещал, пожалел обо мне, и мы до свиданья расстались с ним. Я бросился к хозяину и с ним уехал к Бухваловым, приказав, когда партия придет в город, то проходили бы мимо за версту в большую деревню ночевать. Полковник вечером послал узнать, пришла ли партия, ему сказали, что прошла чрез город догонять полк. Его ужасно это рассердило; он говорил со мною сгоряча и думал, что я все исполнил, а я преспокойно всю ночь прощался и обещал из Орла приехать. Мне надавали почти годовую провизию, слезы были прощанием. Они полагали, что я буду солдат. Простившись и прося писать, я поехал в деревню, в 6 часов по приезде нашел ужасное количество подвод, так что на две лошади по два человека и два тулупа. Поверил команду, они все здоровы и целы! Я поскакал догонять полк и в 3 часа пополудни нагнал. Я послал рапорт к майору о прибытии моем и о том, что команда моя вся здорова и сыта, также деньги и шпагу. Полковник в городе замешкал до 12 часов на проводах и выехал со всеми знакомыми городскими чиновниками, кои его проводили. Дорогою он скучал, что нигде не может обогнать партии, и по приезде на дневку узнал, что партия пришла и все здоровы. Ехали на лошадях и в шубах. Знакомые городские все меня посетили, так же и мой хозяин, и привез мне поклон от невесты. Шпага мне была возвращена того же дни, но я долго не показывался полковнику, который в Темниково со мною нечаянно встретился и увел меня к себе обедать. Вот и конец делу, но я этой моей ветрености и теперь удивляюсь.
Мы шли походом до Орла без всяких приключений и дошли благополучно. Не доходя до оного за день, получили повеление в Орле только иметь дневку и по маршруту идти всем и кавалерии в герцогство Варшавское (что ныне царство Польское), в местечко Закрочин блокировать крепость Модлин, близ Варшавы, в 6 милях. Вот мои и планы на женитьбу рушились. Я писал много писем к невесте, ее матери и брату, но ответа ни одного не получил. Так и кончилось[47 - В 1826 году Н.И. Андреев женился на Надежде Николаевне Чихачевой.].
Заграничный поход
Наступил 1813 год. Неприятеля не было не только в России, но и в Польше. Мы достигли своего местоназначения, где по приходе немедля послали в армию нашего полка батальон с майором Антоновым, а я как ни просился, но полковник не отпустил. Мы квартировали у обывателей. Крепость Модлин укреплена очень хорошо[48 - Крепость Модлин у слияния Варева с Вислой существовала в зачаточном состоянии еще в XVIII веке: она имела земляные верки, которые к концу столетия пришли в полный упадок. Наполеон оценил важное стратегическое значение Модлина и во время кампании 1807 г. приказал в целях облегчения переправы через Вислу и Нарев построить большое предмостное укрепление на правом берегу Вислы и малые укрепления на левом берегу Нарева, на Новодворском полуострове. Затем, готовясь к походу в Россию, он признал необходимым обратить Модлин в первоклассную крепость, причем в составлении проекта этой крепости принимал участие известный французский инженер Шасслю. В 1813 г., ко времени блокады Модлина русскими войсками, он представлял собой следующее: главная крепость, на правом берегу Вислы и Нарева, состояла из ограды о четырех фронтах бастионного начертания, обращенных в поле, и одного фронта – неправильного кремальерного начертания, обращенного к реке. Три напольных фронта, наиболее подверженных атаке, имели равелины, вынесенные за гласис. Средний фронт, расположенный почти по прямой линии с соседними, не был подвержен атаке и потому имел равелин, примкнутый к контрэскарпу. К западу от крепости, у берега р. Нарева, находился горнверк с равелином, а еще далее к западу – верк кремальерного начертания с равелином и каменным блокгаузом в горже; он носил название кронверка Утратского. К северу от крепости находился кронверк Средний, а к северо-востоку – кронверк Модлинский. На левом берегу Вислы было расположено Казунское мостовое укрепление, на Шведском острове у головы моста находилась флешь с крыльями; наконец, на Новодворском полуострове – мостовое укрепление в виде горнверка, с отдельным ретраншементом в горже и двумя передовыми батареями (данные приводятся по источнику: Яковлев В.В. История крепостей. Гл. 18. М.: Полигон, 1995).], мы ходили по очереди в цепь. Со стороны сухопутной вылазок не было.
Армию формировал князь же Лобанов-Ростовский; корпус наш был под начальством генерал-лейтенанта Клейнмихеля, отца главноуправляющего путей сообщения. У него были в команде батальоны формирующейся гвардии, гренадер и армейские. Кавалерия стояла в Плоцке. Хотя солдат было и довольно в гвардии, но офицеров мало, и потому требовали из армии. Из нашего батальона командирован был я. Гвардия была расположена по реке Висле у колонистов, близ крепости, около местечка Новый Двор, где река Нарева впадает в Вислу, против крепости. Я явился к дивизионному начальнику 2-й гвардейской дивизии, подполковнику из нашей дивизии, моему приятелю Константину Михайловичу Колошинскому. Обеими дивизиями батальонов командовал Преображенского полка полковник Стрекалов. Я был назначен адъютантом 2-й гвардейской дивизии, месяца три исправлял я сию должность. В это время было ужаснейшее наводнение реки Вислы, на берегу коей мы стояли, а против нас за рекой был корпус гренадеров, под командою Паскевича. Река разлилась и потопила даже большие дома колонистов, так что мы делали плоты и плыли семь верст на высоту и там жили неделю на биваках. Сорвало в Варшаве мост и несло его мимо нас с людьми, там случившимися, в крепость. Зрелище было необыкновенное; на мосту была торговка и разного рода люди и собаки, но как они были поляки, то в крепости им дали убежище. Вода у нас была как море, и мы с трудом переправились. Так скоро прибывала, что утром показалась на улице, а к полудню уже затопила избы наверху. Я после назначен был в лейб-финляндский батальон, и там встретил знакомого начальника, капитана Женевского, который был ротным командиром, где я был в Дворянском полку в 5-й роте. Меня он назначил адъютантом, казначеем и квартирмистром, а после приехал этого же полка капитан Байков и принял батальон. Он меня полюбил очень и после дал роту, хотя и были гвардейские офицеры. Однажды, как я был в карауле с ротой в Новом Дворе против крепости (нас только река разделяла), неприятель вздумал, устроив флотилию из больших лодок, ночью посетить нас, чтоб истребить наш батальон, но ему эта шутка не удалась. Мы, подпустив их ближе, пустили на них батальный огонь, и они, правда, отвечали и 9 человек наших убили наповал, а 15 ранили порядочно: за то они, думаю, недосчитались у себя много, а одна лодка из орудия большого калибра была в щепки разбита, и люди их все перетонули. Но мы были очень осторожны. С трудом ходили за водой; они из крепости, не жалея снарядов, стреляли из пушек и по одному человеку. Наконец, наскучило мне быть у чужих, работать, учить чужую команду – я начал проситься в свой батальон. Байков меня просил остаться, с тем что когда будет мир, то он упросит великого князя меня перевести в гвардию, а как состояние мое не позволяло там служить[49 - Служба в гвардии обходилась дорого из-за повышенных требований к обмундированию, а также многочисленных престижных трат. Жалованье гвардейцев ненамного превышало армейское (на 20–50 %), но траты были многократно больше. Например, гвардеец не мог позволить себе пить в трактире дешевое вино или пиво, приходить пешком на званые балы и т. д. Попытка «удешевить» собственное содержание могла вызвать не только насмешки товарищей, но и прямые нарекания начальства.], к тому же я слышал, что из армии нашей каждого батальона идут за границу в действующую армию по две роты, то и думал туда отправиться. Но вышло не то. Вскоре, 1814 года в марте, был мир. Бонапарта прогнали на Эльбу. Крепость сдалась еще прежде, и мы пошли за Варшаву, где квартиры были чудесные, 25 миль около Кракова. Гостеприимство везде отличное, и можно сказать, что я пожил в Польше весело.
В исходе 1814 года пошли мы в Гродненскую губернию, куда из Парижа пришла и дивизия наша. К прискорбию нашему, не вернулся наш добрейший дивизионный Неверовский: его тяжело ранили под Лейпцигом в ногу, и он от раны вскоре умер[50 - 18 октября 1813 года Неверовский был ранен пулей в ногу (в лодыжку) в сражении под Лейпцигом. Присланный врач (Тарасов) решил воздержаться от ампутации, однако вынуть пулю не смог. Решение отказаться от ампутации оказалось ошибочным: Неверовский умер от гангрены 21 октября того же года.]. Дивизия вся его оплакивала, да и я впоследствии никогда не имел такого начальника.
В Гродненской губернии, бедной против Варшавской, я, однако, жил весело. Полк наш квартировал в Зельве, я с ротой в местечке Кременице, в уезде Волковиском, в имении бригиток-монашенок. Эконом был добрый человек, а дочь его Маша – милашка. Я имел квартиру прекрасную, жил как хороший обзаведенный офицер, имел три лошади своих, у меня бывали вечера, а у хозяина Избицкого балы. Часто полковая музыка у нас гремела, провианту я не давал ни гонцу, всегда квитанция готова. Артели солдат прибавлялись значительно, я продавал их муку и деньги отдавал им в артель. Мука была 25 рублей, а крупа 32 рубля за куль. Солдатам хорошо, да и я жил весело[51 - «Афера» Андреева состояла, вероятно, в том, что гостеприимные хозяева взяли на содержание его роту, скорее всего, в обмен на услуги, которые способны оказать находящиеся в поместье 160 пар крепких рабочих рук. Тем не менее Андреев получал со складов необходимое довольствие, которое продавал, получая с солдат расписки. Вырученные деньги он отдавал солдатам за определенный посреднический процент, на который и содержал себя в достатке. О распространенности такой практики красноречиво свидетельствует распоряжение А.А. Аракчеева отказать в прибавке жалованья ротным командирам, «поскольку оные пользуются доходами с рот».]. Что за жизнь была в Польше, и теперь с восторгом вспоминаю. Хорошо было молодежи, не так, как в России, кроме Ардатова, и то в какое время!
Наступил 1815 год. Наполеон вздумал бежать, и нас потребовали. Шли мы скоро до Калиша, а там в Шлезию, Саксонию. Что за край! Подобного нет в Европе. Проходили много герцогств, княжеств, Баварию, Богемию, и подошли к Рейну во Франкфурте-на-Майне. Я не живописец и не пиит, не могу изобразить прелестной картины возле Рейна, где мы простояли пять часов, дожидаясь эрцгерцога Карла, брата императора австрийского. Перед нами крепость Майнц, левее Рейн, в него впадает река Майнц. За рекой город Майнц, на горе, довольно большой и красивой; по правую сторону горы с виноградниками, по левую по реке Рейну даль верст на двадцать с деревнями каменного строения и церквами. Сзади нас в двух верстах на горе город Гохейм. Можно смотреть и восхищаться! Когда проехал мимо нас принц Карл, ему кричали «ура». Мы перешли Рейн и выпили прекрасного вина Гохеймского. Из полку по четыре офицера и по двое штабс-офицеров были приглашены на завтрак к принцу Карлу; я был в числе избранных. Завтрак был неважный, но зеленого салату много и вино хорошее, по две рюмки; принц одет был в сером сюртуке, и шляпа с широким позументом.
Я забыл сказать, что меня в Гродно в 1814 году произвели в поручики, а при переходе чрез Рейн 1815 года – в штабс-капитаны. Когда мы перешли Рейн, война кончилась. Англичане и прусаки разбили при Ватерло французов, и Наполеон великий бежал, и после отдался англичанам, кои отправили его на остров Св. Елены. Крепости же Мец и Вердюн не сдавались, и много у них было партизан. К последней нас послали блокировать ее; мы шесть недель содержали ее в блокаде, и она сдалась. Тогда я ездил в Люневиль, известный миром в 1801 году. Город очень хорош, в нем ружейная фабрика и пистолеты превосходные. Нас от границы Польши и во Франции продовольствовали везде очень хорошо, особливо прусаки и саксонцы, и у французов было недурно. Полк наш после квартировал в городе Бельмонте, а я с ротою в деревне Клермонте. В июле-месяце император собрал всю нашу армию и гренадеров на Шалонские поля близ Вертю, от Парижа очень недалеко. Он делал армии смотр и сам представлял монархам австрийскому, прусскому, баварскому, и много было владетельных, а фельдмаршалы наш и английский Велингтон. Из Парижа множество было маршалов, принцев, генералов и даже дам. Маневр сей для зрителей был прелестный. Когда армия собралась к Вертю в Шампани, в три часа утром, войска были поставлены в три линии! В первых двух пехота с артиллерию, в интервалах между дивизий, в третьей кавалерия. В десять часов приехали монархи в город Вертю, который построен на высокой горе, и оттуда необозримая равнина. Такого каре, думаю, никто и никогда не видал. Когда построились в каре, государи объехали оное, что составляло до пятнадцати верст кругом, и за ними вся свита и дамы. Большая кавалькада!
Мы стали в дивизионные колонны, а после в батальонные, и так пошли церемониальным маршем кругом десять верст. Наш император Александр ехал впереди пред гренадерами: гвардии тогда во Франции не было. Мы очень устали и утомились, пыль, жар, в августе 29-го. Мы ночью пришли, не ели ничего, жар, воды нет, везде песчаная степь. Мы платили по рублю серебром за стакан воды и рюмку водки. Сия проделка была повторяема три дня кряду: первый день репетиция, второй – смотр монархов, а 30 августа церковный парад в сей же армии и на том же месте. Я был последним в армии, проходил мимо царей, потому что дивизия 24-я была последняя в армии, полк наш последний в дивизии, рота моя, 9-я[52 - Действительно, Андреев командовал 3-й гренадерской ротой полка (она же 4-я (гренадерская) рота 3-го батальона, она же 9-я по счету среди действующих рот полка: сначала следовали 4 роты 1-го батальона, затем гренадерская рота 2-го (запасного) батальона, и, наконец, 4 роты 3-го батальона, последней из которых командовал мемуарист.], последняя в полку; сзади меня шла кавалерия. Можно вообразить, что по песку в жар какая была пыль. Если бы на мне был красный мундир, и тот бы был бел. Слава богу, все прошло, и молодость вынесла все труды.
Мы тотчас пошли в Шато-Тьери, городок хороший, на реке Сене, близ Парижа. Корпус наш был 8-й, командовал им Сабанеев, и нас оставляли во Франции на пять лет – я пока и не думал ехать в Париж, полагая, что успею еще, да и нужен был товарищ, кто бы знал язык французский[53 - Напомним, что сам Андреев умел «читать и писать по-французски и по-немецки», т. е. владел языком, что называется, «со словарем».]. В ожидании поездки получили повеление немедля выходить в Россию, а вместо нас оставили корпус графа Воронова. Вот мои планы рушились. Я был в Риме и папы не видал, то есть был возле Парижа, а там не был. Потомство сказало бы, что я вандал; но обстоятельства все переменяют, а притом же без денег там скучно. Я имел 40 червонцев; думаю: сберегу и, придя в Россию, съезжу проведать батюшку, которого давно не видал. Я так и сделал: еще во Франции подал в отпуск, и по возвращении в Россию, когда мы квартировали на Волыни в Житомирской губернии, я получил отпуск…
Чрез короткое время, в ноябре, произвели нашего полковника Назимова в генералы, а шефы в армии еще во Франции уничтожены. К нам дали полкового командира Яковлева, служившего в армии графа Витгенштейна с 1812-го подпоручиком, а в 1815 году был он полковник. Я не хотел служить в пехоте, хотел в кавалерию; но трудно перейти; а из отставки можно было проситься в любой полк. Вот что меня понудило оставить военную службу 26 лет. Я подал в отставку и недолго ждал: меня уволили тем же чином, потому что я не дослужил года в штабс-капитанском чине. Дивизию нашу еще при мне назначили в Литовской корпус, под начальство цесаревича Константина Павловича. Я, прощаясь со службой, не думал, что навек не надену военного мундира. Когда дали мне отставку, то в приказах сказана Высочайшая воля, чтоб отставных офицеров не принимать в другие полки, как в те же, где они служили. Вот я оставил службу военную навек. После идти в тот же полк нельзя, потому что кто у меня был в команде, у того я бы должен быть, и товарищи мои чрез два года были майоры все. К тому же батюшке угодно было, чтоб я остался при нем: из пяти сыновей ни одного при нем не было. Что делать мне было иначе? Я вышел в отставку 1816 года, дома прожил до 1819-го, после выбрали меня в заседатели в Порховский Земский суд…
Федор Николаевич Глинка
(1786–1880)
Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год
Предуведомление
В 1817 году, когда мне довелось быть председателем известного в то время Литературного общества и, в чине полковника гвардии, членом Общества военных людей и редактором Военного журнала, посетили меня в один вечер (в квартире моей в доме Гвардейского штаба) Жуковский, Батюшков, Гнедич и Крылов. Василий Андреевич (Жуковский) первый завел разговор о моих Письмах русского офицера, заслуживших тогда особенное внимание всех слоев общества.
«Ваших писем, – говорил Жуковский, – нет возможности достать в лавках: все-де разошлись. При таком требовании публики необходимо новое издание. Тут, кстати, вы можете пересмотреть, дополнить, а иное (что схвачено второпях, на походе) и совсем, пожалуй, переписать. Теперь ведь уже уяснилось многое, что прежде казалось загадочным и темным».
Гнедич и Батюшков более или менее разделяли мнение Жуковского, и разговор продолжался. Крылов молчал и вслушивался, а наконец заговорил: «Нет! – сказал он, – не изменяйте ничего: как что есть, так тому и быть. Не дозволяйте себе ни притачиваний нового к старому, ни подделок, ни вставок: всякая вставка, как бы хитро ее ни спрятали, будет выглядывать новою заплатою на старом кафтане. Оставьте нетронутым все, что написалось у вас, где случилось, как пришлось… Оставьте в покое ваши походные строки, вылившиеся у бивачных огней и засыпанные, может быть, пеплом тех незабвенных биваков. Представьте историку изыскивать, дополнять и распространяться о том, чего вы, как фронтовой офицер, не могли ни знать, ни ведать! И поверьте, что позднейшим читателям и любопытно, и приятно будет найти у вас не сухое официальное изложение, а именно более или менее удачный отпечаток того, что и как виделось, мыслилось и чувствовалось в тот приснопамятный 1812-й год, когда вся Россия, вздрогнув, встала на ноги и с умилительным самоотвержением готова была на всякое пожертвование».
Ф. Глинка
Описание Отечественной войны 1812 года до изгнания неприятеля из России и переход за границу в 1813 году
Мая 10, 1812. Село Сутоки
Природа в полном цвете!.. Зеленеющие поля обещают самую богатую жатву. Все наслаждается жизнью. Не знаю, отчего сердце мое отказывается участвовать в общей радости творения. Оно не смеет развернуться, подобно листьям и цветам. Непонятное чувство, похожее на то, которое смущает нас перед сильною грозою, сжимает его. Предчувствие какого-то отдаленного несчастья меня пугает… Но, может быть, это мечты!.. «Недаром, – говорят простолюдины, – прошлого года так долго ходила в небесах невиданная звезда; недаром горели города, села, леса, и во многих местах земля выгорала: не к добру это все! Быть великой войне!» Эти добрые люди имеют свои замечания. В самом деле, мы живем в чудесном веке: природа и люди испытывают превратности необычайные. Теперь в «Ведомостях» только и пишут о страшных наводнениях, о трясении земли в разных странах, о дивных явлениях на небе. Мы читаем в Степенных книгах[54 - Степенные книги – свод исторических сведений о России от древнейших времен до Ивана Грозного, составленный в XVI веке.], что перед великим нашествием татар на Россию солнце и луна изменяли вид свой, и небо чудесными знамениями как бы предуведомляло землю о грядущем горе… Нельзя не согласиться с знаменитым Махиавелем[55 - Махиавель – Макиавелли Николо (1469–1527) – итальянский политический деятель и писатель.], что мыслящие умы так же легко предузнают различные приключения в судьбе царств и народов по известным обстоятельствам, как мореплаватели – затмение светил и прочее по своим исчислениям.
Известно, до какой степени маркиз Куева де Бедмар[56 - Маркиз Куева де Бедмар (1572–1655) – испанский дипломат, посол в Венгрии; описан французским аббатом и историком Сент-Реалем (1639–1692) в книге «История заговора испанцев против Венецианской республики в 1618 году» (1647 г.).], описанный Сент-Реалем, силен был в науке предузнавать!.. К чему, в самом деле, такое притечение войск к границам? К чему сам государь, оставив удовольствия столицы, поспешил туда разделять труды воинской жизни? – К чему, как не к войне!.. Но война эта должна быть необыкновенна, ужасна!.. Наполеон, разгромив большую часть Европы, стоит, как туча, и хмурится над Неманом. Он подобен бурной реке, надменной тысячью поглощенных источников; грудь русская есть плотина, удерживающая стремление, – прорвется – и наводнение будет неслыханно! – О, друг мой! Ужели бедствия нашествий повторятся в дни наши?.. Ужели покорение? Нет! Русские не выдадут земли своей! Если недостанет воинов, то всяк из нас будет одной рукой водить соху, а другой сражаться за Отечество!
Кого не мучит теперь любопытство, чтоб разгадать загадку будущего? – Я читаю славную Гедеонову[57 - Гедеон (ок. 1726–1763) – придворный священник при императрице Елисавете Петровне, славившийся своими проповедями.] проповедь на разрушение Лиссабона – и живо представляется воображению моему, как величавый муж сей в священных сумерках пространного храма, где голос его в таинственных отзывах повторяется, перед лицом императрицы Елисаветы, описывая бедствия колеблющейся природы и страшную гибель Лиссабона, смело укоряет блестящий сонм вельмож в отставлении праотеческих нравов, в неге и роскоши, которым предаются, и вдруг, устами боговдохновенного пророка, гласит им в последнее наставление сии священные слова: и когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. Прощай! Я иду в свой садик поливать цветы и слушать громкого соловья – пока это еще можно! «Жить невидимкой – значит быть счастливу!» – говорит славный философ Декарт. Еще раз: прощай!..
Федор Николаевич Глинка (1786–1880) – русский поэт, публицист, прозаик, офицер, участник декабристских обществ.
Портрет. XIX век
16 июля 1812 – Смоленск
Сейчас приехал я в Смоленск. Какое смятение распространилось в народе!.. Получили известие, что неприятель уже близ Орши. В самом деле, все корпуса, армию нашу составляющие, проходя различными путями к одной цели, соединились в чрезвычайно укрепленном лагере близ Дриссея[58 - Имеется в виду укрепленная позиция близ г. Дриссы на левом берегу Западной Двины.] и ожидали неприятеля. Полагали, что он непременно пойдет на то место, чтоб купить себе вход в древние пределы России ценой сражения с нашими войсками; ибо как отважиться завоевывать государство, не разбив его войск? Но дерзкий Наполеон, надеясь на неисчислимое воинство свое, ломится прямо в грудь Отечества нашего. Народ у нас не привык слышать о приближении неприятеля. Умы и души в страшном волнении. Уже потянулись длинные обозы; всякий разведывает, где безопаснее. Никто не хочет достаться в руки неприятелю. Кажется, в России, равно как и в Испании, будет он покорять только землю, а не людей…
17 июля. Смоленск
Мой друг! настают времена Минина и Пожарского! Везде гремит оружие, везде движутся люди! Дух народный после двухсотлетнего сна пробуждается, чуя угрозу военную. Губернский предводитель наш, майор Лесли, от лица всего дворянства испрашивал у государя позволения вооружить 20 000 ратников на собственный кошт владельцев. Государь с признательностью принял важную жертву сию. Находящиеся здесь войска и многочисленная артиллерия были обозреваемы самим государем. К ним, по высочайшему повелению, должны немедленно присоединиться идущие из Дорогобужа и других депо рекрутские батальоны. Уже передовой отряд, под начальством храброго генерала Оленина, выступил к Красному. Старый генерал Лесли, поспешно вооружив четырех сынов своих и несколько десятков ратников, послал их присоединиться к этому же отряду, чтоб быть впереди. Вчера принят Е.И.В. из отставки в службу Г.-М. Пассек и получил начальство над частью здешних войск. – Земское ополчение усердием дворян и содействием здешнего гражданского губернатора барона Аша со всевозможной скоростью образуется. Смоленск принимает вид военного города. Беспрестанно звенят колокольчики; скачут курьеры; провозят пленных или шпионов. Несколько польских губерний подняли знамя бунта. Недаром они твердили пословицу: «Слышит птичка весну». О заблуждение! Они думают воскреснуть среди всеобщего разрушения!.. Обстоятельства становятся бурны. Не знаю, буду ли с тобой видеться, но письменное сношение заменяет половину свидания, – так говорит персиянин Бек-али; я верю ему – и буду стараться к тебе писать. – Прощай!..
18 июля, 1812. Село Сутоки
Армия наша, кроме двух дней после Смоленска, везде имела продовольствие отличное: хлеба, мяса и вина всегда было довольно, даже с избытком. Спасибо командирам-отцам, мы были сыты вдоволь. Поговаривали, что Кутузов, приняв армию, даст потешиться нашим и остановит француза; но впоследствии оказалось, что Наполеон очень желал чаще сражений и бесился, что мы отступаем без боя, полагая своим множеством народа уничтожить нашу небольшую армию. Ошибся голубчик в расчете, сам себя скорее уничтожил. Кутузов и подлинно хотел дать сражение в Царевом Займище, но нашел, что позиция невыгодна, и отступил до Бородина, близ города Можайска в 9 верстах, а от Москвы в 90.
Я был послан в обоз привезти патронные ящики и продовольствие провианта, когда, возвращаясь обратно с ящиками и фурами и проезжая по дороге мимо Бородина, увидел множество возле харчевни генералов и офицеров. Я был позван к Кутузову, который сидел в сенях на скамеечке, окруженный большой свитой. Наряд мой был щегольской: шапка без козырька, старый изодранный сюртук, подпоясанный шарфом без кистей, чрез плечо на ремне нагайка казацкая, сабля у бедра и на тощем большом рыжаке. Я походил на рыцаря печального образа. В заключение сей экипировки была на плечах обгорелая на биваках байковая желтая бурка, я соскочил с рыжака, отдал его держать фурлейту, а сам подошел к главнокомандующему. Почтенный старик спросил меня, которого я полка, куда везу ящики и где наш полк? Я отвечал, что 50-го егерского полка, везу для бригады порох и хлеб, что полк наш в арьергарде второй армии. Он мне сказал, чтобы я ехал с его адъютантом, который покажет мне, где я должен остановиться и дожидаться своего полка, не трогаясь с места. Меня повели, и я рассматривал место и войска. Возле главнокомандующего, помню, был 1-й лейб-егерский полк, далее гвардия в колоннах, за ней первая армия, а после и наша вторая. Местоположение было первой армии очень возвышенное, внизу овраг и речка с кустами, а наше гораздо ниже и лес сбоку и пред нами. На месте, где я был остановлен, была батарея, называемая Раевского; место возвышенное, и тут я нашел уже полк наш отдыхающим. Привезенный провиант и вино были разобраны, но много вина еще оставалось, как неприятель начал посылать к нам из орудий большие круглые гостинцы. Вино[36 - Речь, конечно, идет о «хлебном вине», т. е. водке.] привозили обыватели, которые плакали, чтобы я их отпустил скорее и при каждом выстреле наклоняли головы свои. Я спросил у полковника, куда девать вино, его много. Он велел дать по другой чарке людям, а остальные бочки разбить, чтобы не перепились люди. Я исполнил и велел обручи рубить. Вино потекло, полилось, как 26-го числа кровь людей. Крестьяне, бросив телеги, а другие лошадей своих, бросились бежать.
Это было 24 августа в 2 часа пополудни. Не успели люди еще поесть, как приказано батальону идти в стрелки.
Бородинская резня
Описывать битву сию, незапамятную в истории, хотя бы я мог, узнав подробности ее после и читая описания многих очевидцев, но это будет лишнее: я пишу о себе, следовательно, и довольствуюсь тем, где я был и что сам видел.
24-го числа, как я сказал, в 2 часа не успели наши закусить, как батальон наш пошел в стрелки; а 3-я гренадерская рота подвинулась от полка вперед, но стали возле опушки леса, где и я был. Стрелки наши были в лесу часа три. Тогда неприятели правее нас стали показываться колоннами на поле. Нашей дивизии Тарнопольский полк пошел колонной в атаку с музыкой и песнями (что я в первый и последний раз видел). Он после бросился в штыки в глазах моих. Резня недолго была, и полкового их командира ранило в заднюю часть тела навылет пулею. Его понесли, и полк начал колебаться. Его место заступили, полк остановили, и он опять бросился в штыки и славно работал. После остановились, прогнали неприятеля, и нас сменили. Не знаю, что было после; но опять подошли к Раевского батарее, что было на конце левого фланга всей армии. Тогда ходили еще в атаку Александрийский и Ахтырский гусарские полки и храбро дрались из-за нас. На ночь мы опять пошли в стрелки и стояли смирно, а 25-го числа утром сменены были 49-м егерским полком, но ненадолго. После весь полк был несколько раз в стрелках и много потерял, а 49-й еще и более нас: у них потеря была очень велика. Во всей армии 25-е число было тихо, кроме нас. На левом фланге стрелков никто не замечал, а у нас в бригаде едва ли осталось по 30 человек в роте.
С 25-го на 26-е в ночи, близко нас, у неприятеля пели песни, били барабаны, музыка гремела, и на рассвете увидали мы: вырублен лес, и против нас, где был лес, явилась огромная батарея. Лишь только была заря, то зрелище открылось необыкновенное: стук орудий до того, что не слышно было до полудня ружейного выстрела, все сплошной огонь пушек. Говорят, что небо горело, но вряд ли кто видел небо за беспрестанным дымом. Егеря наши мало были в деле, но дело везде было артиллерийское, с утра против Нея, Мюрата и Даву корпусов. Наша дивизия была уничтожена. Меня опять послали за порохом, и я, проезжая верхом, не мог не только по дороге, но и полем проехать от раненых и изувеченных людей и лошадей, бежавших в ужаснейшем виде. Ужасы сии я описывать не в силах; да и теперь вспомнить не могу ужаснейшего зрелища. А стук от орудий был таков, что за пять верст оглушало, и сие было беспрерывно. Много о том писали и всем известно. Тут перо мое не может начертать всей картины. Проезжая поле, я увидел лошадей нашего полковника и спросил у музыканта Максимова, где полковник, не убит ли? К счастью, тот показал, что тут лежит, жив; он не сказал, а показал пальцем. Я подошел к нему, и он с горестью сказал, что полка нашего не существует. Это было в 7-м часов вечера. Я отослал ящики назад, а сам поехал вперед к деревне Семеновской, которая пылала в огне. На поле встретил я нашего майора Бурмина, у которого было 40 человек. Это был наш полк. Он велел сих людей вести в стрелки. Я пошел, и они мне сказали: «ваше благородие, наш полк весь тут, ведите нас последних добивать». Доподлинно, взойдя в лес, мне встретилась картина ужаснейшая и невиданная. Пехота разных полков, кавалерия спешившая без лошадей, артиллеристы без орудий. Всякий дрался чем мог, кто тесаком, саблей, дубиной, кто кулаками. Боже, что за ужас! Мои егеря рассыпались по лесу, и я их более не видал, и поехал к деревне Семеновской. Был уже 10-й час, пальба пушек не переставала с той же силою. На дороге я видел колонны русских и французов, как в игрушках согнутые карты, повалены дуновением ветра или пальцем. Картина ужасная. Но сердце замерло: ни одной слезы о несчастных! Наткнулся я на брата, который сказал, что он ранен в ногу. Я поделился с ним куском баранины[37 - Выходя раненым (тоже в ногу) из оставляемой войсками Москвы, Душенкевич также наткнулся на брата, служившего в другом полку. Вообще, некоторые параллельные свидетельства участия в сражениях совпадают едва ли не текстуально, интересно в этом смысле сравнить, например, описание собственных приключений при Гейльсберге двух уланов – Н.А. Дуровой и Ф.В. Булгарина. Возможно, это дань общей литературной моде, диктовавшей некоторые «беспроигрышные» сюжетные ходы. Спустя много лет память услужливо подставляла мемуаристу именно такие, «литературные» эпизоды.], доставшейся мне от казначея Толовикова, когда я ездил за патронами. Возле деревни встретил я дивизионного начальника, который мне велел, где увижу, собирать к деревне Шевардино его дивизию 27-ю.
В 11 часов была дивизия собрана, всего до 700 человек. В Одесском командовал поручик, в Тарнопольском фельдфебель, и так далее; в нашем полковник и три офицера со мною.
В полдень 26-го я с капитаном нашим Шубиным поехал на пригорок, где слышался необыкновенный шум, и что же? Мы видим: два кирасирских полка, Новороссийский и Малороссийский, под командою генерал-лейтенанта Дуки, пошли на неприятельскую батарею. Картина была великолепная! Кирасиры показали свою храбрость: как картечь их не валила, но хотя половиною силы, они достигли своей цели, и батарея была их. Но что за огонь они вытерпели, то был ад! За любопытство наше капитану Шубину оторвали правую руку, но, впрочем, на все судьба: это могло бы, и не трогаясь с места, быть; от сего отделаться нельзя. Мы видели, как Семеновской полк, несколько часов стоя на позиции, не сделав ни одного выстрела, был ядрами уничтожаем. Я видел, когда сняли незабвенного нашего князя Багратиона с лошади, раненного в ногу, и как он был терпелив и хладнокровен: слезал с коня в последний раз и поощрял солдат отмстить за себя. Помощник Суворова, бывший с ним в Италии и Швейцарии, командовал всегда авангардом и, наконец, бывши главнокомандующим, не берег себя и по привычке был в сильном огне. Он не вынес раны и вскоре умер. Царство ему небесное! Армия много в этот день потеряла хороших генералов: утром убило Тучкова, в полдень Кутайсова, начальника артиллерии, и многих очень. И граф Милорадович поспел на веселый пир. Он пред сражением привел резервы. Граф Воронцов командовал возле нас сводными гренадерскими ротами двух батальонов[38 - Как следует из текста, в состав сводной гренадерской дивизии при Бородине были отобраны гренадерские роты 2 действующих батальонов из каждого полка, помимо гренадерской роты запасного батальона.]; в числе сих были и нашего полка. Ночь прекратила побоище неслыханное в летописях, и мы пошли к Можайску. Да и неприятель отступил. Скелеты полков нашей дивизии поступили к графу Милорадовичу в арьергард.
За Бородино дали мне на шпагу Св. Анны 3-й степени, и два еще капитану и прапорщику. Вот наши и все награды за всю Русскую кампанию. Полку серебряные трубы, полковнику Св. Анны и Владимира 3-й степени на шею.
Я забыл сказать, что 26-е число Московское ополчение стояло в колонне сзади нас на горе; их било ядрами исправно, и даром. Главнокомандующий сделал славное из них употребление: поставил их цепью сзади войска, чтобы здоровые люди не выносили раненых, а убирали бы ополченцы. Сделано славно, но безбожники грабили раненых, что я сам видел, везя патроны в полк, и трем саблею от меня досталось по спинам плашмя. Этими молодцами после сражения укомплектовали дивизию нашу, с оружием бог знает каким: кто имел пику, кто бердыш, у иного ружье, пистолет и нож, а кто был с дубиной. К нам дали их офицера в треугольной шляпе, который вскоре и бежал. Да и войско его дошло с нами только до Москвы, а после и десятой части их не осталось: все разбрелись, дружки[39 - Андреев не единственный, кто говорит о невысоких боевых качествах ополчения.].
От Можайска до Москвы мы не дрались, только иногда кавалерия, всегда сзади нас шедшая, переведывалась помаленьку. Мы подошли к Москве, остановились на Воробьевых горах. Вид чудесный! Вся старушка-Москва под ногами. Я, быв в Москве зимой, не был на горах сих и в первый раз любовался местоположением прелестным. Пробыв там почти сутки, я был послан по дороге Владимирской отыскать обозы наши и 49-го полка, взять фуры и, нагрузив их в магазине в Москве, доставить в полки. Верст за 20 от Москвы нашел я обоз и на рассвете был в Москве. Там ожидало меня новое зрелище. Магазин был заперт, караула нет, армии я не нашел; куда пошла, мне неизвестно, да и кто знает, куда ведут начальники? Ломать печати и замки беда, без хлеба ехать еще хуже. Я решился, однако, нагрузить фуры и поехал за толпою народа, который, вероятно, выезжал и выходил туда, куда пошла армия, к городу Подольску. Вообразить себе можно, какая давка и теснота была в Москве на выездах.
Жители были до того времени покойны и не выезжали, пока армия оставила Москву. Я видел сию тревогу и с 10 часов утра до 7 вечера с трудом с 8 фурами выехал за заставу. Отъехав с версту, вижу, что за мною выехала наша арьергардная кавалерия, в том числе были гвардейский[40 - После слова «гвардейский», вероятно, выпущено слово «корпус». Перечисленные гвардейские полки входили в состав 1-го резервного кавалерийского корпуса под командованием графа Ф.П. Уварова.], гусарский, уланский и драгунский полки с пиками (гусаров я еще первых увидел с пиками[41 - При всей сумбурности, эта фраза весьма интересна, если ее понимать как «видел впервые с пиками». Перед войной первой шеренге гусар было приказано иметь пики; но на практике, видимо, это исполнялось только в гвардии.]); полки сии были очень невелики. Вскоре раздался залп из орудий неприятельских; это означало их вступление в нашу столицу, но для чего, я не знал: войска нашего там не было. Граф Милорадович сделал договор с Мюратом выпустить наши остальные войска из Москвы. Я продолжал путь и, отъехав 15 верст, уже ночью, увидел сильное зарево в Москве; белокаменная запылала. Но огонь ее очистил Россию от французов скоро: нет худа без добра. К свету настиг я на привале свой полк. На другой день шли к Подольску и повернули после круто на Калугу. Мы еще были в арьергарде, но, остановившись у села Воронова (Растопчина графа), мы уже были в авангарде: ибо ретироваться с сего пункта перестали. Граф Растопчин, истиннорусский, сжег сам свое село[42 - Вернее, усадьбу.], чтобы нога неприятеля не ступила в его строение.
Дивизионный наш Неверовский просил графа Милорадовича, чтобы сменил дивизию его, разбитую до невозможности, сказав, что она без обуви, не имеет времени починиться, да и силами ослабела, всегда под выстрелами от Смоленска. «Знаю, ваше превосходительство, что дивизия ваша ослабела силами, но зато тверда духом!» – отвечал граф, и Неверовскому не оставалось более, как благодарить за честь, которую ему делает граф[43 - Произносить напыщенные «исторические» фразы было очень в характере Милорадовича, который сознательно соревновался в сем искусстве со своим непосредственным противником, маршалом Мюратом. Об этом можно прочесть в мемуарах Ермолова.]. Церемония кончилась, а мы все остались в авангарде. Мы были еще в драке у реки Красной Пахры, и сия была уже для нас последняя. Подойдя к Тарутинскому лагерю, полки наши дошли до совершенного ничтожества: в нашем оставалось до 300 человек и 6 офицеров. Главнокомандующий уменьшил дивизию: из шести полков по два послал формироваться. Из нашей дивизии назначили Тарнапольский и наш 50-й егерский. Людей мы сдали в 49-й, оставив только 40 человек и полковой штаб. У нас было музыкантов с барабанщиками вдвое, чем весь полк. Наш бригадный Воейков просил меня идти к нему в адъютанты, ибо его адъютанта произвели в майоры. Я посоветовался с полковником, который мне не присоветовал, а взял с собою. Не знаешь, где найти и где потерять. Хорошо, что я не пошел к нему: он был бригадный одного полка и вскоре по болезни уехал в Петербург, и мы более о нем не слыхали: пропал без вести! По названию у нас все был полк, хотя 40 человек, но штаб был полка налицо.
Мы прошли Тулу и пошли в Нижегородскую губернию в исходе сентября. В каждом городе мы шли церемониально с музыкой, и когда проходили, то жители всегда спрашивали, где же полк? И мы показывали на наши остатки. Нас принимали везде, как родных; расспросов, разговоров не было конца. Стало уже холодно, и мы в ноябре пришли формироваться в город Ардатов, а главнокомандующий наш, генерал от инфантерии князь Лобанов-Ростовский, жил в Арзамасе; и кавалерийский же генерал Кологривов в Орле. Житье нам было в Ардатове! Скитавшись от апреля до 15 октября под открытым небом возле костров бивачных и быв беспрестанно в это время в опасности, можно вообразить, каково нам было! Городничий, судья, исправник, соляной пристав и откупщик Анцов – все люди богатые. У последнего была моя квартира, прекраснейшая, лучшая в городе. Пиры беспрестанные, разгулье молодецкое, и еще узнали, что француза погнали по старой разоренной дорожке. То-то была гульба! Раненые солдаты и офицеры к нам прибывали. Рекрут нам дали молодцов нижегородских. И мы с 15 октября до 1 декабря почти сформировали полк. Много прибывало и раненых, офицеров же не было половины комплекта. Мне дали 3-ю гренадерскую роту. Формировка продолжается сама по себе, а вечерами гульба ужасная. Вот что было у нас, пили напропалую. Музыканты отказывались от Цымлянского и выморозков[44 - Вымораживание – способ крепления вина, состоящий в замораживании до температуры замерзания воды. Затем лед удаляется, а оставшееся вино (выморозки) становится крепче.]. Очень я доволен был, что избавился от адъютантской должности: на месте все бы ничего, а походом каторга; было время, что сам не раздевался и лошадь не расседлывал по два месяца. Полковой адъютант в канцелярии и батальонный, по приходе на место, нарядить должен команды за дровами и водой с офицером, после ехать в дивизионную квартиру за приказанием, а нередко и в корпусную. Поди, отыщи и там дожидайся, пока приказы будут. Их нужно выписать и отвезти к начальству, к бригадному и полковому, после собрать фельдфебелей, отдать приказание, а глядишь, уже свет и в поход. Спал я часто верхом, и сбоку солдаты придерживали; хуже не было в полку должности моей. Хозяин мой Ардатовский был большой хлебосол, гости и офицеры у него безвыходно были, я ему был как брат, и старший. Езжали к нему часто соседи, живущие в трех верстах от города, семейство Бухваловых, состоящее из старой вдовы, ее сына и двух дочерей. Сын пошел в ополчение, но я его еще застал дома. Меньшая дочь, Марья Федоровна, очень мне понравилась. Я, отдохнув, забыл про беду и влюбился. Девица хороша, думаю я, за нею 60 прекрасных душ. Мне, правда, ровесница, 21 года; что же, жениться не худо, ежели пойдет. Сказано – и сделано. Я объяснился с моим хозяином (большим другом семейства Бухваловых), он одобрил. Я чрез два дня посватал и имел полный успех. Вот я и жених, меня любят, ласкают, и я как сыр в масле. Что же? Узнаёт мой добрый полковник – залучил меня в свой кабинет и начал журить по-отечески. Он мне сказал: «Что ты, брат Николай Иванович, задумал? Ужели ты век прожил; какого ты чина? Какое теперь у нас обстоятельство? Правда, девица хороша, но что же дальше? Ты очень еще молод, поспеешь жениться; а теперь что же будет? Отставки тебе в военное время не дадут; но хотя бы и дали оную, какую ты играть будешь роль в 20 лет в отставке? Подпоручик, имеющий Св. Анны на шпаге и медаль. И тебя выберут в заседатели в земский суд, привяжешь колокольчик к дуге, и вот блестящая твоя карьера. Того ли ожидает от тебя твой отец? Вот послужил сын его Отечеству ровно год! Ты молод, не понимаешь, что будет. За нею дадут хорошо 60 душ; подумай, у тебя будут дети, может быть, и много; ты размножишь слободу однодворцев[45 - В данном случае – оскуделых дворян без крепостных.], ты от скуки захочешь служить, состояние небольшое, жену оставишь дома. Сам влюбишься опять в другую: вот твоя перспектива! Словом, я тебе никак не позволяю сделать такую наивеличайшую глупость; выкинь из головы, займись лучше ротой, а частые твои поездки прекрати. Поди с богом, я твоих возражений и слушать не хочу; есть ли же не перестанешь ездить, то я поеду к ним сам и скажу, что мне отцом препоручен, и я, как отец и как начальник твой, тебе строго запрещаю жениться». Что было мне делать! Говорить – хуже: я знаю горячий нрав его; беда, что наделает! Бог знает, лучше молчать, а свое делать. Представится случай, мое не уйдет. Теперь Рождественский пост; вот как кончится, хозяин мой поможет, сделаем свадьбу втихомолку, у нас священник добрый, и Ардатовский дьякон, лихой игрок в карты, в бильярд и пойдет куда угодно! Ему знакомы другие попы, он устроит; часто он ночи просиживал до обедни, идет в церковь, в мелу замаран, проигравши. Ему тихонько покажешь карту с углом: он доволен, полагая отыграться! Человек располагает, а Бог управляет. Я немедля же поехал к Бухваловым. Когда же возвратился от них, мне сказали, что полковник за мною три раза присылал. Я иду. Вижу его серьезную мину. Он мне сказал: «Вот, любезнейший, всему конец. Полно тебе дурачиться: поздравляю тебя с походом: мы идем послезавтра в Орел. А тебе вот предписание: поезжай сейчас в слободу, отсюда за 60 верст – там найдешь 120 рекрут Житомирской губернии, прими их и артельные деньги, и выходи ко мне навстречу: тебе не далее будет 15 верст по тракту к городу Темникову Рязанской губернии. Возьми с собою трех старых солдат твоей роты, унтер-офицеров не бери. Прощай, поспеши: я буду дневать чрез два дня, и туда явишься». Взял я бумагу и думаю: прощай, быть может, и навек! Иду я к хозяину, сказываю свою беду; он спросил: «Что же вы намерены делать?» – «Жениться после праздника непременно, а там что Бог даст!» Вот я делаюсь против службы первый раз преступником! Прошу хозяина завтра съездить к невесте и уверить ее, что я скоро буду. Забрал в дорогу харчей и чаю, лошади готовы, вот я и в дороге.
В восьми лье от Москвы, слева от главной дороги, 23 сентября 1812 г.
Гравюра. Христиан Вильгельм фон Фабер дю Фор. XIX век
Зима стояла прежестокая, доходило выше 30 градусов. Лошади были подставные, по предписанию исправника. Я до света долетел до местечка, вижусь с гарнизонным офицером, принимаю команду, все идет скоро, деньги до 1500 рублей принял, пишу списки, и в день и ночь все готово: прошу офицера довести команду 15 верст до полку. Он сказал, что ему нужно еще 300 человек вести в полк Тираспольский. Вот задача! Что я буду делать?! Послать с солдатами команду – худо, а сказаться больным – все пропало! Думал я много, и тут нечистый искусил. Я вздумал команду вести в город Ардатов. Это вышло назад 50 верст, да оттуда, сдав гарнизонному офицеру, самому остаться больным и еще бедным рекрутам догонять полк 60 верст, что составило вместо 15 – 110 верст в такую стужу. Стоило бы подумать, что я буду солдат за такую проделку[46 - То есть такая «неисправность» по службе грозила разжалованием в солдаты.]. Молодость все прощает, был ветрен и хотел поставить на своем. Но лучше бы отправить со старыми солдатами, хотя они и были все пьяницы; но деньги я мог отправить по почте. Дело прошлое, согрешил и повел в Ардатов команду, а сам с половины дороги уехал один в город. Приезжаю, спрашиваю человека, ушел ли полк наш. Ушел, он отвечал. Вхожу в гостиную. В гостиной сидел мой хозяин с полковником. Я не помню, что со мною было. Это Бородинское жаркое дело! Первый вопрос полковника, почему я людей не принял? Я отвечал, что принял. Как я мог отправить команду без себя? Верно, я бежал? Я сказал, что команда идет сюда. «Подайте мне вашу шпагу!» – «Ея нет со мною: она в обозе». – «Покажите мне людей, которых вы приняли?» – «Их нет, они еще на половине дороги». – «Вы солдат! – сказал он, прибавив: – я знаю вашу хитрость. Приказываю: когда придут люди, немедля выйти из города и догонять полк». Он был взбешен, как я его никогда не видел. И было от чего. Сам он ушел немедля. После ухода его хозяин, добрый мой, обняв меня, заплакал и сказал, что полк наш вчерашний день ушел, а полковник остался за расчетом и завтра в 11 часов утра едет за полком на дневку, куда все городские приятели его провожают. Первое мое дело было броситься к исправнику и просить, чтобы близ города отвел квартиры моим рекрутам и дал бы им в 6 часов больше подвод с тулупами, да и впереди бы заготовил смену. Он, добряк, обещал, пожалел обо мне, и мы до свиданья расстались с ним. Я бросился к хозяину и с ним уехал к Бухваловым, приказав, когда партия придет в город, то проходили бы мимо за версту в большую деревню ночевать. Полковник вечером послал узнать, пришла ли партия, ему сказали, что прошла чрез город догонять полк. Его ужасно это рассердило; он говорил со мною сгоряча и думал, что я все исполнил, а я преспокойно всю ночь прощался и обещал из Орла приехать. Мне надавали почти годовую провизию, слезы были прощанием. Они полагали, что я буду солдат. Простившись и прося писать, я поехал в деревню, в 6 часов по приезде нашел ужасное количество подвод, так что на две лошади по два человека и два тулупа. Поверил команду, они все здоровы и целы! Я поскакал догонять полк и в 3 часа пополудни нагнал. Я послал рапорт к майору о прибытии моем и о том, что команда моя вся здорова и сыта, также деньги и шпагу. Полковник в городе замешкал до 12 часов на проводах и выехал со всеми знакомыми городскими чиновниками, кои его проводили. Дорогою он скучал, что нигде не может обогнать партии, и по приезде на дневку узнал, что партия пришла и все здоровы. Ехали на лошадях и в шубах. Знакомые городские все меня посетили, так же и мой хозяин, и привез мне поклон от невесты. Шпага мне была возвращена того же дни, но я долго не показывался полковнику, который в Темниково со мною нечаянно встретился и увел меня к себе обедать. Вот и конец делу, но я этой моей ветрености и теперь удивляюсь.
Мы шли походом до Орла без всяких приключений и дошли благополучно. Не доходя до оного за день, получили повеление в Орле только иметь дневку и по маршруту идти всем и кавалерии в герцогство Варшавское (что ныне царство Польское), в местечко Закрочин блокировать крепость Модлин, близ Варшавы, в 6 милях. Вот мои и планы на женитьбу рушились. Я писал много писем к невесте, ее матери и брату, но ответа ни одного не получил. Так и кончилось[47 - В 1826 году Н.И. Андреев женился на Надежде Николаевне Чихачевой.].
Заграничный поход
Наступил 1813 год. Неприятеля не было не только в России, но и в Польше. Мы достигли своего местоназначения, где по приходе немедля послали в армию нашего полка батальон с майором Антоновым, а я как ни просился, но полковник не отпустил. Мы квартировали у обывателей. Крепость Модлин укреплена очень хорошо[48 - Крепость Модлин у слияния Варева с Вислой существовала в зачаточном состоянии еще в XVIII веке: она имела земляные верки, которые к концу столетия пришли в полный упадок. Наполеон оценил важное стратегическое значение Модлина и во время кампании 1807 г. приказал в целях облегчения переправы через Вислу и Нарев построить большое предмостное укрепление на правом берегу Вислы и малые укрепления на левом берегу Нарева, на Новодворском полуострове. Затем, готовясь к походу в Россию, он признал необходимым обратить Модлин в первоклассную крепость, причем в составлении проекта этой крепости принимал участие известный французский инженер Шасслю. В 1813 г., ко времени блокады Модлина русскими войсками, он представлял собой следующее: главная крепость, на правом берегу Вислы и Нарева, состояла из ограды о четырех фронтах бастионного начертания, обращенных в поле, и одного фронта – неправильного кремальерного начертания, обращенного к реке. Три напольных фронта, наиболее подверженных атаке, имели равелины, вынесенные за гласис. Средний фронт, расположенный почти по прямой линии с соседними, не был подвержен атаке и потому имел равелин, примкнутый к контрэскарпу. К западу от крепости, у берега р. Нарева, находился горнверк с равелином, а еще далее к западу – верк кремальерного начертания с равелином и каменным блокгаузом в горже; он носил название кронверка Утратского. К северу от крепости находился кронверк Средний, а к северо-востоку – кронверк Модлинский. На левом берегу Вислы было расположено Казунское мостовое укрепление, на Шведском острове у головы моста находилась флешь с крыльями; наконец, на Новодворском полуострове – мостовое укрепление в виде горнверка, с отдельным ретраншементом в горже и двумя передовыми батареями (данные приводятся по источнику: Яковлев В.В. История крепостей. Гл. 18. М.: Полигон, 1995).], мы ходили по очереди в цепь. Со стороны сухопутной вылазок не было.
Армию формировал князь же Лобанов-Ростовский; корпус наш был под начальством генерал-лейтенанта Клейнмихеля, отца главноуправляющего путей сообщения. У него были в команде батальоны формирующейся гвардии, гренадер и армейские. Кавалерия стояла в Плоцке. Хотя солдат было и довольно в гвардии, но офицеров мало, и потому требовали из армии. Из нашего батальона командирован был я. Гвардия была расположена по реке Висле у колонистов, близ крепости, около местечка Новый Двор, где река Нарева впадает в Вислу, против крепости. Я явился к дивизионному начальнику 2-й гвардейской дивизии, подполковнику из нашей дивизии, моему приятелю Константину Михайловичу Колошинскому. Обеими дивизиями батальонов командовал Преображенского полка полковник Стрекалов. Я был назначен адъютантом 2-й гвардейской дивизии, месяца три исправлял я сию должность. В это время было ужаснейшее наводнение реки Вислы, на берегу коей мы стояли, а против нас за рекой был корпус гренадеров, под командою Паскевича. Река разлилась и потопила даже большие дома колонистов, так что мы делали плоты и плыли семь верст на высоту и там жили неделю на биваках. Сорвало в Варшаве мост и несло его мимо нас с людьми, там случившимися, в крепость. Зрелище было необыкновенное; на мосту была торговка и разного рода люди и собаки, но как они были поляки, то в крепости им дали убежище. Вода у нас была как море, и мы с трудом переправились. Так скоро прибывала, что утром показалась на улице, а к полудню уже затопила избы наверху. Я после назначен был в лейб-финляндский батальон, и там встретил знакомого начальника, капитана Женевского, который был ротным командиром, где я был в Дворянском полку в 5-й роте. Меня он назначил адъютантом, казначеем и квартирмистром, а после приехал этого же полка капитан Байков и принял батальон. Он меня полюбил очень и после дал роту, хотя и были гвардейские офицеры. Однажды, как я был в карауле с ротой в Новом Дворе против крепости (нас только река разделяла), неприятель вздумал, устроив флотилию из больших лодок, ночью посетить нас, чтоб истребить наш батальон, но ему эта шутка не удалась. Мы, подпустив их ближе, пустили на них батальный огонь, и они, правда, отвечали и 9 человек наших убили наповал, а 15 ранили порядочно: за то они, думаю, недосчитались у себя много, а одна лодка из орудия большого калибра была в щепки разбита, и люди их все перетонули. Но мы были очень осторожны. С трудом ходили за водой; они из крепости, не жалея снарядов, стреляли из пушек и по одному человеку. Наконец, наскучило мне быть у чужих, работать, учить чужую команду – я начал проситься в свой батальон. Байков меня просил остаться, с тем что когда будет мир, то он упросит великого князя меня перевести в гвардию, а как состояние мое не позволяло там служить[49 - Служба в гвардии обходилась дорого из-за повышенных требований к обмундированию, а также многочисленных престижных трат. Жалованье гвардейцев ненамного превышало армейское (на 20–50 %), но траты были многократно больше. Например, гвардеец не мог позволить себе пить в трактире дешевое вино или пиво, приходить пешком на званые балы и т. д. Попытка «удешевить» собственное содержание могла вызвать не только насмешки товарищей, но и прямые нарекания начальства.], к тому же я слышал, что из армии нашей каждого батальона идут за границу в действующую армию по две роты, то и думал туда отправиться. Но вышло не то. Вскоре, 1814 года в марте, был мир. Бонапарта прогнали на Эльбу. Крепость сдалась еще прежде, и мы пошли за Варшаву, где квартиры были чудесные, 25 миль около Кракова. Гостеприимство везде отличное, и можно сказать, что я пожил в Польше весело.
В исходе 1814 года пошли мы в Гродненскую губернию, куда из Парижа пришла и дивизия наша. К прискорбию нашему, не вернулся наш добрейший дивизионный Неверовский: его тяжело ранили под Лейпцигом в ногу, и он от раны вскоре умер[50 - 18 октября 1813 года Неверовский был ранен пулей в ногу (в лодыжку) в сражении под Лейпцигом. Присланный врач (Тарасов) решил воздержаться от ампутации, однако вынуть пулю не смог. Решение отказаться от ампутации оказалось ошибочным: Неверовский умер от гангрены 21 октября того же года.]. Дивизия вся его оплакивала, да и я впоследствии никогда не имел такого начальника.
В Гродненской губернии, бедной против Варшавской, я, однако, жил весело. Полк наш квартировал в Зельве, я с ротой в местечке Кременице, в уезде Волковиском, в имении бригиток-монашенок. Эконом был добрый человек, а дочь его Маша – милашка. Я имел квартиру прекрасную, жил как хороший обзаведенный офицер, имел три лошади своих, у меня бывали вечера, а у хозяина Избицкого балы. Часто полковая музыка у нас гремела, провианту я не давал ни гонцу, всегда квитанция готова. Артели солдат прибавлялись значительно, я продавал их муку и деньги отдавал им в артель. Мука была 25 рублей, а крупа 32 рубля за куль. Солдатам хорошо, да и я жил весело[51 - «Афера» Андреева состояла, вероятно, в том, что гостеприимные хозяева взяли на содержание его роту, скорее всего, в обмен на услуги, которые способны оказать находящиеся в поместье 160 пар крепких рабочих рук. Тем не менее Андреев получал со складов необходимое довольствие, которое продавал, получая с солдат расписки. Вырученные деньги он отдавал солдатам за определенный посреднический процент, на который и содержал себя в достатке. О распространенности такой практики красноречиво свидетельствует распоряжение А.А. Аракчеева отказать в прибавке жалованья ротным командирам, «поскольку оные пользуются доходами с рот».]. Что за жизнь была в Польше, и теперь с восторгом вспоминаю. Хорошо было молодежи, не так, как в России, кроме Ардатова, и то в какое время!
Наступил 1815 год. Наполеон вздумал бежать, и нас потребовали. Шли мы скоро до Калиша, а там в Шлезию, Саксонию. Что за край! Подобного нет в Европе. Проходили много герцогств, княжеств, Баварию, Богемию, и подошли к Рейну во Франкфурте-на-Майне. Я не живописец и не пиит, не могу изобразить прелестной картины возле Рейна, где мы простояли пять часов, дожидаясь эрцгерцога Карла, брата императора австрийского. Перед нами крепость Майнц, левее Рейн, в него впадает река Майнц. За рекой город Майнц, на горе, довольно большой и красивой; по правую сторону горы с виноградниками, по левую по реке Рейну даль верст на двадцать с деревнями каменного строения и церквами. Сзади нас в двух верстах на горе город Гохейм. Можно смотреть и восхищаться! Когда проехал мимо нас принц Карл, ему кричали «ура». Мы перешли Рейн и выпили прекрасного вина Гохеймского. Из полку по четыре офицера и по двое штабс-офицеров были приглашены на завтрак к принцу Карлу; я был в числе избранных. Завтрак был неважный, но зеленого салату много и вино хорошее, по две рюмки; принц одет был в сером сюртуке, и шляпа с широким позументом.
Я забыл сказать, что меня в Гродно в 1814 году произвели в поручики, а при переходе чрез Рейн 1815 года – в штабс-капитаны. Когда мы перешли Рейн, война кончилась. Англичане и прусаки разбили при Ватерло французов, и Наполеон великий бежал, и после отдался англичанам, кои отправили его на остров Св. Елены. Крепости же Мец и Вердюн не сдавались, и много у них было партизан. К последней нас послали блокировать ее; мы шесть недель содержали ее в блокаде, и она сдалась. Тогда я ездил в Люневиль, известный миром в 1801 году. Город очень хорош, в нем ружейная фабрика и пистолеты превосходные. Нас от границы Польши и во Франции продовольствовали везде очень хорошо, особливо прусаки и саксонцы, и у французов было недурно. Полк наш после квартировал в городе Бельмонте, а я с ротою в деревне Клермонте. В июле-месяце император собрал всю нашу армию и гренадеров на Шалонские поля близ Вертю, от Парижа очень недалеко. Он делал армии смотр и сам представлял монархам австрийскому, прусскому, баварскому, и много было владетельных, а фельдмаршалы наш и английский Велингтон. Из Парижа множество было маршалов, принцев, генералов и даже дам. Маневр сей для зрителей был прелестный. Когда армия собралась к Вертю в Шампани, в три часа утром, войска были поставлены в три линии! В первых двух пехота с артиллерию, в интервалах между дивизий, в третьей кавалерия. В десять часов приехали монархи в город Вертю, который построен на высокой горе, и оттуда необозримая равнина. Такого каре, думаю, никто и никогда не видал. Когда построились в каре, государи объехали оное, что составляло до пятнадцати верст кругом, и за ними вся свита и дамы. Большая кавалькада!
Мы стали в дивизионные колонны, а после в батальонные, и так пошли церемониальным маршем кругом десять верст. Наш император Александр ехал впереди пред гренадерами: гвардии тогда во Франции не было. Мы очень устали и утомились, пыль, жар, в августе 29-го. Мы ночью пришли, не ели ничего, жар, воды нет, везде песчаная степь. Мы платили по рублю серебром за стакан воды и рюмку водки. Сия проделка была повторяема три дня кряду: первый день репетиция, второй – смотр монархов, а 30 августа церковный парад в сей же армии и на том же месте. Я был последним в армии, проходил мимо царей, потому что дивизия 24-я была последняя в армии, полк наш последний в дивизии, рота моя, 9-я[52 - Действительно, Андреев командовал 3-й гренадерской ротой полка (она же 4-я (гренадерская) рота 3-го батальона, она же 9-я по счету среди действующих рот полка: сначала следовали 4 роты 1-го батальона, затем гренадерская рота 2-го (запасного) батальона, и, наконец, 4 роты 3-го батальона, последней из которых командовал мемуарист.], последняя в полку; сзади меня шла кавалерия. Можно вообразить, что по песку в жар какая была пыль. Если бы на мне был красный мундир, и тот бы был бел. Слава богу, все прошло, и молодость вынесла все труды.
Мы тотчас пошли в Шато-Тьери, городок хороший, на реке Сене, близ Парижа. Корпус наш был 8-й, командовал им Сабанеев, и нас оставляли во Франции на пять лет – я пока и не думал ехать в Париж, полагая, что успею еще, да и нужен был товарищ, кто бы знал язык французский[53 - Напомним, что сам Андреев умел «читать и писать по-французски и по-немецки», т. е. владел языком, что называется, «со словарем».]. В ожидании поездки получили повеление немедля выходить в Россию, а вместо нас оставили корпус графа Воронова. Вот мои планы рушились. Я был в Риме и папы не видал, то есть был возле Парижа, а там не был. Потомство сказало бы, что я вандал; но обстоятельства все переменяют, а притом же без денег там скучно. Я имел 40 червонцев; думаю: сберегу и, придя в Россию, съезжу проведать батюшку, которого давно не видал. Я так и сделал: еще во Франции подал в отпуск, и по возвращении в Россию, когда мы квартировали на Волыни в Житомирской губернии, я получил отпуск…
Чрез короткое время, в ноябре, произвели нашего полковника Назимова в генералы, а шефы в армии еще во Франции уничтожены. К нам дали полкового командира Яковлева, служившего в армии графа Витгенштейна с 1812-го подпоручиком, а в 1815 году был он полковник. Я не хотел служить в пехоте, хотел в кавалерию; но трудно перейти; а из отставки можно было проситься в любой полк. Вот что меня понудило оставить военную службу 26 лет. Я подал в отставку и недолго ждал: меня уволили тем же чином, потому что я не дослужил года в штабс-капитанском чине. Дивизию нашу еще при мне назначили в Литовской корпус, под начальство цесаревича Константина Павловича. Я, прощаясь со службой, не думал, что навек не надену военного мундира. Когда дали мне отставку, то в приказах сказана Высочайшая воля, чтоб отставных офицеров не принимать в другие полки, как в те же, где они служили. Вот я оставил службу военную навек. После идти в тот же полк нельзя, потому что кто у меня был в команде, у того я бы должен быть, и товарищи мои чрез два года были майоры все. К тому же батюшке угодно было, чтоб я остался при нем: из пяти сыновей ни одного при нем не было. Что делать мне было иначе? Я вышел в отставку 1816 года, дома прожил до 1819-го, после выбрали меня в заседатели в Порховский Земский суд…
Федор Николаевич Глинка
(1786–1880)
Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год
Предуведомление
В 1817 году, когда мне довелось быть председателем известного в то время Литературного общества и, в чине полковника гвардии, членом Общества военных людей и редактором Военного журнала, посетили меня в один вечер (в квартире моей в доме Гвардейского штаба) Жуковский, Батюшков, Гнедич и Крылов. Василий Андреевич (Жуковский) первый завел разговор о моих Письмах русского офицера, заслуживших тогда особенное внимание всех слоев общества.
«Ваших писем, – говорил Жуковский, – нет возможности достать в лавках: все-де разошлись. При таком требовании публики необходимо новое издание. Тут, кстати, вы можете пересмотреть, дополнить, а иное (что схвачено второпях, на походе) и совсем, пожалуй, переписать. Теперь ведь уже уяснилось многое, что прежде казалось загадочным и темным».
Гнедич и Батюшков более или менее разделяли мнение Жуковского, и разговор продолжался. Крылов молчал и вслушивался, а наконец заговорил: «Нет! – сказал он, – не изменяйте ничего: как что есть, так тому и быть. Не дозволяйте себе ни притачиваний нового к старому, ни подделок, ни вставок: всякая вставка, как бы хитро ее ни спрятали, будет выглядывать новою заплатою на старом кафтане. Оставьте нетронутым все, что написалось у вас, где случилось, как пришлось… Оставьте в покое ваши походные строки, вылившиеся у бивачных огней и засыпанные, может быть, пеплом тех незабвенных биваков. Представьте историку изыскивать, дополнять и распространяться о том, чего вы, как фронтовой офицер, не могли ни знать, ни ведать! И поверьте, что позднейшим читателям и любопытно, и приятно будет найти у вас не сухое официальное изложение, а именно более или менее удачный отпечаток того, что и как виделось, мыслилось и чувствовалось в тот приснопамятный 1812-й год, когда вся Россия, вздрогнув, встала на ноги и с умилительным самоотвержением готова была на всякое пожертвование».
Ф. Глинка
Описание Отечественной войны 1812 года до изгнания неприятеля из России и переход за границу в 1813 году
Мая 10, 1812. Село Сутоки
Природа в полном цвете!.. Зеленеющие поля обещают самую богатую жатву. Все наслаждается жизнью. Не знаю, отчего сердце мое отказывается участвовать в общей радости творения. Оно не смеет развернуться, подобно листьям и цветам. Непонятное чувство, похожее на то, которое смущает нас перед сильною грозою, сжимает его. Предчувствие какого-то отдаленного несчастья меня пугает… Но, может быть, это мечты!.. «Недаром, – говорят простолюдины, – прошлого года так долго ходила в небесах невиданная звезда; недаром горели города, села, леса, и во многих местах земля выгорала: не к добру это все! Быть великой войне!» Эти добрые люди имеют свои замечания. В самом деле, мы живем в чудесном веке: природа и люди испытывают превратности необычайные. Теперь в «Ведомостях» только и пишут о страшных наводнениях, о трясении земли в разных странах, о дивных явлениях на небе. Мы читаем в Степенных книгах[54 - Степенные книги – свод исторических сведений о России от древнейших времен до Ивана Грозного, составленный в XVI веке.], что перед великим нашествием татар на Россию солнце и луна изменяли вид свой, и небо чудесными знамениями как бы предуведомляло землю о грядущем горе… Нельзя не согласиться с знаменитым Махиавелем[55 - Махиавель – Макиавелли Николо (1469–1527) – итальянский политический деятель и писатель.], что мыслящие умы так же легко предузнают различные приключения в судьбе царств и народов по известным обстоятельствам, как мореплаватели – затмение светил и прочее по своим исчислениям.
Известно, до какой степени маркиз Куева де Бедмар[56 - Маркиз Куева де Бедмар (1572–1655) – испанский дипломат, посол в Венгрии; описан французским аббатом и историком Сент-Реалем (1639–1692) в книге «История заговора испанцев против Венецианской республики в 1618 году» (1647 г.).], описанный Сент-Реалем, силен был в науке предузнавать!.. К чему, в самом деле, такое притечение войск к границам? К чему сам государь, оставив удовольствия столицы, поспешил туда разделять труды воинской жизни? – К чему, как не к войне!.. Но война эта должна быть необыкновенна, ужасна!.. Наполеон, разгромив большую часть Европы, стоит, как туча, и хмурится над Неманом. Он подобен бурной реке, надменной тысячью поглощенных источников; грудь русская есть плотина, удерживающая стремление, – прорвется – и наводнение будет неслыханно! – О, друг мой! Ужели бедствия нашествий повторятся в дни наши?.. Ужели покорение? Нет! Русские не выдадут земли своей! Если недостанет воинов, то всяк из нас будет одной рукой водить соху, а другой сражаться за Отечество!
Кого не мучит теперь любопытство, чтоб разгадать загадку будущего? – Я читаю славную Гедеонову[57 - Гедеон (ок. 1726–1763) – придворный священник при императрице Елисавете Петровне, славившийся своими проповедями.] проповедь на разрушение Лиссабона – и живо представляется воображению моему, как величавый муж сей в священных сумерках пространного храма, где голос его в таинственных отзывах повторяется, перед лицом императрицы Елисаветы, описывая бедствия колеблющейся природы и страшную гибель Лиссабона, смело укоряет блестящий сонм вельмож в отставлении праотеческих нравов, в неге и роскоши, которым предаются, и вдруг, устами боговдохновенного пророка, гласит им в последнее наставление сии священные слова: и когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. Прощай! Я иду в свой садик поливать цветы и слушать громкого соловья – пока это еще можно! «Жить невидимкой – значит быть счастливу!» – говорит славный философ Декарт. Еще раз: прощай!..
Федор Николаевич Глинка (1786–1880) – русский поэт, публицист, прозаик, офицер, участник декабристских обществ.
Портрет. XIX век
16 июля 1812 – Смоленск
Сейчас приехал я в Смоленск. Какое смятение распространилось в народе!.. Получили известие, что неприятель уже близ Орши. В самом деле, все корпуса, армию нашу составляющие, проходя различными путями к одной цели, соединились в чрезвычайно укрепленном лагере близ Дриссея[58 - Имеется в виду укрепленная позиция близ г. Дриссы на левом берегу Западной Двины.] и ожидали неприятеля. Полагали, что он непременно пойдет на то место, чтоб купить себе вход в древние пределы России ценой сражения с нашими войсками; ибо как отважиться завоевывать государство, не разбив его войск? Но дерзкий Наполеон, надеясь на неисчислимое воинство свое, ломится прямо в грудь Отечества нашего. Народ у нас не привык слышать о приближении неприятеля. Умы и души в страшном волнении. Уже потянулись длинные обозы; всякий разведывает, где безопаснее. Никто не хочет достаться в руки неприятелю. Кажется, в России, равно как и в Испании, будет он покорять только землю, а не людей…
17 июля. Смоленск
Мой друг! настают времена Минина и Пожарского! Везде гремит оружие, везде движутся люди! Дух народный после двухсотлетнего сна пробуждается, чуя угрозу военную. Губернский предводитель наш, майор Лесли, от лица всего дворянства испрашивал у государя позволения вооружить 20 000 ратников на собственный кошт владельцев. Государь с признательностью принял важную жертву сию. Находящиеся здесь войска и многочисленная артиллерия были обозреваемы самим государем. К ним, по высочайшему повелению, должны немедленно присоединиться идущие из Дорогобужа и других депо рекрутские батальоны. Уже передовой отряд, под начальством храброго генерала Оленина, выступил к Красному. Старый генерал Лесли, поспешно вооружив четырех сынов своих и несколько десятков ратников, послал их присоединиться к этому же отряду, чтоб быть впереди. Вчера принят Е.И.В. из отставки в службу Г.-М. Пассек и получил начальство над частью здешних войск. – Земское ополчение усердием дворян и содействием здешнего гражданского губернатора барона Аша со всевозможной скоростью образуется. Смоленск принимает вид военного города. Беспрестанно звенят колокольчики; скачут курьеры; провозят пленных или шпионов. Несколько польских губерний подняли знамя бунта. Недаром они твердили пословицу: «Слышит птичка весну». О заблуждение! Они думают воскреснуть среди всеобщего разрушения!.. Обстоятельства становятся бурны. Не знаю, буду ли с тобой видеться, но письменное сношение заменяет половину свидания, – так говорит персиянин Бек-али; я верю ему – и буду стараться к тебе писать. – Прощай!..
18 июля, 1812. Село Сутоки