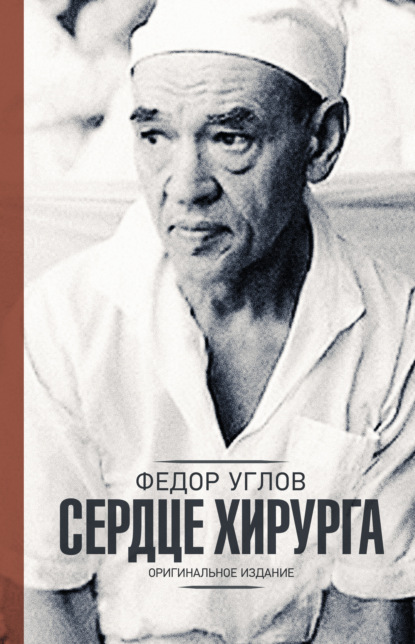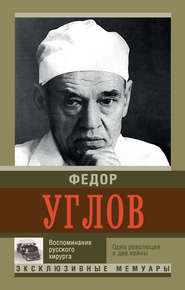По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сердце хирурга
Автор
Жанр
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На третьем году пребывания в Киренске мне пришлось срочно вылететь сначала в Иркутск, а затем в Ленинград. Единственным хирургом на всю округу остался мой ординатор – молодой, подававший надежды врач. За год работы в нашей больнице он неплохо освоил вопросы диагностики, стал делать довольно сложные операции до резекции желудка включительно, что по тому времени надо считать большим достижением. Я был доволен им и полагался на него.
В один из воскресных дней к нему издалека приехал товарищ, и они на радостях крепко выпили. А в этот момент позвонили из больницы: привезли женщину с «острым животом», состояние очень тяжелое, нужна немедленная операция. У ординатора хватило сил лишь на то, чтобы непослушным языком ответить: «Плохо себя чувствую, оперировать не смогу…» Встревоженный И. И. Исаков прибежал к нему на квартиру и, конечно, все понял. Пришлось ему вызвать гинеколога, Веру Михайловну, они вдвоем прооперировали женщину, у которой оказался гангренозный аппендицит. Операция спасла ее от смерти. Это был выходной день. Но хирург всегда на вахте: к нему могут обратиться, если не из больницы, то соседи, знакомые.
Общественность города была возмущена отказом хирурга оперировать, посчитав причину неуважительной, и вскоре ему пришлось подать заявление об уходе.
Я жалел тогда, что потерял толкового помощника, и думаю, что случившееся оставило у него незабываемый след… И в этом факте, разумеется, ярко проявилось отношение к врачу, в частности к хирургу… Но, предъявляя к нему самые высокие требования, общественность, по-моему, должна проявлять и большую заботу о нем, отвечающем за жизнь людей чуть ли не на каждом шагу. Здесь и материальные условия для хирурга, которые бы облегчили его бытовые нужды, дали ему возможность основное время отдавать своей сложной профессии, совершенствоваться в ней. Здесь и забота о его моральном состоянии, чтобы не тратил он нервы, как это бывает, на борьбу с чьей-то клеветой, придирками, даже травлей, чему нередко подвергаются способные хирурги. А ведь так, к сожалению, и бывает: чем талантливее хирург, чем смелее он в поисках и упорнее в своем желании облегчить человеческие страдания, тем больше всяких напраслин возводится на него. Тут и зависть бездарных, и желание иметь славу, ничем не заслужив ее. Да и просто чья-то враждебность, направленная на то, чтобы отнять у народа способного и полезного ему сына… Примеров всему этому бывало немало! Так или иначе, но мы действительно часто наблюдаем, как хирург, разрабатывающий какую-нибудь новую трудную проблему, порой бывает больше занят тем, что отбивается от всевозможных нападок, от злобных наветов, которые возводятся на него и которые – увы! – далеко не всегда получают быстрый отпор со стороны общественных организаций. А ведь в итоге вся эта нервотрепка сказывается на больных: у взвинченного человека нет твердости в руках, а скальпель любит только твердые, спокойные руки. Еще гениальный Н.И. Пирогов предупреждал: «…если хирург взволнован чем-то, что не имеет отношения к операции, он должен ее отложить. Это будет лучше для больного, так как хирург своим мастерством намного владеть перестает…» Выходит, бережное отношение к хирургу – это забота не столько о нем, сколько о больных людях!
Бесспорно, ведя речь о врачебном долге, мы отдаем себе отчет в том, что при необходимости чуть ли не каждый человек, особенно воспитанный в духе нашей советской морали, не посчитается ни с чем, чтобы оказать помощь другому. Но ведь такая необходимость бывает не ежедневно, она как случай, в то время как настоящий врач сам по себе всегда «скорая помощь». Его из постели поднимают, и он бежит к больному, и неизвестно, когда теперь сам заснет… Правильно говорил В. В. Вересаев: «…Для обычного среднего человека доброе дело есть нечто экстраординарное и очень редкое; для среднего врача оно совершенно обычно».
Особенно тяжел труд хирурга на периферии, где он – единственный специалист на целый населенный район, иногда слишком большой, по территории не уступающий какому-либо маленькому государству. Так в Киренске приходилось быть круглосуточным дежурным, даже круглогодовым! К нам редко обращались с незначительными травмами: если уж доставили, значит, серьезная опасность для жизни человека, нужно без промедления вступать в бой за него.
Вспоминаю Анкундинова Прохора, в те годы лучшего охотника-медвежатника в наших краях. Когда он из деревни приезжал в Киренск, шел улицами, громадный, сам как медведь, с лицом, обросшим густыми рыжими волосами, с рогатиной и ружьем за спиной да большим ножом на поясе, чуть ли не все выходили из домов смотреть на него, и лестно было тем, с кем он здоровался. Каждый – и стар, и млад – знал, что в свои сорок лет взял он в схватках тридцать девять медведей и искал встречи с сороковым. «Для ровного счету», – коротко пояснял Прохор.
Однажды он пошел на охоту, а за ним увязался Дмитрий Пушляков, болтливый, пустой мужичишка, который в деревне или когда выезжал на базар, приставал ко всем с одной и той же похвальбой: «А давай на спор – четверть водки без закуски выпью!» И хотя сам Прохор временами лихо прикладывался к рюмке, но этого пустомелю не уважал и с собой в тайгу взял скрепя сердце, потому что у нас не принято отказывать кому-либо в компании.
Еще и тайга-то как следует не раскрылась перед ними, от деревни не успели отойти, шли, не осторожничая, Прохор впереди, Митяй за ним, как произошло то, что Анкундинов впоследствии даже объяснить толком не мог. Споткнулся он о корягу, упал, а когда попытался встать, на нем сидел уже матерый медведь. Вывернулся из-под него Прохор и увидел перед собой смрадную раскрытую пасть зверя, почувствовав, что сейчас рванет тот его за плечо, уловчился своей могучей рукой схватить хозяина тайги за ухо, оттянуть клыкастую морду от себя. Но на плече все же осталась кровавая отметина.
Огромной силой обладал Прохор, и, наверно, удесятерилась она в момент смертельной опасности. Железной хваткой держал он ухо медведя, отворачивая его косматую морду от своего лица, другой рукой защищался от когтистых лап. Все же медведю удалось зажать Прохора в объятьях, но тот по-прежнему оттягивал за ухо морду зверя, не давая себя укусить. Медленно двигались они, натыкаясь на пеньки, не желая в грозном единоборстве уступить один другому. Надеялся Прохор, что вот сейчас Митяй подскочит, всадит косолапому заряд – и дело будет кончено… Но Митяя след простыл: бросился он бежать в деревню и с криком: «Там! Там! Медведь!..» – нырнул в подполье. Ведром холодной воды окатили его мужики, чтобы привести в чувство, узнать, что с Прохором. Схватив ружье, помчались на лошадях к месту поединка, уже не рассчитывая застать охотника в живых.
Страшную картину увидели они. На тропе топтались большой лохматый медведь и окровавленный, в располосованной одежде Прохор, ощеренная в злобном оскале морда медведя была свернута Прохором набок – так и продолжал он ее удерживать. Племянник Прохора Егор подошел вплотную к ним и выстрелил в зверя. Тот, взревев, повалился на землю, увлекая за собой охотника, и судорожным движением лапы, впившись когтями в затылок Прохора, содрал ему всю кожу на голове, натянув ее, как чулок, на лицо.
Оба противника лежали на земле: медведь мертвый, а человек – неизвестно какой… Ничего не могли понять родные и земляки Прохора: вместо головы у него окровавленный шар, нет на нем ни лица, ни затылка – сплошная кровоточащая рана! Послушали – сердце бьется! Закутали истерзанную голову Прохора исподними рубахами и, не теряя времени, помчали его на лошадях в больницу, благо до Киренска от того места было верст семь – девять… Я вел амбулаторный прием больных, когда мне доложили, что привезли человека, которому «медведь голову откусил».
Размотав с головы Прохора рубахи, я содрогнулся: кожа, начиная с затылка, оторванная от спины, была вывернута на лицо, закрыла его до рта. Края раны были рваные, мятые, все в запекшейся крови, и хорошо еще, что кровотечение из крупных сосудов уже приостановилось. К счастью, медведь не нанес Прохору повреждений жизненно важных органов, но у него были тяжелый шок и огромная встряска всей нервной системы – на грани катастрофы. Он никак не приходил в сознание – пульс был нитевидный, и мы боялись худшего.
Несколько часов ушло на то, чтобы поддержать в Прохоре еле теплившуюся жизнь: вводили морфий, обезболивающий раствор в рану, противошоковый раствор, переливали кровь. Эффекта почти никакого! Узнав от родственников, что Прохор, хотя пил редко, но крепко, хмель на него долго не действовал, я сказал Дусе Антипиной, чтобы она приготовила раствор сорокапроцентной глюкозы с десятипроцентным спиртом. Влили ему внутривенно пятьдесят кубиков, и тут же с облегчением заметили улучшение пульса. Вскоре поднялось кровяное давление. Снова стали переливать кровь, а через два часа опять ввели раствор глюкозы со спиртом – и медленно, постепенно давление стало выравниваться, появились рефлексы, первые признаки восстанавливающегося сознания.
Только после того как давление пришло в норму, мы осторожно, чтобы еще раз не вызвать шока, тщательно все обезболили, обработали и, вывернув обратно скальп, ушили рану. Теперь главной задачей было – справиться с нервным потрясением, вернуть Прохора к нормальным представлениям о жизни.
Несколько дней Прохор ничего не видел, но вскоре зрение восстановилось. Только был охотник все время мрачен и о чем-то часто задумывался… Через шесть недель мы его выписали. После мне рассказывали, что как только Прохор переступил порог своей избы, он снял со стены ружье и побежал к дому Дмитрия Пушлякова. Но тот уже знал, как трагично для него может окончиться встреча с тем, кого он бессовестно предал в минуту опасности, и заблаговременно скрылся куда-то, пропадал в бегах больше месяца. За это время родные того и другого уговорили Прохора не убивать Митяя, не сиротить его детей, не брать на душу грех. Отошло сердце у охотника, и ограничился он лишь тем, что в козырной праздник при всем честном народе набил Митяю морду и при всех заказал собственным детям никогда не водить дружбу ни с кем из рода Пушляковых…
Ко мне Прохор пришел через несколько месяцев. Ничего подозрительного в его состоянии я не обнаружил. Сказал ему на прощание:
– Ну что ж, крестник, возьмешь меня с собой на медведя? Никогда не ходил, хоть посмотрю!
Прохор поерзал на стуле, отвернулся, стал в окно смотреть и ответил – чувствовал я – с душевным волнением:
– Хоть обижайся, доктор, а такая теперь судьба у меня – ходить на зверя токмо в одиночку. Я тебе, если скажешь, живого его сюда приведу, но в тайгу, прости, не возьму…
Знаю, что Прохор Анкундинов жил долго, до последних дней охотился и с того памятного для него сорокового медведя увеличил их счет вдвое, но, говорили, оставался нелюдимым, в деревне его теперь видели лишь по престольным дням – не выходил из тайги…
Приблизительно в то же время был другой, закрепившийся в памяти случай с больным по фамилии Жиганов.
После нескольких трудных, затянувшихся операций я в три часа, не успев забежать домой пообедать, направился на другой конец города, в поликлинику, где вел консультативный прием хирургических больных. Их было очень много, я извинился за опоздание и, как только вошел первый пациент, с этого момента уже на целых четыре часа не знал передышки: осматривал, давал советы, писал назначения, делал амбулаторные операции… Когда же в семь вечера наконец карточки больных на моем столе иссякли, я снял халат и вышел в коридор с мыслью, что невыносимо хочется есть, нужно бежать домой. И вдруг увидел полулежащего на деревянном диванчике человека. Все мышцы его серого, без кровинки лица, казавшегося безжизненным, были напряжены, нос обострился. Я как взглянул на него, сразу же подумал: «лицо Гиппократа!» Так называют своеобразное выражение лица у больных с воспалением брюшины. И хоть до этого мне не приходилось видеть такое маскообразное лицо, в учебниках оно очень хорошо описывалось: я не сомневался в диагнозе.
Осторожно ввел больного в кабинет, потрогал его живот – он был твердый, как доска. Разлитой перитонит.
Жиганов кратко, прерывающимся голосом рассказал историю своей болезни. В нем уже чувствовалось то безразличие, в которое впадают больные перед концом…
Он живет в деревне Подкаменке, что в сорока километрах от Киренска вниз по Лене. Давно страдает болями в верхней части живота, усиливающимися при приеме пищи. В последнюю неделю боли стали особенно резкими, что и заставило его поехать к врачу. Добрался до Киренска на попутной подводе, на санях, к вечеру, на прием к врачу уже опоздал и пошел ночевать к знакомым за два километра от города, в деревню Мельничная. Перед рассветом, часа в три, почувствовал резкую внезапную боль – «как ножом пырнули» (я про себя отметил: характерный симптом при прободной язве желудка – кинжальная боль). Знакомые сбегали за «знающим человеком»: тот поставил на живот горшок, мял и давил живот, с помощью других ставил больного вниз головой, а ногами вверх и «потрясывал»… Ничего не помогло. Да и как могло помочь! Ведь делали все так, чтобы разнести инфекцию по всей брюшной полости. Слушая Жиганова, я не знал, чему больше удивляться: терпению этого человека, который все стоически переносил, или невежеству тех, кто брался его лечить, ничего не смысля в этом. А поведение больного, его поистине невероятная выдержка с медицинской точки зрения были трудно объяснимы. Вот что происходило дальше.
Утром Жиганов, испытывая сильную боль в животе, пешком направился в больницу. Отдыхал через каждые пять – десять шагов и пришел туда уже после трех часов. В больнице дежурная сестра, прошедшая подготовку лишь на трехмесячных рокковских курсах, даже не взглянула на него, бросила небрежно на ходу, что хирурга нет, он в амбулатории, и если больному нужно, пусть идет туда… И он опять пошел! Через весь город! Если бы я не видел перед собой Жиганова, навряд ли поверил бы в такое: как он мог идти с разлитым перитонитом?! Еще почти четыре часа на ногах, в ходьбе!
Операция, благодаря срочно принятым мерам, началась около девяти часов вечера, спустя восемнадцать часов после прободения. Известно, что при прободной язве желудка результаты операции находятся в прямой связи со временем, прошедшим после прободения. Если операция сделана в первые шесть часов, смертность колеблется в пределах десяти – двенадцати процентов. При операции в первые двенадцать часов – смертность около пятидесяти процентов. Если же операция производится через сутки – почти все больные погибают. Так что операция через восемнадцать часов – это на грани возможного. Тем более, что больному, вместо того, чтобы предоставить покой, делали всевозможные дикие манипуляции на животе, ему пришлось много ходить…
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: