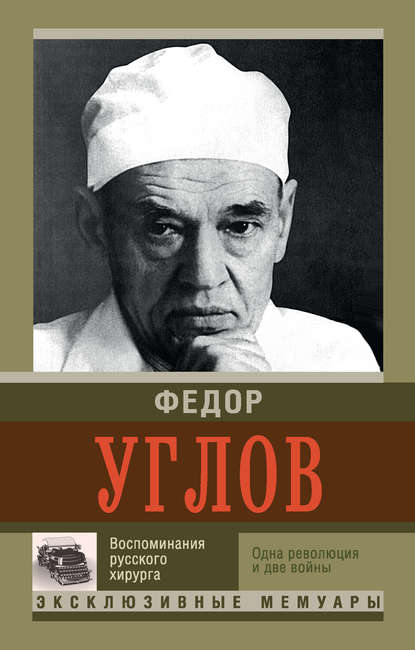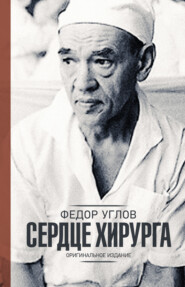По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воспоминание русского хирурга. Одна революция и две войны
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он замолкает, тень нелегких воспоминаний набегает на его лицо.
– Папа, – спрашиваю я, – а как у тебя все это было?
И детское воображение уже рисует картину: под низким хмурым небом по чавкающей осенней дороге бредут закованные в цепи арестанты, их мочит дождь, ошметья грязи из-под копыт казачьих коней летят им в лица, и нет конца этому печальному пути, и вот уже кто-то из несчастных со стоном валится на холодную землю…
Семнадцатилетним юношей несколько месяцев брел по этапу мой отец.
Родился он в 1870 году, в семье потомственного пролетария, рабочего нижнесалдинских заводов (Нижне-Тагильский округ Пермской губернии) Гаврилы Тимофеевича Углова. Заработок у Гаврилы Тимофеевича был ничтожный, а семья большая, и старшие дети – дочери, которых на завод не устроишь… Поэтому сын Гриша на одиннадцатом году пришел в заводской цех.
Четыре класса приходского училища (образование, которым в ту пору мог похвастаться редкий из рабочих), природный ум, бойкий характер способствовали тому, что мальчик в четырнадцать лет уже был умелым слесарем и токарем по металлу. А это определило к нему и отношение взрослых товарищей – вместе с ними он участвовал в тайных собраниях, где под руководством исключенного из университета за революционную деятельность студента читалась запрещенная литература, обсуждались меры борьбы с предпринимателями…
Так продолжалось до тех пор, пока в рабочей среде не оказался провокатор. И самое обидное, что предал всех человек, которого и подозревать-то не могли, – из пролетарской семьи. Он сразу же получил повышение по работе, открыто похвалялся своими «успехами». А у Григория Углова, у всех других провели обыски и тут же уволили с завода с «волчьим билетом».
Григорий Углов, темпераментный по натуре человек, забияка, участник слободских драк, вместе с другими подкараулил провокатора, и они хорошенько проучили его. И хотя драки в слободе – явление привычное, дня без них не обходилось, в этом случае полиция вмешалась живо. Делу придали политическую окраску, состоялся скорый суд: ребят осудили на вечное поселение в Восточную Сибирь. Вначале острог, а потом и этап – под конвоем, в одной связке с уголовниками, убийцами, клеймеными разбойниками…
Здесь, в Сибири, отцу было разрешено жить в районе между Качугом и Витимом. Долго он скитался в поисках работы, кормился тем, что чинил по деревням посуду, нанимался пасти лошадей, помогал местным жителям в уборке урожая, а в длинные зимние вечера, когда на улице трещал жестокий мороз, становился даже сказочником – за умение живо, увлекательно и весело рассказывать получал кусок хлеба и возможность переночевать в тепле. Тут, конечно, выручала давняя привязанность к книгам, в рассказах был удивительный сплав когда-то вычитанного и приукрашенного собственной буйной фантазией…
Скитания продолжались до тех пор, пока не подвернулась удача: взяли масленщиком на пароход «Каролонец». Пароход, принадлежащий богатому судовладельцу, курсировал по широкой, неоглядной Лене. Теперь были постоянная работа и твердый заработок. А главное, пароход – это машина, механизм, это железо, то, по чему скучали руки отца – заводского человека. Летом – в плавании, а зимой, когда «Каролонец» стоял в затоне, Григорий Гаврилович Углов удивлял всех в мастерской умением исполнить любую, самую тонкую слесарную и токарную работу.
Осенью 1889 года «Каролонец» с большим грузом вышел из Витима. Внезапно начались ранние жестокие морозы, по реке навстречу плыла шуга, плицы колес, ударяясь о льдины, ломались, приходилось их чинить в ледяной воде. Ход был медленный, а всем – капитану, механику, матросам – хотелось дойти до Киренска, где жили родные. Но усилившиеся холода остановили реку, заковали ее в ледовый панцирь – помятый, ободранный пароход с большим трудом пробился к пристани Бабошино. До Киренска оставалось пятьдесят пять непреодолимых километров.
Пришлось зимовать в Бабошино. «Каролонец» поставили на прочные балки, ремонтировали, заменяли пришедшие в негодность части, красили… Хотя и долгим был рабочий день, но молодость брала свое, – при первой возможности, особенно по воскресеньям, Григорий Углов с дружками уходил на гулянье в соседнюю деревню Чугуево.
Вот тут-то я и должен перейти к рассказу о своей матери, сыновнюю любовь и большое уважение к которой не стерли годы.
А рассказ о матери необходимо начать с далеких дней, на событиях которых – отсвет самой русской истории…
* * *
По реке Лене, дивясь ее простору и дремучей красоте таежных берегов, плыли на лодке три плечистых синеглазых и русоволосых брата Бабошиных: старший – Афанасий, средний – Иван, младший – Егор. В поисках лучшей крестьянской доли добрались они сюда из полунищей степной России… Во время ночных стоянок дикие звери непугано ходили вокруг их костра, а братья, еще боясь поверить в свое счастье, подбадривали друг дружку: тут не пропадем, тут жить можно!
Плыли неспешно, приглядываясь, где бы поселиться навсегда, чтобы не только для охоты раздолье нашлось, чтоб хлеб сеять можно было.
Осенью добрались до Киренска. Тут, в четырех верстах, закладывалась деревня Хабарово. Бабошины, мастера на все руки, решив подкопить деньжат, нанялись рубить, ставить и отделывать избы, и зазимовали здесь. Когда прошумел ледоход, собрались в путь-дорогу, но средний, Иван, заупрямился: крепко держала парня местная красавица. Старший и младший, ругая и жалея Ивана, отплыли вдвоем…
Скоро ль, долго ль плыли, но однажды достигли такого места, которое очень им приглянулось. Небольшая быстрая речушка впадала в Лену, рядом голубело озерцо, где воду копить можно, а кругом нетронутый лес. Братья видели: мельницу поставить – лучше не найдешь места.
По речке жили тунгусы, промышлявшие охотой. Бабошины пошли к ним с поклоном – проситься в соседи.
В большом чуме собрались старики – сидели на оленьих шкурах, важно курили трубки с длинными тонкими мундштуками, смотрели на двух рослых молодых русских мужиков.
– Однако, зачем пришли сюда? Для чего просили собрать старейшин?
– В соседи желаем.
– Однако, что делать будете? Охотой не проживете, надо в тайгу далеко ходить, вы не умеете. А земли – хлеб сеять – нет. Мы зерно охотой зарабатываем, меняем… а вы что?
– А мы хлеб будем мельницей зарабатывать. Построим водяную мельницу, молоть станем – у хлеба без хлеба не останемся.
– Это какая такая мельница?
Тунгусы непонимающе переглядывались, братья – как могли, словами и жестами, – объяснили. Тунгусы наконец поняли, заулыбались, возбужденно заговорили на своем языке. Старшина сказал:
– Польза от вас, однако, есть. Оставайтесь. Будем давать наш хлеб молоть. Руками зерно мелем-мелем, долго, однако! На охоту ходить некогда…
И вскоре потянулись подводы с мешками к Бабошиным, или – как говорили местные – на Бабошиху. Так назвали мельницу, речку тоже стали звать Бабошихой, а когда по Лене пошли пароходы, другого имени для пристани не искали: Бабошино.
Так мои прапрадеды (по материнской линии) закрепили в Сибири свою фамилию.
А деда моего – уже внука старшего из Бабошиных, Афанасия, – звали Николаем Петровичем. Он рано остался вдовцом, с двумя малолетними детьми на руках – трехлетним Ефимом и двухлетней Настасьей, моей матерью.
До конца дней своих горевал дед по жене – Варваре Семеновне, и вся любовь тоскующей души была направлена на детей. Из-за них он не женился снова, попросил лишь своего брата Осипа, чтобы днем, когда занят работой, Ефим и Настенька находились бы под присмотром в братниной семье. Несмотря на уговоры Осипа и его жены, он каждый вечер, как бы поздно ни возвращался с поля или из леса, уносил на руках спящих детей в родной дом, говоря, что без них ему света нет.
Хотя и не знал Николай Петрович Бабошин грамоты, но человек был любознательный, впечатлительный – хотел он видеть дальше того, что окружало его, и поэтому в доме деда часто находили приют ссыльные, особенно политические. Совестливый, он ни в каких делах не шел на обман, на хитрость, и, как ни тянулся изо всех сил, сколько ни работал – бедность не отступала. Забегая вперед, скажу, что «по наследству» перешла она и к сыну, Ефиму. Рано возмужавший в тяжелом крестьянском труде, что только ни делал он, чтобы выбиться из нищеты, даже уходил золото мыть на Бодайбинские прииски, но призрачная мечта о сытой жизни так и оставалась мечтой…
А Настенька, на которую отец молиться был готов, как две капли воды походила на свою покойную матушку. Уже с двенадцати лет девочка самостоятельно вела весь дом. Отец с Ефимом уходили корчевать пни, чтобы хоть добавочный кусок пашни отвоевать у тайги, а проворные руки Настеньки то на огороде мелькают, то в хлеву у коровы, то обед она стряпает, пол моет, белье штопает… Останавливавшиеся в доме ссыльные удивлялись: такая маленькая, ребенок еще, и столько у нее забот, и поиграть-то с ровесниками некогда, жалко девочку! Некоторые из них, находившие тут приют и ласковое слово в трудную для себя пору, надолго задерживались, помогая Настеньке, как могли.
Впоследствии мать рассказывала нам про одного из таких – про каторжника Каллистрата.
Двадцать пять лет провел Каллистрат в сыром подземном руднике, прикованный цепью к тачке. Когда пришло желанное освобождение, не мог он уже выпрямиться в полный рост, не разгибались у него и пальцы на руках. Зайдя в ненастный день обогреться, он так и остался в доме Бабошиных навсегда, стал в семье своим человеком. И мать, вспоминая его, говорила: «Каторжником Каллистратушку называли, а добрее человека трудно было сыскать!» Несмотря на искалеченную жизнь, на болезни, он сохранил ясность души, способность к доброй шутке… Зайдут к повзрослевшей Насте подруги или знакомые ребята, а Каллистрат на глазах у них вдруг вытаскивает из Настиной постели сучковатое полено, говорит: «Капризная царевна заснуть не могла, когда ей под перину горошинку положили, а наша Настенька сегодня на бревне распрекрасно выспалась!» И заливается при этом веселым добродушным смехом, и всем другим весело…
Когда я слушал рассказы матери и отца про людей, подобных Каллистрату, зарождалось во мне желание пристальнее вглядеться в своих земляков, с невольным восхищением думал я о сильном и терпеливом русском человеке, достоинство и доброту которого не могут вытравить никакие невзгоды, самые тяжкие испытания.
С тех пор помнится мне одно стихотворение, неизвестно кем написанное, сложенное, возможно, в народной среде, – о характере истинного сибиряка. При всей непритязательности, внешней простоте этих строк, в них, по-моему, очень верно подмечены и как бы сконцентрированы те душевные и деловые качества, что отличают русского человека:
Смелость, сметливость, повадка
Ездить по стране,
Чистоплотность, ум, приглядка
К новой стороне.
Горделивость, мысли здравость,
Юмор, жажда прав,
Добродушная лукавость,
Развеселый нрав.
Политичность дипломата
В речи при чужом.
Откровенность, вольность брата
С истым земляком.
Страсть горячая к природе
От степей до гор,
Дух, стремящийся к свободе,
Любящий простор,
Поиск дела, жажда света.
Знать: да что? да как?
Стойкость, сердце золотое!
Вот наш сибиряк!
И это – умение с достоинством встретить и вынести любую напасть, желание помочь другим, охота к труду – были в нашей матери. Однако я, кажется, тороплюсь – нужно вернуться к тем дням, когда в деревне, под отцовской крышей, жила работящая, умная девушка Настенька. Впрочем, уже тогда, в семнадцать своих лет, за прилежность, скромность, за то, что с детского сиротского возраста, не жалуясь, а с улыбкой, самостоятельно вела она хозяйство, деревенские величали ее почтительно: Настасьей Николаевной. Даже на молодежных вечеринках парни обращались к ней по имени-отчеству.