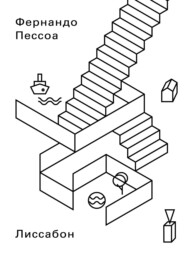По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Книга непокоя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вот, передо мной две большие страницы тяжелой книги; я поднимаюсь из-за старого письменного стола с усталыми глазами и еще более усталой душой. Взгляду не представляется ничего, кроме сущих пустяков: склад, тянущийся до улицы Золотильщиков, ряд аккуратных полок, аккуратные служащие, человеческий порядок и заурядный покой. Из окна доносится разнообразный шум, и этот шум так же зауряден, как и покой, какой царит возле полок. Новыми глазами смотрю на две белые страницы, на которых мои старательные числа представили результаты деятельности человеческого сообщества. И с улыбкой, заметной лишь мне самому, вспоминаю, что жизнь, в которой есть эти страницы с названиями земельных владений и денежными суммами, с их пробелами, и прямыми линиями, и каллиграфией, – включает в себя также знаменитых мореплавателей, великих святых, поэтов всех веков, – и все они нигде не записаны, множество ярчайших личностей, тех, кого вытолкнули в забвение сильные мира сего.
В регистрационной записи, касающейся какой-то неизвестной мне ткани, открываются долина Инда и ворота Самарканда, и поэзия Персии, неизвестно откуда пришедшая, слагает из своих четверостиший далекую опору моему непокою. Но я не ошибаюсь, пишу, подвожу итоги, и написанное выходит аккуратно и точно из-под пера служащего этой конторы.
Я прошу так немного у жизни, но и в этом немногом она мне отказывает. Луч солнца, поле неподалеку, глоток покоя и кусок хлеба – вот меня уже и не огорчает мое существование, вот я и не требую ничего от окружающих, только бы и они не требовали от меня ничего. Но и в этом малом было мне отказано, словно кто-то не подал милостыню не со зла, а только от нежелания расстегивать пиджак, чтобы достать мелочь.
Пишу, печальный, в моей спокойной комнате, одинокий, каким всегда был, есть и буду. И думаю, не воплощает ли мой голос, кажущийся таким слабым и ничтожным, субстанцию тысяч голосов, неудержимую жажду высказать себя тысяч жизней, терпение миллионов душ, покорных, как и моя, этой повседневной участи, этому бесполезному мечтанию, этой безнадежной надежде. И эта мысль заставляет мое сердце биться сильнее. Жизнь моя становится в эти минуты интенсивнее, подпитываясь энергией других жизней. Я чувствую в себе силу веры, во мне рождается подобие молитвы, подобие мольбы. Но вскоре мне приходится упасть на грешную землю… И снова я вижу себя на пятом этаже над улицей Золотильщиков; ощущаю сонливость; вижу поверх наполовину исписанного листа бумаги свою некрасивую руку и дешевую сигарету, которую машинально держу левой рукой над старой промокательной бумагой.
И здесь, на этом пятом этаже, я вопрошаю жизнь! говорю о том, что чувствуют души! продуцирую идеи, подобно мудрецам, гениям! Вот так!..
Сегодня, в одном из этих неопределенных мечтаний, подобного многим, какие составляют большую часть моей духовной жизни, я вообразил себя навсегда свободным от улицы Золотильщиков, от патрона Вашкеша, от бухгалтера Морейры, от всех служащих, от посыльного, от мальчика и от кошки. Я чувствовал так явственно свою свободу, будто приливы южных морей мне уже обещали чудесные острова, которые я должен открыть. Тогда меня ждали бы отдых, свободное творчество, интеллектуальное самовыражение.
Но внезапно, а мечтал я в одной из кофеен, во время скромного полуденного отдыха, в мое воображение ворвался какой-то диссонанс и разрушил мечтание: я почувствовал, что мне жаль чего-то. Да, говорю со всей откровенностью, я почувствовал боль, как от потери. Патрон Вашкеш, бухгалтер Морейра, кассир Боржеш, остальные – служащие, веселый парнишка, который носит письма на почту, мальчик на побегушках, ласковый кот – все они стали частью моей жизни; я не мог всех их оставить без боли, без понимания, что каким бы пустым и ничтожным все это ни казалось мне, часть меня останется с ними, отделение от всего этого есть разделение меня самого, есть подобие моей смерти.
Иначе говоря, если бы завтра меня отделили от всех этих людей и освободили от всего, связанного с улицей Золотильщиков, что? вместо этого пришло бы ко мне? почему нечто другое должно было появиться в моей жизни? в какие иные одежды я облачился бы – разве кто-то должен подарить мне другие одежды? Все мы имеем патрона Вашкеша, но для одних он видим, для других – нет. Что до меня, он действительно зовется Вашкешем, это достаточно здоровый мужчина, приятный, порой грубый, но не злопамятный, эгоистичный, но в душе справедливый, отличающийся честностью, которой недостает многим гениям и многим всемирно прославленным людям. Пусть другие будут тщеславнее, будут желать богатства, славы, бессмертия… Я предпочитаю Вашкеша, моего патрона, более искреннего и приветливого в трудные часы, чем все абстрактные патроны в мире.
Один мой знакомый, компаньон преуспевающей коммерческой фирмы, сказал как-то, считая, что я получаю мало: «Тебя эксплуатируют, Суареш». Сейчас мне это припомнилось; однако разве не все мы в этой жизни являемся эксплуатируемыми, так не лучше ли быть эксплуатируемым Вашкешем, продающим земельные угодья, чем быть угнетаемым высокомерием, славой, досадой, завистью или невозможностью? Есть и такие, кого «эксплуатирует» сам Бог, это пророки и святые в пустыне мира.
Я выбираю для себя в качестве домашнего очага, который есть у других, этот чужой дом, эту просторную контору на улице Золотильщиков. Я укрываюсь за моим письменным столом, как будто он является бастионом, защитой от жизни. Чувствую нежность, нежность до слез, к моим книгам, в которые заношу заключенные контракты, к старой чернильнице, к сгорбленной спине Сержиу, оформляющего накладные для посылок немного в стороне от меня. Я люблю все это, возможно, потому, что мне нечего больше любить, а, может быть, оттого, что ничто по-настоящему не заслуживает любви, и если уж есть потребность отдать свое чувство кому-то или чему-то, не все ли равно: отдать любовь старой чернильнице или холодному безразличию звезд над нами.
Патрон Вашкеш. Замечаю неоднократно, что он меня необъяснимым образом гипнотизирует. Что? для меня этот мужчина, по случайному обстоятельству ставший хозяином моих часов в дневное время моей жизни? Он хорошо обходится со мной, вежливо разговаривает, кроме тех моментов, когда, беспокоясь о чем-то нам неизвестном, становится груб со всеми. Да, но почему я думаю о нем? Он для меня какой-то символ? Какой-то довод, основание? Что? он для меня?
Патрон Вашкеш. Вспоминаю о нем с тоской уже сейчас, как бы в будущем, когда я буду тосковать о нем, я это знаю. Живя в тишине в маленьком домике на окраине, наслаждаясь покоем, где я не буду трудиться над творением, над каким не тружусь сейчас, я буду бесконечно искать прощения у тех, кем сегодня пренебрегаю. Или буду жить в богадельне, счастливый полным поражением, потерявшийся среди сброда, среди тех, кто считался гениями, но были они не более чем нищими мечтателями, среди безымянной толпы тех, кто не имел ни власти, чтобы побеждать, ни воли к самоотречению, чтобы победить другим способом. Знаю, где бы я ни был, я буду с тоской вспоминать патрона Вашкеша, контору на улице Золотильщиков; монотонная повседневность жизни будет для меня воспоминанием о любви, которая не случилась, или о победах, которые не были моими.
Патрон Вашкеш. Вижу его оттуда, из будущего, как вижу его самого сейчас, передо мной – среднего роста, коренастого, грубоватого до известных пределов, открытого и хитрого, резкого и приветливого – хозяина, кем он стал благодаря его деньгам, с волосатыми руками, двигающимися медленно, с венами, напоминающими маленькие окрашенные мускулы, с мясистой, но не толстой шеей, со щеками, румяными и тугими, с заметной темной бородкой, всегда сбритой вовремя. Вижу его, вижу его жесты, энергично медлительные, его глаза, вбирающие в себя внешнее, чтобы обдумать его, снова расстраиваюсь, как в тех случаях, когда он мною недоволен, и до глубины души радуюсь его улыбке, широкой и очень человечной, чем-то напоминающей рукоплескания целой толпы.
Думаю, это происходит по той причине, что в моем окружении нет более заметной фигуры, чем патрон Вашкеш, что много раз эта самая обыкновенная личность не выходила у меня из головы и выводила меня из равновесия. Верю, что это какой-то символ. Верю, что где-то, в какой-то давней жизни, этот человек был значительно более важной персоной в моей жизни, чем сейчас.
Ах, я понимаю! Патрон Вашкеш – это сама Жизнь. Жизнь – монотонная и необходимая, властная и непознаваемая. Этот вполне заурядный человек представляет собой банальность Жизни. Он является всем для меня, что приходит извне, потому что Жизнь – все, что находится вне меня.
А если контора на улице Золотильщиков символизирует для меня Жизнь, то мой третий этаж, где я живу, на той же улице, символизирует для меня Искусство. Да, Искусство, которое живет на одной улице с Жизнью, но в совершенно другом месте, Искусство, которое приносит утешение жизни, но не приносит облегчения живущему, искусство, которое так же монотонно, как и сама жизнь, только по-другому – «в другом месте». Да, эта улица Золотильщиков заключает в себе для меня весь смысл вещей, разрешение всех загадок, кроме тех, что не имеют разгадки.
Да, вот такой я и есть, ничтожный и чувствительный, способный на побуждения сильные и захватывающие, хорошие и плохие, благородные и низкие, но не способный на чувство сохраняющееся, на эмоцию, длящуюся во времени и проникающую в самую глубину души. Во мне живет стремление к постоянной перемене объектов внимания, какое-то нетерпение, присущее самой душе, ее можно сравнить с легкомысленным ребенком; беспокойство, постоянно возрастающее и всегда то же самое. Все меня интересует, но ничто не привязывает. Внимаю всему, пребывая в состоянии, близком к трансу; отмечаю мельчайшие мимические изменения лица собеседника, бережно собираю тончайшие модуляции его голоса, интонации, передающие оттенки настроений и отношений; но, слушая его, не слышу, думая при этом о другом, и главный предмет беседы, таким образом, остается на периферии моего внимания, равно как и смысл сказанного мною и моим партнером остается практически почти вне поля моего зрения. Поэтому я часто повторяю собеседнику то, что уже говорил ему неоднократно, снова задаю ему вопросы, на которые он уже отвечал; зато могу описать фотографически точно и кратко выражение его лица в то время, когда он говорил мне что-то, чего уже не помню, или особую готовность воспринять мои слова в глазах слушателя, хотя уже не скажу, о чем именно я тогда ему сообщал. Во мне живут два человека, и оба держат дистанцию – сиамские близнецы, разделенные и уже не соприкасающиеся друг с другом.
Литания
Мы никогда не реализуем себя.
Мы – две бездны – колодец, созерцающий Небо.
Завидую – но сам не знаю, завидую ли – тем, чью биографию можно написать, или тем, кто может написать собственную. В этих бессвязных впечатлениях я и не ищу связи, рассказывая беспристрастно собственную биографию, лишенную фактов, свою историю жизни, лишенную жизни. Это моя Исповедь и, если я в ней ничего не говорю, значит, рассказывать нечего.
В чем может признаться кто-либо, что могло бы быть ценным, полезным? То, что с нами произошло, или происходит со всеми людьми, или произошло только с нами; в одном случае это не новость, в другом – это непонятно. Если я пишу о том, что чувствую, то только потому, что таким образом ослабляю лихорадочное желание чувствовать. То, в чем я исповедуюсь, не имеет значения, поскольку ничего не имеет значения. Я творю пейзажи из собственных ощущений. Устраиваю себе отдых в ощущениях. Хорошо понимаю тех, кто, стремясь отогнать печаль, вышивает, вяжет, плетет кружево, потому что это – жизнь. Моя старая тетя раскладывала пасьянс бесконечными вечерами. Эта исповедь впечатлений – мой пасьянс. Не пытаюсь истолковать эти ощущения, как бы это делал тот, кто использует карты, чтобы узнать судьбу. Не ощупываю их, ведь в пасьянсе карты, собственно, не имеют значения. Разматываю себя, как разноцветный моток ниток, или сплетаю из себя самого веревочные фигурки, такие же, как те, что плетутся вручную исколотыми пальцами, а потом переходят от одного ребенка к другому. Забочусь только о том, чтобы большой палец не упустил узел, который он прижимает. Потом поворачиваю ладонь, и изображение изменяется. И возобновляю процесс вязания.
Жить – это плести кружево с тем, чтобы это видели другие. Но, когда делаешь это, твои мысли свободны, и все заколдованные принцы могут гулять в своих парках между одним и другим погружением иглы из слоновой кости с изогнутым концом. Кроше? (плетение)… Промежуток… Ничто…
Впрочем, с кем я могу еще говорить, кроме себя? Страшная обостренность ощущений и глубокое понимание состояния чувствования… Напряженность рассудка, способная меня разрушить, и власть нетерпеливой утешающей мечты… Умершее желание и размышление, которое пеленает его, будто живое дитя… Да, плетение…
Бедственности моего положения не ухудшают эти соединенные по моей воле слова, с помощью которых я складываю понемногу свою книгу случайных размышлений. Я продолжаю существовать недействительным в глубине каждого высказывания, как нерастворимый осадок на дне стакана, откуда, кажется, пьется чистая вода. Я создаю литературное творение, как делаю записи в торговых книгах – аккуратно и безразлично. Перед простором звездного неба и перед загадкой многих душ человеческих, перед ночью безвестной бездны и хаосом непонимания, – перед всем этим то, что я пишу в кассовой книге, и то, что пишу на этом листе моей души, одинаково ограничено улицей Золотильщиков, ничто для Вселенной, для ее грандиозных пространств.
Все это – мечта и фантасмагория, ну и что, если бы даже мечта оборачивалась неплохо оплачиваемыми записями? Разве лучше мечтать о принцессах, чем о входной двери в контору? Все, что мы знаем, это всего лишь наше впечатление, а все, чем мы являемся, – всего лишь чужое впечатление, отделенное от нас, будто мы назначаем себя собственными активными зрителями, нашими богами с разрешения муниципалитета.
Знать, что будет несовершенен труд, который не будет закончен никогда. Но хуже, если он вообще не будет создан. То творение, что создается, по крайней мере, уже есть. Ничтожна его ценность, но оно существует, как жалкое растение в единственном цветочном горшке моей соседки-калеки. Этот цветок – ее радость, а порой и моя. То, что я пишу, жалкое и ничтожное, может также подарить моменты отвлечения от горестей тому или другому больному или печальному духу. Достаточно этого для меня или нет, но мой труд находит какое-то применение, и так бывает всегда.
Скука, включающая в себя предвосхищение еще большей скуки; горе, испытываемое уже сейчас оттого, что назавтра будешь сожалеть, что огорчался сегодня, – страшная путаница, в которой ни пользы, ни истины, страшная путаница…
…где, съежившись на скамье ожидания на полустанке, мое презрение спит под плащом моего уныния…
…мир картин моего воображения, из которого построены также мои познания и сама моя жизнь…
Меня совсем не огорчает, словно не живет во мне вовсе, ограниченность настоящего часа. Я жажду расширения времени, я хочу быть собой, не скованным какими-либо условиями.
Размышляю на пути, где-то между Кашкайшем и Лиссабоном. Поехал по поручению патрона Вашкеша заплатить налог за его дом в Эшториле. Прежде всего, я насладился самой поездкой – час туда, час обратно, – рассматривая живописные берега большой реки и ее устья, где она впадает в Атлантику. По правде говоря, во время поездки я заблудился в своих отвлеченных раздумьях так, что смотрел, не видя, на чудесный водный пейзаж, радость от созерцания которого предвкушал; на обратном же пути полностью погрузился в эти ощущения. Я не смог бы описать ни малейшей подробности путешествия, ни малейшего фрагмента увиденного. Я извлек пользу из этих страниц, идя путем забвения и внутренних противоречий. Не знаю, лучше это или хуже, чем противоположный путь, сущность которого для меня также смутна.
Грохот поезда стих, это Кайш-ду-Содре?. Я прибыл в Лиссабон, но не пришел к определенному решению.
Оцениваю спокойно, только улыбаясь в душе, вероятность того, что жизнь моя замкнется навсегда на этой улице Золотильщиков, в этой конторе, в этой атмосфере, среди этих людей. Мне дана возможность есть и пить, у меня есть где жить и есть немного свободы чтобы фантазировать, записывать свои ощущения, спать – чего еще могу я просить у Богов или ждать от Судьбы?
У меня были горячие стремления и грандиозные мечты, но они имеются у любого посыльного или портнихи, ведь мечтают все: что нас отличает, это сила, чтобы осуществить свои мечты, или удача, которая поможет нам осуществить их.
В своих мечтах я равен посыльному и портнихе. Меня выделяют только мои литературные способности. Да, только это действие есть то, что меня отличает от них. В душе мы все одинаковы.
Хорошо знаю, что есть острова к югу, есть великие вселенские страсти…
Если бы на моей ладони лежал весь мир, я уверен, что променял бы его на билет до улицы Золотильщиков.
Может быть, моя судьба – вечно быть бухгалтером, а поэзия или литература – это бабочка, которая, сев мне на голову, делает меня тем более смешным и нелепым, чем прекраснее она сама.
Тоскую по Морейре, но что эта тоска перед большим восхождением?
Понимаю прекрасно, что день, когда стану бухгалтером в конторе Вашкеша и K°, станет одним из великих дней моей жизни. Знаю об этом, предвосхищая всю горечь иронии, но знаю это, отдавая должное истине.
На подкове пляжа, у самого моря, между тропической растительностью и мангровыми зарослями, непостоянство вспыхивающего желания поднималось из неопределенной пропасти небытия. Не было выбора между пшеницей и чем-то другим, даль тянулась между кипарисами.
Ценность отдельных слов или объединенных согласием звуков с сокровенными резонансами и смыслами, расходящимися в то же время, когда они сходятся в одной точке, торжественность выражений, читаемых между другими смыслами, злоба развалин, надежда лесов, и ничего более, только спокойствие, тишина водоемов среди садов моих детских шалостей… Так, между высокими заборами безрассудной отваги, в чаще деревьев, среди беспокойства того, что чахнет, другой, который не был мною, слышал из печальных уст исповедь, отрицающую величайшее упорство. Никогда – даже если бы рыцари возвратились по дороге, видимой с вершины стены, среди звона копий тех, кто их увидел, из внутреннего дворика, – не было бы большего спокойствия в Жилище Последних, и не вспоминалось бы другое имя, здесь, на дороге, кроме того, что однажды ночью, подобно мавританкам, заколдовало одно дитя, уже умершее, очаровав его жизнью и чудом.
Воздушные, еле заметные пути последних потерянных, между бороздами, которые были на траве, потому что шаги открывали пустоту среди взволнованной зелени, звучали тягуче, как смутное воспоминание о будущем. Были старыми те, кто должен был прийти, и только молодые не пришли бы никогда. Барабаны катились по краю дороги, и усталые руки держали бесполезные горны, не имея силы для того, чтобы их оставить.
Но снова в очарованном тумане громко звучали утихшие крики, и собаки бродили по аллеям. Все было бессмысленным, как скорбь, и принцессы из чужих снов гуляли вне монастырей бесконечно.
Пишу с ощущением странной боли, причиняемой неким удушьем разума, которое идет от совершенной красоты вечера. Это небо драгоценной синевы, блекнущей, уступая место бледно-розовым тонам под нежным розовым бризом, рождает в моем сознании желание закричать. Я пишу в конечном счете чтобы убежать и найти пристанище. Избегаю идей. Забываю точные выражения, но они возникают, сверкая, в процессе физического действия, письма, будто производить их – настоящее наказание.
От всего, о чем я думал, что я только чувствовал, остается смутное, бесполезное желание плакать.
Нелепость
Мы превращаем себя в сфинксов, вернее, их подобие, до тех пор пока не перестанем сами понимать, кто мы. Впрочем, мы и есть подобие сфинксов и не знаем, кем являемся на самом деле. Единственный способ существовать в согласии с жизнью – это быть в разногласии с самим собой. Нелепость – вещь священная.
Устанавливать теории, обдумывая их терпеливо и честно, – только затем, чтобы потом действовать наоборот, против них, оправдывая наши действия как раз теми теориями, которые их осуждают. Определять для себя путь в жизни – только затем, чтобы потом этим путем не следовать. Приобретать все признаки и установки, характерные для того существа, каким мы не являемся и не стремимся ни быть, ни даже считаться.