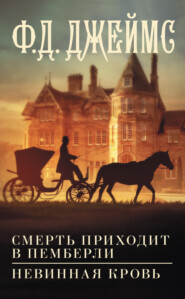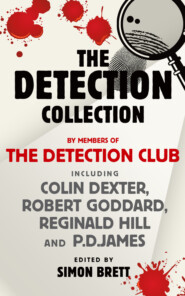По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Неестественные причины. Тайна Найтингейла
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я пришел сюда около девяти часов. У него было в запасе целых два часа. Вы говорили кому-нибудь о приглашении на ужин, Дэлглиш?
– Нет, никому. Уверен, тетя тоже. Но это вряд ли существенно. Мы на Монксмире всегда знаем, дома ли хозяева: достаточно увидеть, горит ли свет.
– А запирать двери у вас не принято – очень удобно! Если в этом деле все идет по шаблону, то либо алиби обнаружится у всех, либо ни у кого.
Инспектор приблизился к диванному столику, извлек из кармана огромный белый платок и, обмотав им топорище, вырвал топорик из древесины. Подойдя с ним к двери, он обернулся.
– Он умер в полночь, Дэлглиш. В полночь. Когда Дигби Сетон уже час находился под арестом; когда Оливер Лэтэм веселился на театральном банкете на виду у двух рыцарей и трех рыцарственных леди Британской империи, не говоря о половине завсегдатаев всех культурных событий Лондона; когда мисс Марли, насколько известно мне и всем остальным, нежилась в гостиничной постели; и когда Джастин Брайс сражался с первым по счету за ту ночь приступом астмы. По крайней мере у двоих из них есть твердое алиби, а остальные двое вроде бы не очень-то переживают… Да, запамятовал: пока я вас ждал, сюда звонили. Некий Макс Герни. Просил вас перезвонить. Сказал, что вы знаете номер его телефона.
Дэлглиш удивился. Из всех его знакомых Макс Герни был последним, кто стал бы ему звонить, когда он в отпуске. Важнее то, что Герни был старшим партнером в издательстве, публиковавшем Мориса Сетона. Известно ли это Реклессу? Похоже, нет, иначе он бы как-то это прокомментировал. Инспектор развил колоссальную скорость и не обошел вниманием почти никого из тех, кто был как-то связан с Сетоном. Но до его издателя он пока не добрался, а может, счел это направление недостойным внимания.
Реклесс взялся наконец за дверную ручку.
– Спокойной ночи, Дэлглиш. Передайте тете мои соболезнования по поводу столика… Если вы все-таки правы и это убийство, то мы знаем о преступнике одно: он слишком увлекается детективами. – И он удалился.
Когда стих шум мотора машины, Дэлглиш позвонил Максу Герни. Тот, видимо, сидел и ждал звонка, потому что ответил сразу:
– Адам! Хорошо, что быстро перезвонили! Скотланд-Ярд уперся и отказывался сообщить, где вас искать, но я догадался, что вы в Суффолке. Когда вернетесь? Мы могли бы увидеться?
Дэлглиш сказал, что будет в Лондоне уже завтра, и услышал в голосе Макса облегчение.
– Пообедаем вместе? Отлично! Вас устроит в час дня? Где предпочитаете?
– Кажется, Макс, в свое время вы состояли членом клуба «Кадавр»?
– И сейчас состою. Хотите туда? Планты ради вас расстараются. Значит, в час дня в «Кадавре»?
Дэлглиш заверил его, что это прекрасный выбор.
17
Сидя в гостиной на первом этаже кукольного домика на Таннерс-лейн, Сильвия Кедж слушала завывание ветра и ежилась от страха. Она всегда ненавидела штормовые ночи, контраст между буйством стихии снаружи и глубоким покоем внутри коттеджа, спрятавшегося за скалой. Даже в бурю он оставался в коконе неподвижного воздуха, будто испускал испарения, против которых ничего не могли поделать внешние силы. Мало какая буря могла заставить дрожать окна коттеджа «Дубильщик», скрипеть его двери и бревна. Даже в самый сильный ветер ветки бузины за черным окном всего лишь вяло шевелились, словно им не хватало духу постучаться в стекло. Ее мать, нежась в кресле перед камином, часто повторяла: «Мне нет дела, кто что говорит, главное, что нам здесь очень уютно. Не хотелось бы мне в такую ночь оказаться в “Пентландсе” или в “Сетон-Хаусе”». Любимой фразой матери была: «Мне нет дела, кто что говорит». Она всегда произносила ее с безапелляционностью вдовы, ополчившейся на весь мир. Мать испытывала маниакальную потребность в уюте, ей хотелось забиться в тесную безопасную раковину. Природу она воспринимала как оскорбление, и безмятежность коттеджа «Дубильщик» служила ей убежищем скорее от мыслей, чем от ветров. Но Сильвия была бы только рада натиску холодного морского ветра, от которого двери и окна заходили бы ходуном. Это по крайней мере подтвердило бы существование внешнего мира и ее включенности в него. Она боялась этого гораздо меньше, чем здешнего противоестественного покоя, ощущения полной изоляции, когда сама природа пренебрегает ею, считает недостойной внимания…
Нынче ее страх был острее, неудержимее привычной тоски – плода одиночества и отрезанности от мира. Она боялась, что ее убьют. Начиналось это как заигрывание со страхом, сознательное, взвешенное пренебрежение приятными мурашками, сопровождающими чувство опасности. Но воображение сыграло с ней злую шутку: оно вдруг вышло из-под контроля. Придуманный страх превратился в настоящий. Теперь Сильвия, сидя одна в коттедже, была беспомощна и очень боялась. Она представляла мягкий песок на улице, огражденной высокой живой изгородью, чернеющей в ночи. Если убийца явится ночью, то она не услышит, как он будет приближаться, ступая по песку. Инспектор Реклесс получал от нее один и тот же ответ на свой навязчивый вопрос: можно ли, ступая с осторожностью, миновать коттедж так, чтобы остаться неуслышанным и незамеченным? А если тащить труп? Здесь судить было труднее, но все равно возможность прошмыгнуть мимо оставалась. Спала она крепко, с закрытыми окнами и задернутыми шторами. Только нынче он не будет тащить труп, а придет за ней, придет один – с топориком, с ножом, с веревкой в руках… Сильвия попыталась представить его лицо. Это будет знакомое лицо; даже без настойчивых вопросов инспектора она знала, что убийца Мориса Сетона живет на Монксмире. Но ночью его лицо будет белым и неподвижным от напряжения, лицом хищника, подкрадывающегося к жертве. Возможно, он уже стоит у калитки и гадает, заскрипят ли петли, если ее толкнуть… Хотя ему следовало бы знать, что без скрипа не обойдется. Это знает весь Монксмир. Только зачем ему об этом тревожиться? Если Сильвия закричит, поблизости не будет никого, чтобы услышать ее. Убежать она не сможет – это ему тем более известно.
От отчаяния она озиралась, взгляд скользил по тяжелой темной мебели, привезенной сюда матерью, вышедшей замуж. И резной книжный шкаф, и угловой буфет послужили бы хорошей баррикадой для двери, если бы она смогла сдвинуть их с места. Но Сильвия была беспомощна. Встав с узкой кровати и взяв костыли, она потащилась в кухню. В стекле кухонного буфета отразилось ее лицо – белая луна с темными провалами глаз, тяжелые и сырые, как у утопленницы, волосы. Лицо ведьмы! «Триста лет назад меня сожгли бы живьем, – подумала Сильвия. – А теперь даже не боятся».
Что хуже, когда тебя боятся или когда жалеют? Распахнув дверцу кухонного шкафа, она набрала ложек и вилок, чтобы разложить их на узком подоконнике. В тишине слышала свое хриплое дыхание. Немного подумав, Сильвия поставила на подоконник два стакана. Если он полезет в кухонное окно, то ее предупредит о вторжении звон падающих приборов и бьющегося стекла. Она оглядела кухню в поисках оружия. Нож для разделки мяса? Великоват, да и тупой. Кухонные ножницы? Сильвия взяла их и попыталась разнять надвое, но это оказалось не под силу даже ее тренированным рукам. Потом она вспомнила про сломанный нож, которым обычно чистила овощи. Коническое лезвие имело всего шесть дюймов в длину, зато нож был острый и удобный. Сильвия поточила лезвие о каменный край кухонной раковины и проверила пальцем. Лучше, чем ничего! С этим оружием она почувствовала себя увереннее. Убедившись в прочности петель входной двери, расставила маленькие стеклянные украшения из углового буфета на подоконнике гостиной. Не снимая с ног протезов, уселась на кровати прямо, положив на подушку рядом с собой тяжелое стеклянное пресс-папье и сжимая в руке нож. Так она застыла, дожидаясь, когда пройдет приступ страха, сотрясаясь всем телом от сердцебиения и напрягая слух, чтобы уловить сквозь вой ветра скрип садовой калитки и звон падающего стекла.
Книга вторая. Лондон
1
Дэлглиш выехал следующим утром, после раннего одинокого завтрака и звонка Реклессу. Надо было узнать лондонский адрес Дигби Сетона и название отеля, где ночевала Элизабет Марли. Он не объяснил, зачем это, а Реклесс не спрашивал: он сообщил требуемые сведения и пожелал Дэлглишу безопасного, приятного пути. Адам усомнился в том, что оба пожелания осуществятся, однако поблагодарил инспектора за помощь. Оба не старались скрыть иронию в голосе. От взаимной неприязни искрились, казалось, телефонные провода.
Тревожить Джастина Брайса в такую рань было не очень вежливо, но Дэлглишу понадобилась фотография компании на пляже. Ее сделали несколько лет назад, но Сетоны, Оливер Лэтэм и сам Брайс были на ней очень похожи на себя, что должно было помочь опознанию.
В ответ на стук в дверь Брайс спустился. В этот ранний час он плохо соображал и с трудом ворочал языком. Смысл просьбы Дэлглиша дошел до него не сразу, но вскоре он достал фотографию. Мысль, что отдавать ее неразумно, возникла позднее, когда Дэлглиш уходил. Брайс двинулся за ним по дорожке, взволнованно блея:
– Только не говорите Оливеру, что я вам ее одолжил, хорошо, Адам? Он взбесится, если узнает о моем сотрудничестве с полицией. Оливер, боюсь, не вполне вам доверяет. Умоляю, сохраните это в тайне!
Дэлглиш пробурчал что-то в знак согласия и жестом отправил Джастина обратно, хотя слишком хорошо его знал, чтобы понадеяться, что тот угомонится. После завтрака, набравшись сил для дневных проделок, он непременно позвонит Селии Колтроп, и они вместе станут гадать, что затеял Адам Дэлглиш на сей раз. К полудню весь Монксмир, включая Оливера Лэтэма, будет знать, что он покатил в Лондон, забрав с собой фотографию.
Дорога оказалась нетрудной. Адам поехал кратчайшим путем и к половине двенадцатого прибыл в город. Он не ожидал, что так скоро вернется сюда. У него возникло ощущение преждевременного прерывания испорченного отпуска. Утешая себя надеждой, что это не совсем так, Адам поборол искушение заехать домой, в квартиру, расположенную высоко над Темзой, близ Куинхита, и направился в Уэст-Энд. Перед полуднем он поставил «купер-бристоль» на Лексингтон-стрит и зашагал в Блумсбери, в клуб «Кадавр».
Это было типичное английское заведение, его основал в 1892 году некий барристер как место встречи людей с интересом к убийствам и перед смертью завещал клубу свой приятный дом на Тейвисток-сквер. Клуб был сугубо мужским, женщин не зачисляли в его члены и даже не пускали внутрь. Крепкий членский костяк составляли авторы детективных романов, избиравшиеся по принципу престижности их издателей, а не величины продаж, пара отставных офицеров полиции, дюжина практикующих барристеров, трое судей в отставке и большинство известных криминалистов-любителей и уголовных репортеров. От остальных членов клуба требовалось вовремя платить взносы, с умным видом обсуждая вероятную вину Уильяма Уоллеса[3 - Предводитель шотландцев в борьбе с англичанами в XIII веке.] и достоинства защиты Мадлен Смит[4 - Фигурантка громкого уголовного дела в XIX веке, оправданная за недостаточностью улик.]. Исключение женщин означало неучастие в дебатах ряда лучших писательниц криминального жанра, но это никого не волновало: с точки зрения комитета их допуск вряд ли компенсировал бы расходы на установку женских туалетов. Сантехника в «Кадавре» и впрямь не менялась с 1900 года, когда клуб водворился по своему нынешнему адресу, хотя ходили слухи, будто ванны приобретал сам Джордж Джозеф Смит[5 - Утопил в начале ХХ века трех своих жен подряд в ванне.]. Старомодными были в клубе не только водопровод и канализация. Оправданием эксклюзивности выступало также утверждение, что неприлично обсуждать убийства в присутствии женщин. Само убийство становилось в «Кадавре» цивилизованной архаикой, отгороженной от реальности временем и доспехами закона и не имевшей ни малейшей связи с теми мрачными и жалкими преступлениями, которыми занимался почти всю свою профессиональную жизнь Дэлглиш. Само слово «убийство» здесь ассоциировалось с викторианской служанкой в крахмальном чепце с лентами, наблюдающей через дверь спальни, как Аделаида Бартлетт готовит мужу снадобье; с изящной рукой жительницы Эдинбурга, подающей чашку какао – возможно, с мышьяком; с доктором Лемсоном, подсунувшим шурину за чаем отравленный кусок пирога; с Лиззи Борден, крадущейся с топором по безмолвному дому в Фолл-Ривер в разгаре лета…
У каждого клуба есть своя изюминка. В клубе «Кадавр» их было целых две, и звались они Плантами. У членов клуба была присказка: «Что мы будем делать, если лишимся Плантов?», звучавшая как: «Что мы будем делать, если на Англию сбросят бомбу?» Оба вопроса имели зачатки смысла, но усматривали его только лица, склонные к болезненной меланхолии. Мистер Плант подарил жизнь – верность клубу заставляла в это верить – пяти полногрудым и умелым дочерям. Три старшие, Роз, Мэриголд и Вайолет, вышли замуж, но иногда заглядывали в клуб, чтобы помочь родне. Обе младшие, Хизер и Примроуз, работали там официантками. Сам Плант являлся бессменным дворецким и мастером на все руки, а его жена пользовалась славой лучшего во всем Лондоне кулинара. Плантам клуб был обязан атмосферой загородного особняка, где преданные, умелые и деликатные слуги обеспечивают воистину домашний комфорт. Члены клуба, хоть раз его вкусившие, пребывали в приятной иллюзии, будто вернулись во времена своей молодости, а те, кто внимал их восторгам, начинали сознавать, чего лишаются. Даже причуды Плантов придавали им интерес, не делая менее профессиональными, что можно сказать о слугах немногих клубов.
Дэлглиш не был членом клуба, но иногда тут обедал, и Планты его запомнили. Благодаря причудливой алхимии, царящей в подобных сферах, его здесь скорее привечали. Теперь Плант охотно водил его по заведению и отвечал на вопросы, не вынуждая Адама уточнять, что в данном случае он выступает как любитель. Оба по большей части молчали, однако отлично понимали друг друга. Плант отвел гостя в маленькую спальню на втором этаже, которую всегда предоставляли Сетону, и ждал в дверях, пока Дэлглиш осматривал комнату. Адам привык работать под надзором, иначе такое пристальное наблюдение сбило бы его с толку.
Плант был редкостным персонажем. В нем было шесть футов три дюйма росту, плечи имели богатырский размах, бледное лицо было пластичным, как воск, на левой скуле красовался длинный узкий шрам. Этот результат малопочтенного инцидента – падения с велосипеда при наезде на железную ограду – так сильно смахивал на дуэльный шрам, что Плант поддался соблазну усугубить эффект ношением пенсне и стрижкой «ежик», чтобы еще больше походить на зловещего немецкого офицера из антинацистского фильма. Его рабочая форма была под стать месту: темно-синий саржевый костюм с маленькими черепами на лацканах. Эта вульгарность, придуманная еще основателем клуба в 1896 году, с тех пор стала, как потом и сам Плант, освященной временем традицией. Члены клуба даже недоумевали, когда их гости удивлялись необычной внешности Планта.
В спальне оказалось мало интересного. Териленовые шторы, несмотря на тонкость, плохо пропускали серый октябрьский свет. Ящики шкафа и полки были пусты. На светлом дубовом столике у окна лежали чистый блокнот и пачки писчей бумаги с эмблемой клуба. Свежезастеленная односпальная кровать ждала следующего клиента.
– Пишущую машинку и одежду забрали сотрудники полиции Суффолка, сэр, – напомнил Плант. – Они искали бумаги, но практически ничего не нашли, только пачку коричневых конвертов, полсотни чистых листов большого формата и пару неиспользованных копирок. Мистер Сетон был очень аккуратным джентльменом.
– Он ведь регулярно останавливался здесь в октябре?
– В последние две недели месяца, сэр. И так каждый год. Всегда в этой комнате. У нас на этом этаже всего одна спальня, а выше он подняться не мог из-за слабого сердца. Можно было бы на лифте, но мистер Сетон говорил, что не доверяет лифтам. Поэтому комната была единственным вариантом.
– Он здесь работал?
– Да, сэр. Утром, с девяти до половины первого. Потом ленч. И снова работа, с половины третьего до половины пятого. Это если мистер Сетон печатал. А если читал или делал заметки, то в библиотеке. Там печатать нельзя, чтобы не тревожить других.
– То есть во вторник он тоже здесь печатал?
– Мы с женой слышали стук машинки и, естественно, предположили, что это мистер Сетон. На двери висела табличка «не беспокоить», хотя мы и без нее не стали бы входить. Когда член клуба работает, его не беспокоят. У инспектора, кажется, возникло подозрение, будто тут находился кто-то другой.
– Неужели? А вы как думаете?
– Могло быть и так. Жена услышала стук пишущей машинки в одиннадцать часов утра, потом и я – часа в четыре. Но мы не могли знать точно, мистер Сетон это или нет. Стучали быстро и умело, но что с того? Инспектор спрашивал, мог ли сюда войти кто-либо еще. Мы чужих не видели, но в обеденное время оба были очень заняты и вообще весь день провели внизу. Как вам известно, сэр, люди свободно входят сюда и выходят отсюда. Вот дама обратила бы на себя внимание. Кто-нибудь из членов клуба непременно заявил бы о женщине. Но в целом – что ж, я не могу утверждать, что заведение тщательно охраняется… Я видел, что инспектор невысокого мнения о нашей охране. Но я сказал ему, что это клуб, а не полицейский участок.
– Вы прождали два дня, прежде чем заявить об исчезновении клиента?
– И очень об этом сожалею, сэр! Причем я и тогда не вызвал полицию, а позвонил мистеру Сетону домой и предупредил его секретаря, мисс Кедж. Она попросила ничего пока не предпринимать, потому что попробует найти сводного брата мистера Сетона. Сам я никогда не встречал этого джентльмена, но однажды мистер Сетон упоминал о нем. Не припомню, чтобы он бывал в клубе. Инспектор очень настойчиво спрашивал меня об этом.
– Полагаю, его вопросы касались также Оливера Лэтэма и Джастина Брайса?
– Именно так, сэр. Оба джентльмена – члены клуба, о чем я его уведомил. Но в последнее время я их у нас не видел. Вряд ли эти джентльмены вошли и вышли, ничего не сказав мне и моей жене. Извольте, здесь ванная и туалет второго этажа. Мистер Сетон пользовался ими. Инспектор даже заглянул в сливной бачок.
– Он нашел то, что искал?
– Да, поплавковый кран, сэр. Очень надеюсь, что он не вывел его из строя. У этого туалета бурный темперамент… Полагаю, вы желаете побывать в библиотеке? Там мистер Сетон находился, когда не печатал. Она расположена на следующем этаже.
Очевидно, посещение библиотеки входило в план экскурсии. Инспектор Реклесс был дотошен, а Плант был не такой человек, чтобы позволить своему теперешнему протеже увидеть меньше его. Когда они втиснулись вдвоем в крохотную кабинку лифта, способную вызвать приступ клаустрофобии, Дэлглиш задал последние вопросы. Плант ответил, что ни он, ни кто-либо другой из персонала ничего не отправляли по почте по поручению Сетона. В комнате не убирались, никаких его бумаг не уничтожали. Насколько было известно Планту, уничтожать там было нечего. Если не считать пишущей машинки и одежды Сетона, в комнате осталось все то же, что в ней находилось в вечер его исчезновения.
Библиотека, окна которой выходили на юг, на площадь, была, наверное, самым привлекательным помещением в доме. Первоначально здесь была гостиная, и с тех пор добавились только полки на западной стене, в остальном все осталось как в момент образования клуба. Шторы являлись копиями оригиналов, потускневшие обои были выполнены в стиле прерафаэлитов, между четырьмя высокими окнами стояли викторианские столы. Небольшая, но внушавшая уважение библиотека была посвящена преступлениям. Здесь находились тома «Британских судебных процессов» и «Знаменитых процессов», учебники по судебной медицине, токсикологии, патологоанатомии, мемуары судей, адвокатов, патологоанатомов и офицеров полиции; всевозможные сочинения криминологов-любителей о громких и противоречивых преступлениях, учебники по уголовному праву и полицейской процедуре, а также трактаты о социологических и психологических аспектах насильственных преступлений, судя по их виду, ни разу не открывавшиеся. На полках с беллетристикой стояли немногочисленные первые издания По, Ле Фаню и Конан Дойла, которыми клуб очень гордился, а также книги британских и американских представителей криминального жанра. Было очевидно, что те из них, кто являлся членом клуба, дарили ему свои произведения. Дэлглиш с интересом повертел в руках книгу Мориса Сетона в подарочном переплете, с золотой монограммой. Он заметил, что хотя членство в клубе женщин исключалось, на их книги запрет не распространялся, и библиотека давала убедительное представление обо всей криминальной литературе за последние сто пятьдесят лет.