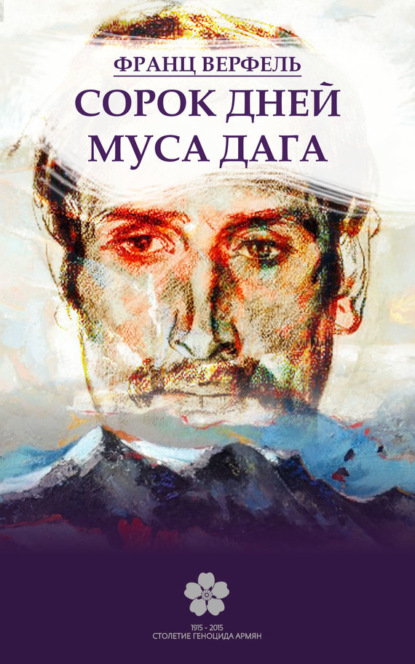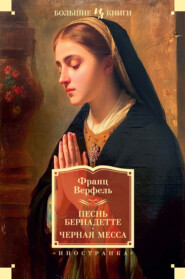По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сорок дней Муса-Дага
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Юный Марс снова скалится, обнажает в улыбке зубы.
– Будьте уверены, господин Лепсиус, что наше правительство избегает излишней жестокости.
Как всегда в подобных политических беседах, последние реплики с обеих сторон – чистая формальность, пустая комедия, цель которой оставить встречу незавершенной. Энвер-паша не сделал ни малейшей уступки. Что следует считать «излишней жестокостью» – осталось на его усмотрении. Но и Лепсиус говорил сознавая, что это пустые слова, нужные только как концовка.
В отличие от Лепсиуса генерал сейчас особенно изящен и подтянут. Он пропускает гостя вперед и даже делает вместе с ним несколько шагов; затем несколько удивленно, но бесстрастно смотрит вслед пастору, который, пошатываясь, словно слепой, ощупью бредет по анфиладе комнат, сквозь двери с колышащимися занавесями.
Энвер-паша входит в апартаменты Талаата-бея. Чиновники вскакивают. Лица сияют восторгом. Еще не угасла та почти мистическая любовь, которую питают даже канцелярские крысы к пленительному богу войны. Из уст в уста передаются сотни легенд, прославляющих его безумную храбрость. Когда во время войны в Албании взбунтовался артиллерийский полк, Энвер с сигаретой в зубах встал перед стволом гаубицы и крикнул бунтовщикам: «Стреляйте!»
На его холеном лице народ видит отблеск сияния мессии, он посланник бога, который воскресит империю Османа, Баязета и Сулеймана.
Энвер весело здоровается с чиновниками. Бурный восторг. Угодливые руки экзальтированных поклонников спешат одну за другой распахнуть перед ним двери канцелярских помещений, ведущих в кабинет Талаата-бея.
Для громоздкой фигуры министра кабинет слишком мал. Когда этот богатырь встает из-за стола – вот как сейчас, – он заслоняет собой все окно. Крупная голова Талаата на висках седая. Восточного склада лицо, мясистые губы, черные как смоль усики. Уголки стоячего воротника сжимают тяжелый двойной подбородок. Выпирающее брюшко обтянуто пикейным жилетом, белизна которого, должно быть, символизирует чистосердечие. Когда Талаат-бей встречается со своим соратником по дуумвирату, у него неизменно возникает потребность своей могучей медвежьей лапой отечески погладить по плечу этого юного баловня судьбы. И всякий раз этому дружескому жесту мешает излучаемая Энвером непроницаемая застенчивость.
При всем том Талаат обладает кипучей энергией; он светский человек и оратор, отличающийся шумным апломбом и способный припереть к стенке хоть пять дипломатов зараз; а народный кумир Энвер, супруг принцессы, султанской дочери, иной раз на большом приеме стоит в стороне один, смущенный, задумчивый.
Талаат опускает свою огромную мясистую руку и ограничивается вопросом:
– Был у тебя немец?
Энвер-паша смотрит на Босфор, на его плещущие волны, на снующие пароходики и игрушечные киики, на кипарисы и развалины, которые сейчас кажутся нереальными, плохо нарисованными декорациями. Затем оборачивается и оглядывает пустой кабинет; взгляд его останавливается на старом телеграфном аппарате, который, как драгоценная реликвия, стоит на покрытом ковровой скатертью столике. На этом жалком аппарате мелкий почтовый служащий, телеграфист Талаат выстукивал азбуку Морзе, пока резолюция Иттихата не возвысила его до положения видного государственного деятеля в царстве калифа. Пусть каждый посетитель воздаст должное, дивясь этому убедительному свидетельству головокружительной карьеры. Вот и Энвер благожелательно и долго рассматривает многоговорящий аппарат прежде чем ответить на вопрос Талаата.
– Да, тот самый немец. Пытался припугнуть рейхстагом.
Из этого замечания можно заключить, сколь прав был патриарх Завен, предупреждая Лепсиуса, что всякие уговоры и призыв к человеческим чувствам с самого начала обречены на неудачу.
Секретарь приносит пачку депеш, которые Талаат подписывает стоя. Не отрывая глаз от бумаг, он говорит:
– Эти немцы боятся быть скромпрометированными соучастием. Но им еще придется обращаться к нам с просьбами почище, чем хлопоты об армянах.
Разговор о депортации на этом бы и кончился, если бы Энвер не кинул любопытный взгляд на телеграммы. Талаат перехватил этот взгляд и отодвинул бумаги:
– Подробные инструкции для Алеппо! Думаю, дороги уже освободились. В ближайшие недели можно будет отправить этапы из Алеппо, Александретты, Антиохии и со всего побережья.
– Антиохии и побережья? – переспрашивает Энвер и, кажется, хочет сделать какое-то замечание. Но ни звука не произносит и только пристально следит за толстыми пальцами Талаата, который в каком-то исступлении подписывает бумаги, одну за другой. Те же толстые, грубые пальцы написали незашифрованный приказ, адресованный всем вали и мутесарифам. Приказ гласил:
«Цель депортации – уничтожение».
Быстрый и энергичный росчерк свидетельствует о непреклонности, не знающей сомнений.
Министр расправляет спину, все свое грубо сколоченное тело.
– Так! Осенью я смогу сказать всем этим людям напрямик: La question armenienne n’existe pas[50 - Армянский вопрос больше не существует (франц).].
Энвер стоит у окна, он ничего не слышит. Думает ли о доставшихся ему владениях калифа, которые простираются от Македонии до передней Индии? Озабочен ли снабжением армии боеприпасами? Или мечтает о новых приобретениях для своего сказочного дворца на Босфоре? B огромном бальном зале он велел поставить свадебный трон, который принесла в приданое Наджийе, дочь султана. Четыре колонки из позолоченного серебра поддерживают звездное небо над троном – балдахин из византийской парчи.
Иоганнес Лепсиус все еще бредет по улицам Стамбула. Уже за полдень. Час обеда упущен. Пастор не решается идти к себе, в отель «Токатлян». Это армянская гостиница. Ужасом и унынием охвачены там все, от хозяина и гостей до последнего официанта и мальчика-лифтера. Они знают, куда он пошел, знают, что он задумал. Как только он вернется, он станет предметом всеобщего внимания.
Пускай сыщики и соглядатаи, которые по приказанию Талаата-бея ходят за ним по пятам, стараются сколько угодно. Но вот беда – Лепсиуса уже много часов ждут друзья-армяне в безопасном месте. Среди них Давтян, бывший председатель Армянского национального собрания; он – один из недавно арестованных армянских деятелей, он совершил побег и теперь прячется в Стамбуле. У Лепсиуса не хватает сил и мужества предстать перед этими людьми. Если он не придет, им станет все ясно и, надо надеяться, они разойдутся. Даже самые мрачные пессимисты среди них (впрочем, все они мрачнейшие пессимисты, – это так естественно), даже они считали, что вовсе не исключено, что пастору разрешат поездку в глубь страны. Это хоть что-то дало бы.
Пастор забрел в городской сад. И здесь все по-праздничному. На спинках скамеек колышатся гирлянды цветов. На шестах и фонарных столбах реют флаги с полумесяцем. Человеческая масса, омерзительная людская гуща, теснится между клумбами по дорожкам, посыпанным гравием. Шатаясь, в каком-то забытьи, Лепсиус замечает скамейку, на которой есть одно свободное место. Садится. Перед глазами поплыл переливающийся красками полукруг. И в ту же секунду грянул турецкий военный оркестр, завизжала, заливаясь трелями, музыка янычар[51 - Янычары (тур. yeniceri – букв. новое войско) – регулярная турецкая пехота, выполнявшая в стране жандармские функции и являвшаяся оплотом трона. Создана в XIV веке. Первоначально вербовалась из военнопленных, а позже – из мальчиков христианского населения, которых насильственно отбирали у родителей и приучали к военному делу. Упразднена в XIX веке.«Янычарская музыка» – исполнялась оркестром, состоявшим преимущественно из ударных инструментов. Отличалась очень шумным характером.]. Свистки, дудки, флейты, пронзительный голос кларнета, грохот меди – все эти звуки слились, режут слух как острый нож, скользят то вверх, то вниз по ступенькам гаммы, а время от времени врывается фанатичный лай турецких барабанов, позвякивание бунчука, пронизанный ненавистью шип турецких тарелок. Иоганнеса Лепсиуса захлестнула эта музыка, она ему уже по горло, он будто в ванне с битым стеклом. Но не ищет избавления, готов принять муки, прижать к телу это битое стекло. И вот Иоганнесу Лепсиусу дается то, в чем отказал ему Энвер-паша. Он – звено в длинной веренице людей, обреченных на ссылку. Среди доверенного ему богом народа бредет он мысленно то по каменистым, то по болотистым проселкам Анатолии. А не проклинают ли его сейчас родные и близкие, чьи тела разрывают на части снаряды в Аргоннах, на полях Подолыцины, Галиции, на морях и в воздухе? Разве нескончаемые поезда с ранеными не менее страшное зрелище, от которого нельзя не завопить? Разве у раненых и умирающих немцев не такие же, как у армян, глаза? У Лепсиуса кружится голова от усталости и от музыки янычар, в которую он погружается все глубже.
В визгливую, неистовую музыку врываются новые звуки, громоподобный гул, который все усиливается. Он доносится с неба. Турецкая эскадрилья кружится над Стамбулом, сбрасывает порхающие в воздухе облачки прокламаций. Иоганнесу Лепсиусу ясно – хоть он и не знает почему, – монопланы, что носятся по небу, это воплощение первородного греха, венец гордыни человеческой. Он блуждает в открывшейся ему истине, как в огромном дворце, как в министерстве внутренних дел. Горят трепещущие занавеси, и ему вспоминается одно место в Откровении святого Иоанна, он процитирует его в своей будущей проповеди: «…По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну… на ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее – как стук от колесниц… у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была – вредить людям пять месяцев…»[52 - Откровение святого Иоанна, 9. Верфель цитирует текст Апокалипсиса не подряд, многоточия проставлены им.]
Лепсиус вздрагивает в испуге: нужно изыскать новые средства и пути. Если германское посольство не в состоянии ничего сделать, может, австрийский маркграф Паллавичини, личность выдающаяся, будет удачливей? Он мог бы пригрозить репрессиями, ведь мусульмане Боснии – австро-венгерские подданные. Да испанские предупреждения были чересчур мягкими. Но еще миг – и к Лепсиусу приближается Энвер-паша, а на устах его та же незабываемая улыбка. Застенчивая? Нет, это не то слово, так не назовешь эту не то мальчишескую, не то девичью улыбку великого убийцы. «Господин Лепсиус, мы будем придерживаться политики, отвечающей нашим интересам. Воспрепятствовать нам может только держава, которая выше всех интересов и не замешана ни в каких мерзостях. Если вы найдете такую державу в дипломатическом справочнике, то дозволяю вам снова явиться ко мне в министерство».
Лепсиуса знобит, трясет как в лихорадке, так что сидящие рядом с ним женщины в покрывалах поднимаются и, пугливо озираясь, уходят. Он этого не замечает, его осенила горестная догадка: ничего больше сделать нельзя. Помощи ждать неоткуда. Истина, которую еще несколько недель назад постиг священник Тер-Айказун в Йогонолуке, открывается сейчас и пастору Иоганнесу Лепсиусу: «Мне остается только одно – молиться».
Мимо него движется праздничная, шумная толпа, раздается женский смех, детский визг. Толпа валит к военному оркестру, а пастор, закрыв глаза, то мотает головой, то молитвенно складывает руки или воображает, что делает это. Но в душе уже звучит: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое…»
Но что случилось с «Отче наш»?! В каждом слове таится бездна, которую взглядом не охватить. Уже при слове «наш» или «мы» теряешь голову. Кто вправе еще произнести «мы», если Христос – тот, кто вяжет и решает, на третий день вознесся на небо? Без него все прочее – смердящая гора черепков и костей вышиною с полвселенную. Лепсиус вспоминает запись в дневнике матери, которую она сделала пятьдесят шесть лет назад, когда его крестили:
«Да будет имя его Иоганнес всегда мне напоминанием, что моя великая и святая задача – вырастить из него истинного Иоанна, иными словами, такого, какой по-настоящему любит Господа и идет по его стопам». Стал ли он истинным Иоанном? Исполнен ли он до краев веры, чувства, которое не выразить словами? Ах, вера моя грозит иссякнуть, если ослабеет тело. Опять дает себя знать сахарная болезнь. Надо быть поосторожней в еде. Ничего сладкого, мучного, никакого картофеля. Возможно, Энвер спас его тем, что не разрешил поездку в Анатолию.
…Позвольте, что здесь делает швейцар гостиницы «Токатлян»? С каких пор носит он барашковую офицерскую шапку? Уж не Энвер ли его прислал? Швейцар вежливо подает ему тескере, внутренний паспорт. На паспорте фотография Наполеона с его собственной подписью. И в самом деле, у вращающейся двери гостиницы его ждет эшелон ссыльных. Друзья в сборе. Давтян и все другие. Они весело ему кивают. «Наши прекрасно выглядят», – думает пастор. Даже в самой страшной действительности, когда столкнешься с нею лицом к лицу, находится что-нибудь утешительное. Привал сделали на берегу какой-то реки, под отвесными скалами. Есть даже палатки. Наверное, Энвер тайно разрешает кое-какие поблажки.
Когда все улеглись, к Лепсиусу подходит высокий армянин в одежде, сверху донизу забрызганной илом. Говорит как-то странно торжественно, на ломаном немецком языке:
– Смотри. Этот бушующий поток – Евфрат. А вон там мои дети. Перебрось свое тело с этого берега на тот, тогда у детей моих будет мост.
Лепсиус притворился, что счел это шуткой.
– Тогда вам с детками придется чуточку подождать, пока я немножко подрасту.
И вдруг он начинает расти с чудесной быстротой. Руки и ноги сами собой вытягиваются бесконечно далеко. Теперь-то он может преспокойно исполнить просьбу армянина. Но до этого не доходит, потому что Иоганнес Лепсиус теряет равновесие и чуть не падает со скамейки.
– Какой ужас! – Он говорит это сегодня второй раз.
Сейчас это относится к жажде, которая его мучит. Он вскакивает, вбегает в ближайший кабачок и, пренебрегая предписаниями врачей, осушает целый стакан напитка со льдом. Одновременно с приятным ощущением у него возникают новые, смелые планы.
– Я не сдамся, – смеется он.
Его бездумный смех означает объявление войны Энверу-паше. А в эту самую минуту личный секретарь Талаата-бея вручает дежурному телеграфисту те самые правительственные депеши, в которых идет речь об Алеппо, Александретте, Антиохии и побережье.
Глава шестая
ВЕЛИКИЙ СХОД
С того дня, как почтенный вали Алеппо Джелал-бей отказался выполнить в подчиненном ему районе правительственный приказ о депортации, с того весеннего дня ничто больше не тормозило антиармянскую политику Энвера и Талаата; отныне все шло гладко, без чрезвычайных происшествий и нежелательных осложнений. Сначала, согласно установленному, тщательно продуманному порядку действий, каждый губернатор получал извещение из министерства, затем в определенный срок следовали приказы о проведении соответствующих мер. В виде исключения бюрократическая машина работала удивительно аккуратно, на радость чиновничьему сердцу. Получив надлежащую бумагу из министерства, вали отдельных провинций немедленно созывали на срочное совещание мутесарифов – начальников санджаков, которые входили в состав вилайета. К участию в совещании привлекались и высшие военные чины района. Открывал заседание его превосходительство вали, паша такой-то, речью примерно такого содержания:
– Господа, присутствующие на данном совещании имеют в своем распоряжении четырнадцать дней, дабы провести в жизнь указанные мероприятия. По прошествии этого срока последний эшелон депортируемого населения должен быть – живой или мертвый – за пределами вилайета. Возлагаю на вас ответственность за безотлагательное и радикальное выполнение приказа, хотя бы потому, что лично отвечаю за это перед господином министром внутренних дел.
Засим совещание обсуждало выработанный губернским управлением план депортации. Мутесарифы выступали с возражениями и поправками, генерал сообщал, какое количество солдат и заптиев командирует для конвоирования ссыльных. Примерно через час отзаседавшие вольны были отправиться в баню или кофейню, если только вали не давал тут же банкет.
Мутесарифы отбывали в свои резиденции. Там повторялась та же игра. Они в свою очередь созывали на совещание каймакамов – управляющих округами, из которых состоял санджак. К участию в совещании опять же привлекался местный военный комендант, но, разумеется, не в чине генерала. Теперь план разрабатывался применительно к местным условиям. Поэтому совещание в санджаке длилось дольше, чем предыдущее, проходившее на более высоком уровне. Отзаседав, господа эти тоже отправлялись в кофейню или баню, а по поводу «армянской сволочи, которая в разгар войны доставляет столько хлопот», изъяснялись на жаргоне турецкой черни.
Затем наступал черед каймакамов. Каймакамы собирали в окружных городах начальников районов – мюдиров; только эти заседания уже не именовались торжественно «совещаниями». Мюдиры были почти сплошь молодые люди, за исключением иных седовласых, чья карьера остановилась на чине майора гражданской службы. Каймакамы повторяли то же самое, что сказал вали мутесарифам, а Мутесарифы – каймакамам, правда не в столь изысканных выражениях:
– Будьте уверены, господин Лепсиус, что наше правительство избегает излишней жестокости.
Как всегда в подобных политических беседах, последние реплики с обеих сторон – чистая формальность, пустая комедия, цель которой оставить встречу незавершенной. Энвер-паша не сделал ни малейшей уступки. Что следует считать «излишней жестокостью» – осталось на его усмотрении. Но и Лепсиус говорил сознавая, что это пустые слова, нужные только как концовка.
В отличие от Лепсиуса генерал сейчас особенно изящен и подтянут. Он пропускает гостя вперед и даже делает вместе с ним несколько шагов; затем несколько удивленно, но бесстрастно смотрит вслед пастору, который, пошатываясь, словно слепой, ощупью бредет по анфиладе комнат, сквозь двери с колышащимися занавесями.
Энвер-паша входит в апартаменты Талаата-бея. Чиновники вскакивают. Лица сияют восторгом. Еще не угасла та почти мистическая любовь, которую питают даже канцелярские крысы к пленительному богу войны. Из уст в уста передаются сотни легенд, прославляющих его безумную храбрость. Когда во время войны в Албании взбунтовался артиллерийский полк, Энвер с сигаретой в зубах встал перед стволом гаубицы и крикнул бунтовщикам: «Стреляйте!»
На его холеном лице народ видит отблеск сияния мессии, он посланник бога, который воскресит империю Османа, Баязета и Сулеймана.
Энвер весело здоровается с чиновниками. Бурный восторг. Угодливые руки экзальтированных поклонников спешат одну за другой распахнуть перед ним двери канцелярских помещений, ведущих в кабинет Талаата-бея.
Для громоздкой фигуры министра кабинет слишком мал. Когда этот богатырь встает из-за стола – вот как сейчас, – он заслоняет собой все окно. Крупная голова Талаата на висках седая. Восточного склада лицо, мясистые губы, черные как смоль усики. Уголки стоячего воротника сжимают тяжелый двойной подбородок. Выпирающее брюшко обтянуто пикейным жилетом, белизна которого, должно быть, символизирует чистосердечие. Когда Талаат-бей встречается со своим соратником по дуумвирату, у него неизменно возникает потребность своей могучей медвежьей лапой отечески погладить по плечу этого юного баловня судьбы. И всякий раз этому дружескому жесту мешает излучаемая Энвером непроницаемая застенчивость.
При всем том Талаат обладает кипучей энергией; он светский человек и оратор, отличающийся шумным апломбом и способный припереть к стенке хоть пять дипломатов зараз; а народный кумир Энвер, супруг принцессы, султанской дочери, иной раз на большом приеме стоит в стороне один, смущенный, задумчивый.
Талаат опускает свою огромную мясистую руку и ограничивается вопросом:
– Был у тебя немец?
Энвер-паша смотрит на Босфор, на его плещущие волны, на снующие пароходики и игрушечные киики, на кипарисы и развалины, которые сейчас кажутся нереальными, плохо нарисованными декорациями. Затем оборачивается и оглядывает пустой кабинет; взгляд его останавливается на старом телеграфном аппарате, который, как драгоценная реликвия, стоит на покрытом ковровой скатертью столике. На этом жалком аппарате мелкий почтовый служащий, телеграфист Талаат выстукивал азбуку Морзе, пока резолюция Иттихата не возвысила его до положения видного государственного деятеля в царстве калифа. Пусть каждый посетитель воздаст должное, дивясь этому убедительному свидетельству головокружительной карьеры. Вот и Энвер благожелательно и долго рассматривает многоговорящий аппарат прежде чем ответить на вопрос Талаата.
– Да, тот самый немец. Пытался припугнуть рейхстагом.
Из этого замечания можно заключить, сколь прав был патриарх Завен, предупреждая Лепсиуса, что всякие уговоры и призыв к человеческим чувствам с самого начала обречены на неудачу.
Секретарь приносит пачку депеш, которые Талаат подписывает стоя. Не отрывая глаз от бумаг, он говорит:
– Эти немцы боятся быть скромпрометированными соучастием. Но им еще придется обращаться к нам с просьбами почище, чем хлопоты об армянах.
Разговор о депортации на этом бы и кончился, если бы Энвер не кинул любопытный взгляд на телеграммы. Талаат перехватил этот взгляд и отодвинул бумаги:
– Подробные инструкции для Алеппо! Думаю, дороги уже освободились. В ближайшие недели можно будет отправить этапы из Алеппо, Александретты, Антиохии и со всего побережья.
– Антиохии и побережья? – переспрашивает Энвер и, кажется, хочет сделать какое-то замечание. Но ни звука не произносит и только пристально следит за толстыми пальцами Талаата, который в каком-то исступлении подписывает бумаги, одну за другой. Те же толстые, грубые пальцы написали незашифрованный приказ, адресованный всем вали и мутесарифам. Приказ гласил:
«Цель депортации – уничтожение».
Быстрый и энергичный росчерк свидетельствует о непреклонности, не знающей сомнений.
Министр расправляет спину, все свое грубо сколоченное тело.
– Так! Осенью я смогу сказать всем этим людям напрямик: La question armenienne n’existe pas[50 - Армянский вопрос больше не существует (франц).].
Энвер стоит у окна, он ничего не слышит. Думает ли о доставшихся ему владениях калифа, которые простираются от Македонии до передней Индии? Озабочен ли снабжением армии боеприпасами? Или мечтает о новых приобретениях для своего сказочного дворца на Босфоре? B огромном бальном зале он велел поставить свадебный трон, который принесла в приданое Наджийе, дочь султана. Четыре колонки из позолоченного серебра поддерживают звездное небо над троном – балдахин из византийской парчи.
Иоганнес Лепсиус все еще бредет по улицам Стамбула. Уже за полдень. Час обеда упущен. Пастор не решается идти к себе, в отель «Токатлян». Это армянская гостиница. Ужасом и унынием охвачены там все, от хозяина и гостей до последнего официанта и мальчика-лифтера. Они знают, куда он пошел, знают, что он задумал. Как только он вернется, он станет предметом всеобщего внимания.
Пускай сыщики и соглядатаи, которые по приказанию Талаата-бея ходят за ним по пятам, стараются сколько угодно. Но вот беда – Лепсиуса уже много часов ждут друзья-армяне в безопасном месте. Среди них Давтян, бывший председатель Армянского национального собрания; он – один из недавно арестованных армянских деятелей, он совершил побег и теперь прячется в Стамбуле. У Лепсиуса не хватает сил и мужества предстать перед этими людьми. Если он не придет, им станет все ясно и, надо надеяться, они разойдутся. Даже самые мрачные пессимисты среди них (впрочем, все они мрачнейшие пессимисты, – это так естественно), даже они считали, что вовсе не исключено, что пастору разрешат поездку в глубь страны. Это хоть что-то дало бы.
Пастор забрел в городской сад. И здесь все по-праздничному. На спинках скамеек колышатся гирлянды цветов. На шестах и фонарных столбах реют флаги с полумесяцем. Человеческая масса, омерзительная людская гуща, теснится между клумбами по дорожкам, посыпанным гравием. Шатаясь, в каком-то забытьи, Лепсиус замечает скамейку, на которой есть одно свободное место. Садится. Перед глазами поплыл переливающийся красками полукруг. И в ту же секунду грянул турецкий военный оркестр, завизжала, заливаясь трелями, музыка янычар[51 - Янычары (тур. yeniceri – букв. новое войско) – регулярная турецкая пехота, выполнявшая в стране жандармские функции и являвшаяся оплотом трона. Создана в XIV веке. Первоначально вербовалась из военнопленных, а позже – из мальчиков христианского населения, которых насильственно отбирали у родителей и приучали к военному делу. Упразднена в XIX веке.«Янычарская музыка» – исполнялась оркестром, состоявшим преимущественно из ударных инструментов. Отличалась очень шумным характером.]. Свистки, дудки, флейты, пронзительный голос кларнета, грохот меди – все эти звуки слились, режут слух как острый нож, скользят то вверх, то вниз по ступенькам гаммы, а время от времени врывается фанатичный лай турецких барабанов, позвякивание бунчука, пронизанный ненавистью шип турецких тарелок. Иоганнеса Лепсиуса захлестнула эта музыка, она ему уже по горло, он будто в ванне с битым стеклом. Но не ищет избавления, готов принять муки, прижать к телу это битое стекло. И вот Иоганнесу Лепсиусу дается то, в чем отказал ему Энвер-паша. Он – звено в длинной веренице людей, обреченных на ссылку. Среди доверенного ему богом народа бредет он мысленно то по каменистым, то по болотистым проселкам Анатолии. А не проклинают ли его сейчас родные и близкие, чьи тела разрывают на части снаряды в Аргоннах, на полях Подолыцины, Галиции, на морях и в воздухе? Разве нескончаемые поезда с ранеными не менее страшное зрелище, от которого нельзя не завопить? Разве у раненых и умирающих немцев не такие же, как у армян, глаза? У Лепсиуса кружится голова от усталости и от музыки янычар, в которую он погружается все глубже.
В визгливую, неистовую музыку врываются новые звуки, громоподобный гул, который все усиливается. Он доносится с неба. Турецкая эскадрилья кружится над Стамбулом, сбрасывает порхающие в воздухе облачки прокламаций. Иоганнесу Лепсиусу ясно – хоть он и не знает почему, – монопланы, что носятся по небу, это воплощение первородного греха, венец гордыни человеческой. Он блуждает в открывшейся ему истине, как в огромном дворце, как в министерстве внутренних дел. Горят трепещущие занавеси, и ему вспоминается одно место в Откровении святого Иоанна, он процитирует его в своей будущей проповеди: «…По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну… на ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее – как стук от колесниц… у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была – вредить людям пять месяцев…»[52 - Откровение святого Иоанна, 9. Верфель цитирует текст Апокалипсиса не подряд, многоточия проставлены им.]
Лепсиус вздрагивает в испуге: нужно изыскать новые средства и пути. Если германское посольство не в состоянии ничего сделать, может, австрийский маркграф Паллавичини, личность выдающаяся, будет удачливей? Он мог бы пригрозить репрессиями, ведь мусульмане Боснии – австро-венгерские подданные. Да испанские предупреждения были чересчур мягкими. Но еще миг – и к Лепсиусу приближается Энвер-паша, а на устах его та же незабываемая улыбка. Застенчивая? Нет, это не то слово, так не назовешь эту не то мальчишескую, не то девичью улыбку великого убийцы. «Господин Лепсиус, мы будем придерживаться политики, отвечающей нашим интересам. Воспрепятствовать нам может только держава, которая выше всех интересов и не замешана ни в каких мерзостях. Если вы найдете такую державу в дипломатическом справочнике, то дозволяю вам снова явиться ко мне в министерство».
Лепсиуса знобит, трясет как в лихорадке, так что сидящие рядом с ним женщины в покрывалах поднимаются и, пугливо озираясь, уходят. Он этого не замечает, его осенила горестная догадка: ничего больше сделать нельзя. Помощи ждать неоткуда. Истина, которую еще несколько недель назад постиг священник Тер-Айказун в Йогонолуке, открывается сейчас и пастору Иоганнесу Лепсиусу: «Мне остается только одно – молиться».
Мимо него движется праздничная, шумная толпа, раздается женский смех, детский визг. Толпа валит к военному оркестру, а пастор, закрыв глаза, то мотает головой, то молитвенно складывает руки или воображает, что делает это. Но в душе уже звучит: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое…»
Но что случилось с «Отче наш»?! В каждом слове таится бездна, которую взглядом не охватить. Уже при слове «наш» или «мы» теряешь голову. Кто вправе еще произнести «мы», если Христос – тот, кто вяжет и решает, на третий день вознесся на небо? Без него все прочее – смердящая гора черепков и костей вышиною с полвселенную. Лепсиус вспоминает запись в дневнике матери, которую она сделала пятьдесят шесть лет назад, когда его крестили:
«Да будет имя его Иоганнес всегда мне напоминанием, что моя великая и святая задача – вырастить из него истинного Иоанна, иными словами, такого, какой по-настоящему любит Господа и идет по его стопам». Стал ли он истинным Иоанном? Исполнен ли он до краев веры, чувства, которое не выразить словами? Ах, вера моя грозит иссякнуть, если ослабеет тело. Опять дает себя знать сахарная болезнь. Надо быть поосторожней в еде. Ничего сладкого, мучного, никакого картофеля. Возможно, Энвер спас его тем, что не разрешил поездку в Анатолию.
…Позвольте, что здесь делает швейцар гостиницы «Токатлян»? С каких пор носит он барашковую офицерскую шапку? Уж не Энвер ли его прислал? Швейцар вежливо подает ему тескере, внутренний паспорт. На паспорте фотография Наполеона с его собственной подписью. И в самом деле, у вращающейся двери гостиницы его ждет эшелон ссыльных. Друзья в сборе. Давтян и все другие. Они весело ему кивают. «Наши прекрасно выглядят», – думает пастор. Даже в самой страшной действительности, когда столкнешься с нею лицом к лицу, находится что-нибудь утешительное. Привал сделали на берегу какой-то реки, под отвесными скалами. Есть даже палатки. Наверное, Энвер тайно разрешает кое-какие поблажки.
Когда все улеглись, к Лепсиусу подходит высокий армянин в одежде, сверху донизу забрызганной илом. Говорит как-то странно торжественно, на ломаном немецком языке:
– Смотри. Этот бушующий поток – Евфрат. А вон там мои дети. Перебрось свое тело с этого берега на тот, тогда у детей моих будет мост.
Лепсиус притворился, что счел это шуткой.
– Тогда вам с детками придется чуточку подождать, пока я немножко подрасту.
И вдруг он начинает расти с чудесной быстротой. Руки и ноги сами собой вытягиваются бесконечно далеко. Теперь-то он может преспокойно исполнить просьбу армянина. Но до этого не доходит, потому что Иоганнес Лепсиус теряет равновесие и чуть не падает со скамейки.
– Какой ужас! – Он говорит это сегодня второй раз.
Сейчас это относится к жажде, которая его мучит. Он вскакивает, вбегает в ближайший кабачок и, пренебрегая предписаниями врачей, осушает целый стакан напитка со льдом. Одновременно с приятным ощущением у него возникают новые, смелые планы.
– Я не сдамся, – смеется он.
Его бездумный смех означает объявление войны Энверу-паше. А в эту самую минуту личный секретарь Талаата-бея вручает дежурному телеграфисту те самые правительственные депеши, в которых идет речь об Алеппо, Александретте, Антиохии и побережье.
Глава шестая
ВЕЛИКИЙ СХОД
С того дня, как почтенный вали Алеппо Джелал-бей отказался выполнить в подчиненном ему районе правительственный приказ о депортации, с того весеннего дня ничто больше не тормозило антиармянскую политику Энвера и Талаата; отныне все шло гладко, без чрезвычайных происшествий и нежелательных осложнений. Сначала, согласно установленному, тщательно продуманному порядку действий, каждый губернатор получал извещение из министерства, затем в определенный срок следовали приказы о проведении соответствующих мер. В виде исключения бюрократическая машина работала удивительно аккуратно, на радость чиновничьему сердцу. Получив надлежащую бумагу из министерства, вали отдельных провинций немедленно созывали на срочное совещание мутесарифов – начальников санджаков, которые входили в состав вилайета. К участию в совещании привлекались и высшие военные чины района. Открывал заседание его превосходительство вали, паша такой-то, речью примерно такого содержания:
– Господа, присутствующие на данном совещании имеют в своем распоряжении четырнадцать дней, дабы провести в жизнь указанные мероприятия. По прошествии этого срока последний эшелон депортируемого населения должен быть – живой или мертвый – за пределами вилайета. Возлагаю на вас ответственность за безотлагательное и радикальное выполнение приказа, хотя бы потому, что лично отвечаю за это перед господином министром внутренних дел.
Засим совещание обсуждало выработанный губернским управлением план депортации. Мутесарифы выступали с возражениями и поправками, генерал сообщал, какое количество солдат и заптиев командирует для конвоирования ссыльных. Примерно через час отзаседавшие вольны были отправиться в баню или кофейню, если только вали не давал тут же банкет.
Мутесарифы отбывали в свои резиденции. Там повторялась та же игра. Они в свою очередь созывали на совещание каймакамов – управляющих округами, из которых состоял санджак. К участию в совещании опять же привлекался местный военный комендант, но, разумеется, не в чине генерала. Теперь план разрабатывался применительно к местным условиям. Поэтому совещание в санджаке длилось дольше, чем предыдущее, проходившее на более высоком уровне. Отзаседав, господа эти тоже отправлялись в кофейню или баню, а по поводу «армянской сволочи, которая в разгар войны доставляет столько хлопот», изъяснялись на жаргоне турецкой черни.
Затем наступал черед каймакамов. Каймакамы собирали в окружных городах начальников районов – мюдиров; только эти заседания уже не именовались торжественно «совещаниями». Мюдиры были почти сплошь молодые люди, за исключением иных седовласых, чья карьера остановилась на чине майора гражданской службы. Каймакамы повторяли то же самое, что сказал вали мутесарифам, а Мутесарифы – каймакамам, правда не в столь изысканных выражениях: