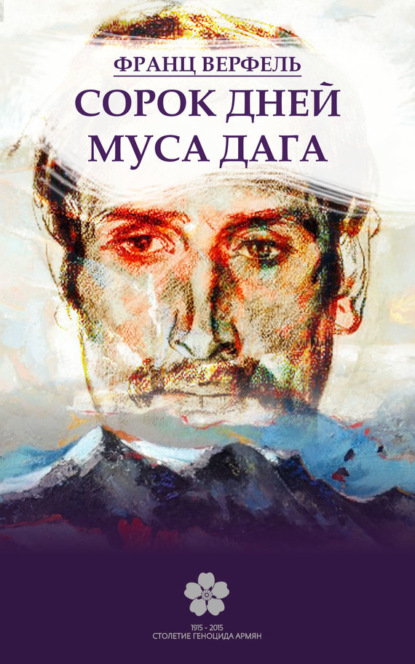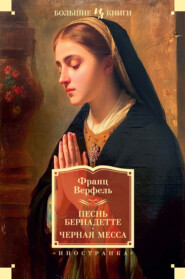По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сорок дней Муса-Дага
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мы еще посмотрим, кому здесь дано смеяться. Я наделен командирским званием, а сей господин не что иное, как тунеядец, которого мы терпим среди нас. Я уже имею кое-какое мнение на этот счет.
И убежал, не попрощавшись.
Устало махнув в знак извинения рукой, Грикор заявил:
– Этот субъект всегда хочет быть чем-то большим, чем он есть. Завтра он вернется.
Аптекарь, превосходно знавший своего ученика, оказался прав. Сам же он, этот Сократ Йогонолука, должно быть, уже преодолел трагическое потрясение своего созерцательного образа жизни. Начиная со второго дня на Муса-даге, он всячески старался жить как прежде, в долине. Таков уж закон мудрости. Козлиная бородка, словно приклеенная к желтому гладкому лицу, подпрыгивала в такт его словам, когда он так и сыпал неопровержимыми цитатами, фантастическими формулами и нелепейшими названиями растений, минералов и элементов, черпая их из бездонного моря своих знаний. И все же прежнее ожесточенное рвение к поучениям угасло, уступив место какому-то пугающему просветлению.
Среди вечерних гостей Жюльетты были не только названные гости, но и жены именитых людей Йогонолука. Как только выпадал свободный час, приходила жена доктора Алтуни Майрик Антарам. Мухтарша Кебусян появлялась редко, но всегда снедаемая ненасытным любопытством. Ей необходимо было все увидеть собственными глазами, она умоляла Жюльетту открыть ей все тайны Трех шатров. Она не уставала расхваливать кухонную плиту, мастерски сложенную Ованесом из камня и поднятых на гору плит, приспособленную для приготовления всех видов пищи: и варки, и жарки, и печения. Без конца восторгалась легкими и мягкими кроватями в палатках, складной мебелью, резиновыми ваннами, столовыми приборами, роскошными чемоданами и саквояжами. Глубоко взволнованная, она совала нос в ящики с провиантом, похваливала коробки с консервами, сардины, пачки сахара, мыла. Избавиться от достойнейшей посетительницы и ее рыскавших по всем углам глазок Жюльетте удавалось, лишь вручив ей дары из запасов: плитку шоколада или банку консервов. Супруга мухтара изливалась в благодарности и клялась в верности столь же рьяно, как прежде расхваливала все и вся. А Майрик Антарам, напротив, сама всякий раз приносила какой-нибудь гостинец – горшочек с медом или красно-коричневый абрикосовый джем, – это любимое лакомство армянской деревни, подаваемое обычно к завтраку. Госпожа Алтуни передавала эти подарки Жюльетте тайком.
– Когда они все разойдутся, тогда и покушай, душенька, полезно это. Ни в чем ты у нас не должна нуждаться… – говорила она, глядя на Жюльетту своими такими отважными и совсем не жалостливыми глазами. Оставалась бы ты там, откуда пришла, моя красавица! – добавляла она.
Искуи Товмасян проводила с Жюльеттой меньше времени, чем в йогонолукском доме. Девушка обратилась к Тер-Айказуну с просьбой взять ее в школу помощницей учителя. Просьбу эту священник благосклонно удовлетворил. Но Жюльетта осталась недовольна подобным оборотом дела.
– Ты у нас отдохнуть еще не успела и опять на мучение идешь? Зачем это? В нашем положении это не имеет ни малейшего смысла.
Странно все сложилось у Жюльетты с Искуи. Окружив девушку с первых же минут встречи ласковой заботой, ей, казалось, удалось преодолеть и упорную робость, а затем и услужливую готовность, за которыми Искуи таилась. Уже несколько недель как Искуи была внешне всегда ласкова с Жюльеттой, по утрам и вечерам обнимала и целовала старшую подругу. Но Жюльетта хорошо чувствовала – ласки и нежности эти были лишь подражательными, неким приспособлением, как то бывает, когда человек произносит слова незнакомого языка не понимая их подлинного значения.
Внутренняя твердость Искуи, сокровенный ее кристалл, необоримо чужое так и не растопились. Не утаим, что Жюльетта страдала, сознавая неприступность этой души, ибо каждый удар, наносимый ее власти, сразу же поражал и ее чувство собственного достоинства. Так, переход Искуи на работу в школу обернулся чем-то вроде поражения Жюльетты. Искуи проводила теперь многие дневные часы на так называемой школьной площадке, довольно далеко расположенной от Трех шатров. Там была и большая доска, и счеты, и карта Оттоманской империи, и много азбук и хрестоматий. Разве не символично для этого народа, что в великой беде своей, подаваясь в бегство, он не забыл прихватить учебные пособия для детей! «Лелеет земля просвещенных детей…»
Несколько сот озорников – можно назвать это войском – сидело на поляне, в тени, впрочем, кто сидел, а кто л лежал. Воздух оглашался резкими птичьими голосами. Покамест преподаватель нес свою воинскую службу на позициях или в лагере, Искуи должна была одна-одинешенька воевать с этой бандой, не знавшей никакого удержу. Да, наводить тишину среди этих дикарей от четырех до двенадцати лет было, конечно, делом невозможным. Искуи не имела сил выстоять в этой схватке. А так как по прошествии некоторого времени она переставала слышать даже собственный голос, она просто-напросто впадала в апатию, безучастно сидела и ждала, когда же наконец придет кто-нибудь из умудренных опытом учителей, скажем Восканян. А он, надо сказать, тут же нагонял на этих бесенят дикий страх. Закоренелый милитарист, он, не выпуская карабина из рук, шагал сквозь толпу ребятишек с таким видом, будто сейчас же воспользуется законами военного положения и всех их перестреляет. Ивовый прут, который тоже всегда был при нем, со свистом разрезая воздух хлестал и пpaвого и виноватого. Одну группу несчастных он ставил на колени прямо на острые камни, другую заставлял держать в руках над головой что-нибудь тяжелое. С выражением величественного презрения на лице он удалялся со школьной площадки, оставив заместительницу наедине с плодами своей воинственной педагогики в какой-то угрюмой, мертвой тишине.
С первых же дней Жюльетта заметила, что подобного напряжения Искуи не выдержать. Девушка побледнела, да и само личико стало совсем маленьким, а глаза – огромными, какими были тогда, когда она пришла из зейтунского ада. Жюльетта стала уговаривать девушку отказаться от школы. Искуи непонимающе взглянула на нее, как бы говоря: разве можно в подобный час отказываться даже от столь смехотворно ничтожных обязанностей? Напротив, она будет искать себе занятия и для второй половины дня. С чувством неприязни к ней Жюльетта отвернулась. Но что-то ей подсказывало: силы девушки подтачивают не занятия в школе, а душевные страдания, которые она тщательно скрывает. Впрочем, Жюльетта тут же отбросила эту мысль. Какое ей дело до страданий других, ей, такой здесь одинокой и несчастной? Она теперь часами не поднималась с постели. Теснота палатки угнетала ее. Через щель в пологе проникали два режущих луча, ужасно мучивших ее. Но не хватало сил встать и затянуть полог.
«Нет, я заболеваю, – надеялась она. – Ах, если бы я уже была больна!»
Сердце бешено колотилось – вот-вот разорвется от неисполнимых желаний. Жюльетта тосковала по Габриэлу, но не по тому Габриэлу, каким он был теперь и здесь, а по прежнему Габриэлу, тому чуткому и деликатному мужчине, у которого всегда доставало нежного такта дать ей забыть все, что нельзя было преодолеть. Она тосковала по Габриэлу времени Авеню-Клебер, по Габриэлу в просторной светлой квартире, такому веселому Габриэлу, каким он выходил к завтраку. Она тосковала по элегантному господину в смокинге, с которым она ходила в театр, в ярко освещенные рестораны. Габриэлу, всегда восхищенному ею, всегда выдвигавшему ее вперед, как будто она нечто более высокое и драгоценное, чем он – армянин. Этот ее далекий мир глухо гремел автомобильными клаксонами, подземными поездами метро, мелодичным говором прохожих, звуками и запахами столь знакомых магазинов и универмагов…
Жюльетта зарылась лицом в подушку – свою единственную собственность, клочок родины, все, что ей осталось. Она искала самое себя в нежнейшем аромате, всеми силами души стремясь удержать родные образы и картины. Но нет, не удавалось! Какие-то вращающиеся солнечные блики проникали меж сжатых век. Разноцветные круги со сверлящими зрачками в центре, огромные глаза, страдающие и полные упрека, со всех сторон смотрели на нее. То были глаза Габриэла и Стефана, армянские глаза, это они неотступно преследовали ее. А. когда она вскинулась, глаза и в самом деле приблизились к ней и лицо – чужое и бородатое. С ужасом она уставилась на Габриэла. От него веяло далью, ночами, проведенными под открытым небом, сырыми запахами земли. Он говорил торопливо, словно меж двух неотложных дел:
– Ты довольна, cherie? Тебе что-нибудь надо? Я забежал на минутку проведать тебя.
– Мне ничего не надо. Благодарю.
Она не отнимала своей еще сонной руки. Несколько минут он молча сидел рядом, будто ему не о чем было говорить с Жюльеттой. Потом встал. Но она капризно поднялась на подушке.
– Ты что ж, считаешь меня пустышкой, материалисткой, что говоришь только о благополучии внешнем?
Он не сразу понял ее.
– Я не могу так жить! – сдерживая рыдания, воскликнула она, Он снова подошел к ней и серьезно сказал:
– Понимаю, что ты не можешь так жить, Жюльетта. Невозможно жить в обществе, оставаясь в стороне. Тебе необходимо чем-нибудь заняться. Ступай в лагерь, старайся помочь, будь человечной!
– Это общество не мое…
– И не мое. Не мое настолько, насколько ты думаешь, Жюльетта. Наше место не столько там, откуда мы пришли, сколько там, куда мы стремимся.
– Или не стремимся… – уже не сдерживая слез, сказала она.
Когда он ушел, Жюльетта встала. Может быть, он прав? Так и впрямь продолжаться не может… И Жюльетта обратилась к Майрик Антарам – пусть доктор использует ее для ухода за больными в лазарете. Мысль о тысячах и тысячах француженок, которые в эти дни ухаживали в госпиталях за ранеными, помогла ей принять это решение. Петрос Алтуни очень удивился ее приходу, но затем принял предложенную помощь.
В тот же день Жюльетта, как и подобает, в фартуке и косынке пришла в большой сарай. Благодарение богу, на Дамладжке было не так уж много тяжело больных, в лазарете лежали в основном пожилые люди. Два-три мечущихся в жару старика, прикрытые тряпьем, лежали на задубевших после ливня матрацах и циновках. Дыхание у всех было короткое, частое, как будто они после длительной погони рухнули, добежав сюда. Серые, чуть ли не черные лица. Нет, эти люди уже не здесь, они уже по ту сторону… Не ровня они мне! – чувствовала Жюльетта, испытывая легкое сострадание, но больше – отвращение. Она сожалела, что внутренне неспособна к милосердию, какое здесь было нужно. Ей казалось, что оно подобно самоотрицанию. И она приказала принести из своих палаток все белье, без которого можно было обойтись.
Четвертое августа проходило до полудня как все предыдущие дни. Когда рано утром Габриэл Багратян просматривал в бинокль долину, перед ним лежали совсем опустевшие деревни, и так и хотелось думать, что все закончится счастливо, воюющие державы вскоре заключат общий мир и вернется жизнь. Полный надежд, Багратян спустился с дерева, намереваясь обойти секторы обороны. Неожиданный смотр-ревизия производимых работ и дружин вполне его удовлетворил, так что около полудня он вернулся на свой – командный пункт. Прошло несколько минут, и со всех сторон примчались юные дозорные: на дороге из Антиохии в Суэдию клубы пыли. Идут солдаты! Много солдат! Четыре отряда! За ними – заптии и большая толпа народа. Как раз сворачивают в долину и уже втянулись в первую деревню – Вакеф. Багратян бросился к ближайшему наблюдательному пункту и вскоре установил:
по дороге, проходящей через деревни, двигалась маршевая колонна силой. в пехотную роту полного состава военного времени. Капитан, – ехавший на коне рядом с колонной, был, очевидно, ее командиром. Да чуть враскачку шагали четыре взвода, на некотором расстоянии друг от друга! Значит, это была регулярная войсковая часть. Возможно, даже обстрелянные солдаты из казарм Антакье, где стояла недавно сформированная армия Джемаля-паши. Сильно отставая от нее, плелась примерно сотня заптиев, а по обеим сторонам войсковой колонны пылил сброд Антиохии.
Появление вооруженной силы чуть ли не в четыреста штыков (если считать и заптиев) в этой богом забытой глуши на открытой дороге заставило Багратяна даже склониться к мысли, что у колонны совсем иная цель. И только когда после небольшого привала и совещания офицеров рота, миновав Битиас, повернула на северо-запад к Муса-дагу, стало ясно: цель похода – бежавшее население окрестных армянских деревень. Возможно, где-нибудь в округе нашелся доносчик, который понял, что означает звон топоров на Муса-даге. Или же Арутюна Нохудяна пытали так долго, что он выдал местопребывание своих земляков. Как бы то ни было, а каймакам, должно быть, счел, что предстоит простейшая полицейская операция, даже более безопасная, чем охота на дезертиров. Следовало обнаружить, окружить и согнать в долину горных жителей, устроивших себе лагерь под открытым небом. Видя в этом свою задачу, рота, должно быть, представлялась себе чрезвычайно мощной силой, да она и была таковой, если учитывать, что в распоряжении сынов Армении было только триста исправных ружей, очень мало боеприпасов и почти полностью отсутствовали обученные солдаты.
Когда колонна достигла Йогонолука, Багратян уже поднял весь лагерь по тревоге, как он это все дни репетировал. Глашатаи скликали население Котловины Города, а группа ординарцев юношеской когорты рассыпалась по всей горе с приказами для остальных секторов обороны. Несколько юных разведчиков отважились спуститься почти в самую долину с целью выявить состав и направление движения врага. Как и было заранее условлено, Тер-Айказун, семеро мухтаров и более пожилые члены Совета уполномоченных остались с жителями лагеря. А эти, казалось, и дышать боялись, даже грудные дети не плакали. Все мужчины резерва лопатами, тяпками, топорами набрасывали вокруг лагеря бруствер, чтобы быть готовыми защищать его до последнего.
Габриэл Багратян стоял в группе младших командиров вместе с Чаушем Нурханом. Все было предусмотрено. Но так как предстоял первый бой и ни одному из секторов не угрожала непосредственная опасность, Багратян, оставив на второстепенных участках одно прикрытие, бросил все находившиеся в его распоряжении дружины на оборону Северного седла.
Вся система состояла из четырех линий окопов. Первая и главная прикрывала левое крыло Дамладжка. Чуть повыше – на несколько сот метров вдоль естественного бруствера шла вторая линия, на лобовой стороне горы – линия обороны фланга с выдвинутыми вперед гнездами для отдельных стрелков и в стороне, обращенной к морю, не поддаваясь обзору – естественные баррикады из известковых скал. Первую линию заняли приблизительно двести человек, вооруженных лучше остальных и по предположениям – лучшие бойцы. Командование этой линией Багратян взял на себя. Ни Саркиса Киликяна, да и никого из других дезертиров среди них, разумеется, не было. Часть отборных дружин под командованием Чауша Нурхана Багратян отправил на скальные баррикады. Вторая линия окопов на случай неблагоприятного развития событий была занята еще двумя сотнями бойцов. Каждому было роздано по три магазина, то есть по пятнадцать патронов. Багратян внушал им:
– Ни одного выстрела мимо! И если бой будет длиться трое суток, все равно патронов больше никто не получит. Берегите боезапас, иначе мы погибли. И самое главное – без моего приказа огня не открывать! Всем следить за мной. Враг не подозревает, что мы здесь окопались. Мы должны подпустить его на десять шагов. Целиться в голову. Спокойно спускать курок. В ближайшие часы мы здесь, на Дамладжке, отомстим за преступления, совершенные над нашим народом. В ближайшие же часы докажем врагу: как мы ни слабы – мы во сто крат сильнее его! А теперь пусть каждый из вас думает только о том, что враг сделал с нами, и больше ни о чем!
Сердце Габриэла Багратяна при этих словах стучало так громко, что ему пришлось взять себя в руки, чтобы никто ничего не заметил. И это было не только глубокое волнение, охватывающее всякого перед атакой, это было и сознание чудовищности, полнейшего безумия затеянного им с этой смехотворно малой горсткой людей против могущественнейшей армии в мире. Однако вопреки столь зажигательной речи, в его кипящей крови не было ни жажды мести, ни ненависти, которые он только что внушал бойцам. То было ожидание безличного врага, и не турок вовсе, не Энвера, не Талаата, не жандарма и не мюдира, а лишь врага самого по себе, которого уничтожают не ненавидя. И так же, как Багратян, чувствовали все остальные. Напряженное ожидание достигло предела.Казалось, сердце вот-вот остановится, когда дозорные юноши высыпали из-за кустарника и, дико размахивая руками, сообщили о подходе турок. И сразу же возбуждение сменилось ледяным спокойствием. Шаги солдат слышались все ближе, треск ломаемых веток все громче и громче, ибо враг не ведал об опасности.
Уставшие после длительного подъема турецкие солдаты, не соблюдая строя, мало-помалу заполняли ложбину Седла. Командовавший ими капитан был глубоко убежден, что ему предстоит чисто полицейская операция, а никак не боевая, в противном случае он непременно предпринял хотя бы меры простейшей предосторожности, предписанные уставом для действия во вражеском расположении. Он не выслал вперед авангарда, не поставил ни фланговых, ни арьергардных дозоров. Болтая, смеясь, закуривая, турецкие пехотинцы толпились в ложбине, отдыхая после подъема в гору.
Чауш Нурхан подполз по окопу к Габриэлу Багратяну и шипящим шепотом, сопровождаемым оживленной жестикуляцией, пытался убедить командующего – надо, мол, окружить турок, отрезать им пути отхода. С искаженным лицом Багратян зажал Нурхану рот и оттолкнул его.
Командир пехотной роты как раз снял свою папаху с полумесяцем и вытирал пот со лба. Молодые командиры взводов толпились рядом. Разглядывая небольшую карту, они довольно беспорядочно, нарушая все положения пехотного устава, спорили и перекликались, пытаясь определить местонахождение армян. А запыхавшийся капитан не дал себе даже труда подняться повыше и провести рекогносцировку. В конце концов он приказал трубачу протрубить развод караула, должно быть намереваясь таким образом нагнать страх на армян, – суд, мол, идет! Все четыре взвода рассыпались в две линии, одна в затылок другой, затем построились, как на казарменном плацу: младшие офицеры выскочили вперед и отрапортовали старшим, а уж те, с саблями наголо, приблизились к капитану, чтобы отрапортовать ему.
Не без чувства некоторой симпатии смотрел Багратян на капитана, запоминая невольно его лицо: широкое, смуглое, вроде бы доброжелательное. Очки в золотой оправе съехали с переносицы. Но вот и он выхватил саблю и высоким негромким голосом скомандовал:
– Примкнуть штыки!
Стук, лязг.
Покрутив саблей над головой, капитан указал ею в направлении на армянское крыло Седла:
– Первый, второй взвод врассыпную за мной!
Старший из командиров взводов, указав саблей в противоположном направлении, отозвался эхом:
– Третий, четвертый взвод врассыпную за мной!
Значит, турки даже не знали, где лагерь бежавших – на Дамладжке или на северных вершинах Муса-дага. Сыны Армении стояли по грудь в окопах. Бруствер, на котором лежали ружья, был хорошо замаскирован, как и прорубленные в кустарниках и мелколесье секторы обстрела. Ничего не подозревавшие турки, рассыпавшись широким фронтом, медленно поднимались все выше и выше. Первая линия окопов была так хорошо скрыта, что, только поднявшись выше, можно было ее обнаружить, а такой возможности у турок не было, разве что кто-нибудь из них взобрался бы на дерево на противоположном крыле Седла.
Габриэл Багратян поднял руку. Все взоры устремились на него. Шаг за шагом, очень медленно турки пробирались через мелкий кустарник. Капитан, закурив вторую сигарету, остановился. Неожиданно он вздрогнул… Что это за свежевыброшенная земля вон там, впереди? Прошло несколько секунд, прежде чем он осознал – окоп! Но эта констатация показалась ему столь невероятной, что прошло еще несколько секунд, прежде чем он крикнул:
– Ложись! Ложись!
Поздно. Первый выстрел грянул, когда Багратян еще не успел опустить руку. Армяне стреляли спокойно, уверенно, один за другим, без спешки и суеты. Да, у них было время выбрать цель. А так как жертвы их находились всего в нескольких шагах и в полнейшем оцепенении, ни одна пуля не пролетела мимо. Толстяк капитан с добродушной физиономией крикнул еще несколько раз: