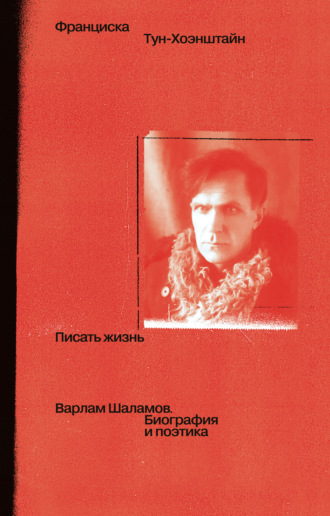
Писать жизнь: Варлам Шаламов. Биография и поэтика
Второй старший сын в семье, Сергей, был на десять лет старше Шаламова. В Гражданскую войну он воевал на стороне Красной Армии и был смертельно ранен осколком гранаты. Отец не смог справиться со смертью любимого сына, вскоре после этого состояние его глаз ухудшилось, и он ослеп. Вспоминая о смерти брата, Шаламов не мог избавиться от того чувства ужаса, которое он, тринадцатилетний мальчик, испытал при виде изуродованного мертвого тела брата в гробу, установленном в их квартире. Это было глубокое потрясение. Сергей был не только любимцем родителей, но важным человеком для младшего брата, находившегося под впечатлением от того, с какой страстностью и легкостью он делал все, за что брался. Шаламов вспоминает, что Сергей поддерживал мать в практической жизни и всегда приносил что-нибудь полезное для хозяйства с охоты. К досаде отца, Сергея отчислили из пятого класса гимназии за неуспеваемость. Но в Вологде, где он был «популярной личностью», его ценили за другие качества: «знаменитый в городе пловец, удачливый охотник, он был главным организатором знаменитого в Вологде народного катанья – ледяной горки с высокой Соборной горы, где сани взлетали на противоположный берег реки», названной в честь него Шаламовской горкой»[97]. Выросший на Алеутских островах, пишет Шаламов, Сергей выбрал в качестве своего идеала свободу.

Ил. 3. Старшая сестра Галина Шаламова в юности. Единственная из братьев и сестер Шаламова, кто встретился с ним после его возвращения с Колымы
Самые глубокие отношения в эмоциональном плане связывали Шаламова с сестрой Натальей (в замужестве Сучкова). В революционном 1917 году, она закончила женскую гимназию, но все ее надежды и чаяния рассыпались в прах. С этого времени на ее плечах лежала ответственность за родителей и десятилетнего брата. Она похоронила свои мечты об учебе, закончила в Вологде двухгодичные сестринские курсы и обеспечивала благодаря работе семью в годы Гражданской войны необходимыми для выживания хлебными карточками. Шаламов говорит о ней с огромным почтением и называет ее «олицетворением справедливости» в семье[98]. Она безоговорочно встала на сторону брата, когда тот на семейном совете воспротивился пожеланию отца и надеждам матери на то, что он отправится в Москву для учебы в духовной академии. Она вышла замуж за деятеля профсоюзного движения, покинула Вологду и поселилась сначала в Нижнем Новгороде, затем переехала в Москву.
О ее дальнейшей жизни известно мало. Второй муж Наташи оказался, по словам Шаламова, «запойным пьяницей»[99], из-за чего она с ним развелась. Позднее ей пришлось освободить комнату в коммунальной квартире, находившейся в центре Москвы, ради партийного функционера и переехать в пригород Перово. Она умерла в конце тридцатых годов от туберкулеза.
В описании Шаламовым жизненных путей братьев и сестер прочитывается некоторая дистанцированность. Он как будто перебирает разные жизненные модели, которые показывают изменившиеся при советской власти отношения между человеком, семьей и государством. Государство проникало во все сферы жизни, не оставляя места для частного пространства.

Ил. 4. Младшая сестра Наталья Шаламова (второй ряд сверху, четвертая слева) среди соучениц выпускного класса. 1917
Распад семьи Шаламов датирует 1918 годом, ознаменовавшим для них конец материального благополучия. Но семья в том виде, в каком она описана в «Четвертой Вологде», уже и до этого года перелома предстает отнюдь не как место, где можно было чувствовать себя надежно защищенным. Шаламов не знал, что такое благополучное детство. Либеральные принципы отца тут же улетучивались, едва речь заходила о том, чтобы позволить детям нащупать собственный путь в жизни. О матери и говорить было нечего – ее жизнь была в полном подчинении отца. Семья предстает у Шаламова как инстанция, которая связана с бесконечным количеством правил, из-за чего каждый постоянно испытывает на себе давление. Для свободных, непринужденных отношений между братьями и сестрами не оставалось места.
Быть может, именно взаимоотношения в семье стали причиной последующих сложностей, которые Шаламов испытывал при формировании близких отношений? Быть может, он был уверен в том, что советское государство, которое все больше вмешивалось в частную жизнь, в конечном счете разрушало человеческие связи? Или он переносил свой более поздний тяжелый опыт на свое детство? Многолетнее принудительное тесное сосуществование с другими людьми в лагере пагубно сказалось на том, как он относился к прочным связям в жизни. Приблизительно в то время, когда он начал работать над «Четвертой Вологдой», в письме к Ирине Сиротинской от 22 июля 1968 года он даже назвал брак и семью «жертвой личности»[100]. Представление о том, что совместная жизнь в какой бы то ни было форме представляет опасность для человека, сохранялось у него после Колымы и двух неудачных браков на протяжении дальнейших лет.
При всей дистанцированности от семьи, о которой пишет Шаламов в «Четвертой Вологде», он как будто освобождается от этого ощущения и признается в том, насколько существенно было влияние родительского дома на его развитие. В другом месте он подчеркивает, что верит в детство: «В раннем детстве записываются черты характера, чертятся, высекаются черты того, что в последующие годы лишь шлифуется, приглушается или обостряется, делается четче, сохраняя в общем неизменным облик»[101]. Если человек получает в детстве «душевное оружие», оно наверняка даст ему силы, чтобы бороться с любой «средой»[102].
Жажда чтения
Шаламов, по его собственным словам, довольно рано начал предпринимать попытки оторваться от семьи: «Моя оппозиция, мое сопротивление уходит корнями в самое раннее детство, когда я ворочался с огромными кубиками – игрушечной азбукой – в ногах моей матери»[103]. Эта сцена полна символического смысла: ребенок самостоятельно, один, занимается кубиками с буквами, в то время как его мать хозяйничает, судя по всему, в кухне. Изучение букв в игре маркирует начало самостоятельности – мальчик начинает осваивать собственный путь к постижению мира. «Я не помню себя неграмотным и смело думаю, что никогда не был таковым», – напишет Шаламов позднее[104]. В три года, сообщает Шаламов, он уже умел читать и писать печатными буквами без помощи «Новой азбуки» Льва Толстого, которую дал ему отец. В семь лет, на год раньше, чем положено, осенью 1914 года его приняли в приготовительный класс гимназии, который он закончил с очень хорошими отметками. Он был весьма сообразительным, и учеба давалась ему легко.
Еще до школы он обнаружил у себя способность быстро читать, схватывать содержание целого абзаца и запоминать его. Он видел в этом особый дар, который помогал ему в разных жизненных ситуациях. Всякий раз, когда он пишет о своей любви к чтению и хорошей памяти, благодаря которой он запоминал прочитанное, в его словах звучит гордость. И только позднее он осознает, что обилие хранящихся в памяти имен, событий, информации может подавлять человека. В детстве же преобладал восторг, который пробуждал в нем ненасытную жажду чтения.
Особенно его трогали приключенческие истории с динамичным, напряженным действием. Поскольку в русской литературе XIX века этот жанр был не слишком развит, то речь шла преимущественно о переводах. В перечнях, приводимых Шаламовым, фигурируют почти все известные имена авторов приключенческой литературы – от Джеймса Фенимора Купера, Понсона дю Террайля, Джека Лондона, Майн Рида, Редьярда Киплинга, Александра Дюма, Конан Дойля до Жюля Верна или Герберта Уэллса. В одном из коротких рассказов Шаламов сообщает, что в библиотеке ему предложили в качестве полезного чтения роман второразрядной немецкой писательницы для юношества Софии Вёрисгофер[105]. Чужие миры, наполненные событиями, и приключения героев окрыляли фантазию и побуждали его проигрывать, шепотом произнося разные реплики по ролям, все прочитанные романы – «Охотников за черепами», «Рокамболь» или «Войну и мир»:
Лет примерно восьми с помощью так называемых фантиков – сложенных в конвертики конфетных обложек – легко проигрывал для себя содержание прочитанных мною романов, рассказов, исторических работ, а впоследствии и своих собственных рассказов и романов, которые не дошли до бумаги и не предполагалось, что дойдут. Это оказалось в высшей степени увлекательным занятием в виде литературного пасьянса («Четвертая Вологда»)[106].
Шаламов описывает свои игру в «фантики» как своего рода переходный ритуал к миру литературы. В игре он оставляет реальный мир с его внешним принуждением и окунается в воображаемые пространства, в которых силой его воображения снимаются все границы и он может пробудить к новой жизни любимых героев приключенческих историй, подчинив их собственной режиссуре. С этой сценой у Шаламова связывается основополагающий опыт – осознание, что силой творчества можно вдохнуть жизнь в предметы: «Мы жили очень тесно. Мое место было последним, а мир фантиков был моим собственным миром, миром видений, которые я мог создавать в любое время»[107].
Еще более отчетливо Шаламов демонстрирует свое непрекращающееся восхищение «фантиками» в рассказе «Берданка», где рассказывает о «волшебном ящике», в котором он хранил «множество бумажек от конфет – портреты генералов»[108]. Даже во взрослом возрасте он не расстается с представлением о том, что вымышленный мир при повторении в игре может ожить: «герои встречались друг с другом, спорили, сражались, искали правду, защищали животных»[109]. Игра в «фантики» не только тренировала воображение и память, но развивала способность выстраивать небольшие диалогические сцены. Эта игра касалась только романов: «Я не играл обертками конфет в нашу семью, в самого себя», – пишет Шаламов[110]. Так игра становится чертой, где соприкасаются фиктивный мир и реальный, искусство и жизнь, но остаются все-таки отличимыми друг от друга: семейные сцены – табу. Он удивлялся, отчего другие не в состоянии понять «простой механики этого превращения – этот театр»[111]. Здесь слышны отзвуки основных положений о трансформации жизни в искусство, которые Шаламов обосновывает в своих поэтологических очерках и заметках, но точечно намечает и в отдельных прозаических произведениях.
Если поэты и писатели берутся описывать свое становление, они нередко помещают в начале некую символическую исходную сцену вхождения в литературу. Одни описывают, когда они впервые, пусть и бессознательно, ощутили звучание и ритм слова[112]. Другие вспоминают о страстном детском желании вступить в соревнование с любимыми авторами и сочинить собственную историю. Шаламов, которому крайне важно было, что он в первую очередь поэт, так же действует применительно к собственной прозе. В рассказе об игре в «фантики» на первом плане для него оказывается открытие, что можно своими силами, хотя и по образцу прочитанных романов, сложить историю и в процессе рассказывания создать мир, в котором на разных тропинках перекрещиваются судьбы разных персонажей, соприкасаются или отдаляются друг от друга. Ни с чем не сравнимая школа сюжетосложения! Десятилетие спустя он будет с восторгом читать в Москве литературоведческие работы русских формалистов о «делании» прозы (и поэзии). В своем собственном творчестве после Колымы, однако, он решительно отмел роман как жанр.
Наряду с восхищением приключенческой литературой в автобиографической прозе Шаламова выступает поэзия. С десятилетнего возраста он считал себя прозаиком[113] (правда, в других местах подчеркивает, что он прежде всего поэт). Но начал он все же со стихов, «с мычанья ритмического, шаманского покачивания – но это была лишь ритмизированная шаманская проза, в лучшем случае верлибр „Отче наш“»[114]. Ироничный кивок в сторону отца очевиден. Только много позже он понял, что́ именно составляет поэзию. «Границы поэзии и прозы, особенно в собственной душе, – очень приблизительны. Проза перехо-дит в поэзию и обратно очень часто. Проза даже прикидывается поэзией, а поэзия – прозой»[115].
Писать он начал с детства, говорит Шаламов в начале «Четвертой Вологды», но ему трудно определиться, шла ли речь при этом о стихах или о прозе. Ему важно в самом начале воспоминаний о детстве зафиксировать наличие творческого импульса в ранние годы. В его рассказе за чтением следовала потребность уйти от реальности и одновременно желание другим способом – через языковое проигрывание – как будто удержать ее, пробудить в преображенном виде к новой жизни:
Проза тоже требует ритмизации и без ритма не существует. Но писание как особенность мгновенной отдачи, для которой я нашел мне принадлежащий, личный способ торможения, фиксации, – а торможение внешнего мира и есть процесс писания, – я отношу к десяти годам, к времени возникновения моей игры в «фантики», моих литературных пасьянсов, которые так тревожили мою семью («Четвертая Вологда»)[116].
Шаламов описывает себя в детстве как беспокойного мальчика, который постоянно искал новый материал, новое вдохновение. Датировки отдельных ярких впечатлений от чтения в воспоминаниях Шаламова сбиваются, но это нисколько не меняет ощущения непрерывности испытываемого восторга от книги и по прошествии многих лет. Его «жажда чтения» все время требовала подпитки. Надежда на тайные книжные сокровища в родительском доме, запретные тексты, случайные находки в странных местах – в подвалах, чуланах или на чердаках – расхожие автобиографические мотивы. В качестве особенного места, вызывавшего восхищение, многократно называется книжный шкаф.
В русской литературе XX века самое знаменитое – и в момент работы над воспоминаниями наверняка известное Шаламову – описание таких находок принадлежит Осипу Мандельштаму. В «Шуме времени» (1925) Мандельштам провел символическую параллель между собственным развитием и расположением книг в родительском книжном шкафу, благодаря которому он усвоил шедевры русской литературы – Пушкина, Тургенева и Достоевского.
Шаламов тоже описывает, как он приближается, будто к святыне, к заветной мечте своего детства, к огромному запертому книжному шкафу красного дерева, чтобы хоть одним глазком взглянуть на книги, укрывшиеся на верхних застекленных полках. Не один раз он вспомнит о том, каково было его разочарование, когда он обнаружил, что там наряду с потрепанными Библиями, требниками и молитвословами стояли в основном руководства по животноводству и приложения к журналам (вроде «Семьи и школы»). Конечно, там были и учебники, среди них хрестоматия для средних учебных заведений. Хрестоматии Шаламова не устраивали, ведь в них были помещены только отрывки, которые включались сюда из соображений педагогической целесообразности. Но были здесь и весьма значительные произведения, достойные внимания, среди них «Война и мир» Льва Толстого, «Столп и утверждение истины», главный труд религиозного философа Павла Флоренского, сочинение Василия Розанова о Достоевском «Легенда о Великом Инквизиторе», некоторые брошюры Карла Маркса, переводы из Гейне в трех томах и роман Андрея Белого «Петербург». Этот ключевой роман русского модернизма Шаламов упоминает только вскользь, хотя в собственной литературной генеалогии он отводит Андрею Белому центральное место. Сухо констатирует он наличие некоторых пробелов: «Ни Достоевского, ни Шекспира не было в библиотеке отца»[117]. Чувствуется желание померяться силами с великанами литературы. Отцовский книжный шкаф, однако, не принес никаких откровений, которые оставили бы глубокий след. «Книжный шкап раннего детства – спутник человека на всю жизнь», – писал Мандельштам[118]. Под этим Шаламов едва ли мог подписаться. Важнейшие открытия для своего воображаемого «книжного шкапа детства» он сделал в других местах.
Отец, который, по словам Шаламова, ценил только ту литературу, которая была полезна в дидактическом смысле или с практической точки зрения, накладывал на некоторые книги запрет. Школьной программы – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого или Достоевского – это не касалось. Не было никаких претензий и к «Маугли» Киплинга, Майн Риду, Уэллсу или Жюлю Верну. А вот морские романы офицера флота Фредерика Марриета, и в первую очередь Александр Дюма и Конан Дойль попали в список запрещенных книг. Запретные тексты обладали особой притягательной силой: полуистлевшая пачка бумаги, которую он обнаружил в чулане под лестницей, оказалась стопкой непрочитанных приложений к журналу с приключениями Шерлока Холмса. Романы Александра Дюма, как он сам вспоминает, он взял из открывшейся в 1917 году библиотеки, куда свозили конфискованные книги из помещичьих усадьб.
Почему именно Марриет, Конан Дойль и Дюма казались отцу особенно опасными? Чтение и знание – разные вещи, пишет Шаламов и продолжает: «Но ни на какое земное счастье не променяю ощущения жажды чтения, <…> это сладостное чувство еще не прочтенной хорошей книги»[119]. От этого «сладостного чувства», предвкушения неведомых приключений, суливших открытия в далеких краях, за пределами знакомой обстановки, сопряженных с опасностями и требовавших свершения великих подвигов, которые неизменно закаляли героя, Шаламов не хотел отказываться и позднее. Быть может, отец чувствовал в беллетристике этого рода ту соблазнительную силу, которая могла увести сына от реальности? Кумиром отца – да и всей литературной Вологды – был, по воспоминаниям Шаламова, близкий по духу к революционерам-демократам поэт и публицист Николай Алексеевич Некрасов, который особенно прославился благодаря своим стихам, содержавшим социальную критику. Постфактум Шаламов оказывает сопротивление прагматизму отца, выбрав особый тон при описании своего детского восторга от приключенческой литературы. Художественная литература, утверждал он, убежденный в своей правоте, не должна преследовать одни только дидактические цели. Она должна питаться свободной игрой фантазии и пробуждать ее у читателя. Жажда чтения не равна жажде знания.
Защита Шаламовым собственного детства становится защитой литературной модели (романа, в частности, приключенческого), которую он почти в то же самое время – в очерке «О прозе» (1965) – программно объявляет анахронизмом[120]. Это не единственный случай, когда Шаламов в своих текстах противоречит собственным максимам. В «Четвертой Вологде» он описывает, какой притягательной силой обладают для детей и подростков приключенческие романы с их часто одиноким, но бесстрашным героем. Этому потенциалу приключенческих историй он придает особое значение, поскольку благодаря ему у ребенка пробуждается любопытство к жизни и вера в свои силы. Как ни парадоксально, но в этих его рассуждениях прочитывается признание не только чисто эстетической силы воздействия литературы на читателя, но и вера в ее воспитательную роль.
Наряду с приключенческими романами XIX века ребенок в скором времени открыл для себя и другие книги. Революционный 1917 год нанес удар по материальному благополучию семьи – пенсия и пособия отца были аннулированы. Реальный голод требовал дани. Книжный шкаф красного дерева, вспоминает Шаламов, был в годы Гражданской войны выгодно обменен на целый пуд муки (около 16 кг). Но «жажда чтения» у мальчика осталась, старые предпочтения не исчезли совсем, однако на первый план теперь все больше выдвигались другие темы и романы, в которых приключения и героическая романтика сочетались с политическими действиями.
Революция в Вологде
В июне переломного 1917 года – в период между Февральской и Октябрьской революциями – Шаламову исполнилось десять лет. Оглядываясь назад, он пишет, что «речь идет о детских впечатлениях, о юношеском восприятии событий, отраженных в нашей семье»[121]. И тем не менее он то и дело переписывает свою реконструкцию детского восприятия, подвергая ее историческому анализу. Есть еще один интересный момент: при чтении невозможно отделаться от впечатления, что его описание в значительной степени определяется темами и приоритетами, обозначенными в свое время отцом. В год революции старшие дети жили уже самостоятельной жизнью, младшая сестра закончила летом женскую гимназию. Самым важным человеком в семье для мальчика был в это время скорее отец, взгляды которого на драматические общественные перемены давали ему ориентир. Священник Тихон Шаламов, публично выступавший за бо́льшее участие Церкви в общественной жизни, приветствовал конец самодержавия в России. Февральские события 1917 года всколыхнули в нем новые надежды на демократизацию русского общества, улетучившиеся после поражения революции 1905 года. В воспоминаниях сына обнаруживаются не только симпатии отца по отношению к движению обновления внутри Русской православной церкви, но и симпатии по отношению к политическим ссыльным, в первую очередь к социалистам-революционерам.
В ретроспективном описании событий для десятилетнего мальчика Февральская революция стала праздником, принесшим приподнятое настроение, соотнесенное в тексте с одной мелкой деталью: отец взял его с собой на манифестацию перед городской Думой. Несмотря на то, что был ясный безоблачный день, они надели начищенные до блеска галоши, без которых невозможно было выйти на улицу, поскольку на немощеных дорогах города было полно грязи. Пока они шли, отец все время повторял, что он должен запомнить этот день навсегда. Февральская революция, пишет Шаламов, началась для него поэтому с «блеска галош», оказалась сцеплена с «сияющим ясным днем, солнцем, заливающим все тротуары и особенно ярко играющим на двух парах галош – отцовских и моих»[122]. Со всех сторон стекались к городской Думе люди с красными бантами и пели революционные песни, тексты которых не все знали наизусть. Отец и сын подошли к мужской гимназии, в которой учился Шаламов. Здесь собралась толпа, наблюдавшая за тем, как старшеклассник сбивал ломом с фронтона огромного чугунного двуглавого орла, символ Российской империи. В конце концов орел рухнул и угодил в сугроб. Отец «твердил что-то о великой минуте России»[123].
Полвека спустя Шаламов сделает вывод: «Февральская революция была народной революцией, началом начал и концом концов»[124]. Он видит в ней значительный рубеж в истории, «стихийную революцию в самом широком, в самом глубоком смысле этого слова»[125], ту самую революцию, которая провозгласила «веру в улучшение общества»[126]. Февральская революция стала кульминацией многовековой борьбы народа за освобождение. Ее стихийный характер и вылившаяся наружу воля народа к свержению самодержавия привели, по его мнению, к расколу русского общества, когда обозначился «водораздел <…> по трещине, щели, линии свержения самодержавия»: «Именно здесь русское общество было расколото на две половины – черную и красную. И история времени так же – до и после»[127].
В этом месте он прерывает свой отчет о пережитых событиях сущностными для него мыслями о героизме, мыслями, которые позволяют распознать его этическую бескомпромиссность. Героического самопожертвования недостаточно, утверждает он, «героизм должен быть безымянным»[128]. Речь не идет об увековечивании подвига отдельного человека. Готовность к самопожертвованию должна быть самоотверженной. Десятки поколений революционеров умерли безымянными – на виселицах, в тюрьмах, в ссылке или на каторге. Нужна революция, чтобы открыть архивы – много лет спустя – и узнать их имена. Среди имен, которые он называет – Наталья Климова, социалистка-революционерка, о которой он, за несколько лет до начала работы над «Четвертой Вологдой», напишет рассказ «Золотая медаль». Его категорическое требование безымянности жертв никак не сказывается на его одновременном интересе к судьбам русских революционеров вроде Натальи Климовой.
По словам Шаламова, к Февральской революции все приложили руку – начиная от ораторов городской Думы и кончая террористическим подпольем и анархистскими кружками. В этой борьбе всякому было свое место – «профессору и священнику, кузнецу и паровозному машинисту, крестьянину и аристократу, либеральному министру и колоднику-арестанту. Каждый старался вложить все свои силы»[129]. «Моральный кодекс» времени требовал «встречать репрессии царского правительства с мужеством»[130]. И тем не менее репрессии коснулись в первую очередь партии социалистов-революционеров. Он, судя по всему, следует за отцом, когда говорит, что Февральская революция в значительной степени была произведена эсерами. Это суждение в полной мере приложимо к Вологде и вологодской губернии, поскольку эсеры, долгие годы находившиеся здесь в ссылке, играли существенную роль.
Вологда поначалу не была центром революционных событий. В первые мартовские дни 1917 года жители узнали из городских газет об отречении царя и переходе власти к Временному правительству в Петрограде. В Вологде, этом северном русском провинциальном городе, власть перешла к временному правительственному губернскому комитету. Смена власти прошла мирно. Большая манифестация, на которую Тихон Шаламов взял с собой младшего сына, проходила под знаком всеобщего подъема. Следующие месяцы протекли тоже мирно. Сначала были избраны советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а в июле 1917 года новый правительствующий парламент. Соотношение сил различных представителей в региональном и городском правительстве многократно менялось. После того как большевики в октябре 1917 года захватили власть в Петрограде, некоторые избранные региональные представительства заявили, что считают их нелегитимными с точки зрения демократических выборов. Большевики получили преимущество в городском совете Вологды только в начале декабря 1917 года. До января 1918 года возглавлявшиеся эсерами крестьянские советы отказывались признавать новую власть. Формирование объединенного исполнительного комитета вологодского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов под руководством большевиков состоялось только в январе 1918 года. На заседании, прошедшем 23 января, было объявлено, что вся власть в Вологодской губернии переходит в руки большевиков. Избранная в июле 1917 года Дума (городской парламент) была фактически ликвидирована. Местная пресса опубликовала 23 января 1918 года соответствующее заявление, в котором население призывали к тому, чтобы спокойно продолжать трудиться на местах.