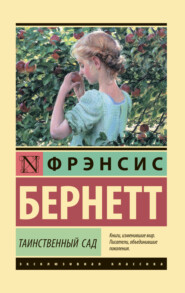По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Маленькая принцесса, или История Сары Кру
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сара взглянула на неё с изумлением.
– Послушай, это все умеют, – сказала она. – Разве ты никогда не пробовала? – Не дожидаясь ответа, она предостерегающе тронула Эрменгарду за руку и шепнула: – Давай тихонько подкрадёмся к двери – и я её распахну. Может, нам удастся поймать её врасплох!
Конечно, она шутила, но в глазах её мелькнула тайная надежда, которая увлекла Эрменгарду, хотя она и не понимала, что всё это значит, и кого Сара хочет поймать врасплох, и зачем это нужно. Впрочем, Эрменгарда не сомневалась, что увидит что-то на редкость приятное и удивительное. А потому, дрожа от радостного ожидания, она шла на цыпочках за Сарой по коридору. Неслышно подкравшись к двери, Сара быстро повернула ручку и распахнула дверь. В аккуратно прибранной комнате стояла тишина, в камине горел неяркий огонь, а в креслице возле камина сидела дивная кукла и как будто читала книжку.
– Ах, опоздали! – вскричала Сара. – Она успела добежать до своего кресла! Всегда так! Куклы такие быстрые, как молния!
Эрменгарда переводила взгляд с Сары на куклу и обратно. У неё перехватило дыхание.
– Она умеет… ходить? – спросила она изумлённо.
– Да, – отвечала Сара. – Так я, по крайней мере, думаю. Вернее, воображаю. И тогда мне кажется, что так оно и есть. А ты разве никогда ничего не воображала?
– Нет, – призналась Эрменгарда. – Никогда. Я… расскажи мне про это.
Её так околдовала эта странная новенькая, что она смотрела совсем не на Эмили, хотя в жизни не видела таких чудесных кукол, а на Сару.
– Давай сядем, – предложила Сара, – и я тебе расскажу. Это так просто – стоит только начать, и уже не остановишься! Придумываешь и придумываешь без конца! Это просто чудесно! Эмили, послушай. Это Эрменгарда Сент-Джон, Эмили. Эрменгарда, это Эмили. Хочешь её подержать?
– А можно? – спросила Эрменгарда. – Нет, правда можно? Она такая красивая!
За всю свою короткую скучную жизнь мисс Сент-Джон даже и не мечтала, что ей выпадет счастье так чудесно провести время, как в это утро со странной новенькой. Они пробыли в комнате Сары целый час, пока не прозвенел звонок на обед и им не пришлось спуститься вниз.
Сара устроилась на коврике перед камином и рассказывала Эрменгарде удивительные вещи – её зелёные глаза сверкали, щёки горели. Она рассказала о своём путешествии и об Индии; но больше всего Эрменгарду увлекла фантазия о куклах, которые ходят, разговаривают и делают многое другое, стоит лишь людям выйти из комнаты. Своей тайны они никому не открывают и с быстротой молнии возвращаются на свои места, как только заслышат, что кто-то идёт.
– Мы бы так не смогли, – серьёзно заметила Сара. – Это какое-то волшебство.
Когда она поведала о поисках Эмили, лицо её вдруг затуманилось, а свет в глазах погас. Эрменгарда это заметила. Какой-то странный звук, не то вздох, не то всхлип, вырвался у Сары из груди, а потом, словно приняв решение, она плотно сжала губы. Эрменгарде подумалось, что другая бы на её месте зарыдала. Но Сара сдержалась.
– У тебя что-то… болит? – осмелилась Эрменгарда.
– Да, – отвечала Сара, помолчав. – Только не тело. – И, сдерживая дрожь в голосе, тихо спросила: – Ты своего отца больше всего на свете любишь?
Эрменгарда разинула рот. Ей и в голову не приходило, что можно любить собственного отца; честно говоря, она готова была на всё, только бы не оставаться с ним наедине даже на десять минут. Впрочем, она понимала, что благовоспитанной девочке, которая учится в пансионе для благородных девиц, признаться в этом невозможно. Она смутилась.
– Я… я его почти не вижу, – проговорила она запинаясь. – Он всегда сидит в библиотеке и что-то читает.
– А я своего папочку люблю больше всего на свете, и ещё в десять раз сильнее, – сказала Сара. – Вот почему мне больно. Ведь он уехал.
Она опустила голову на колени и несколько минут сидела не двигаясь.
«Сейчас заплачет», – со страхом подумала Эрменгарда.
Но Сара не заплакала. Короткие чёрные волосы упали ей на лицо; она молчала. Потом, не поднимая головы, произнесла:
– Я ему обещала, что выдержу, – и выдержу. Подумай, что приходится выносить военным! А мой папа военный. Случись война – ему бы пришлось идти в поход, страдать от жажды, может, даже от ран. Но он бы никогда ни слова не сказал – ни одного слова!
Эрменгарда молча смотрела на Сару; она чувствовала, что её заливает волна обожания. Сара такая удивительная! Она ни на кого не похожа!
Наконец Сара подняла голову и с какой-то странной улыбкой откинула назад пряди волос.
– Мне будет легче, если я буду говорить, – сказала она. – Буду говорить… буду рассказывать тебе про свои фантазии. Забыть не забуду, но выдержать легче.
Эрменгарда не знала, почему при этих словах горло у неё сжало, а на глаза навернулись слёзы.
– Лавиния и Джесси – закадычные подружки, – сказала она вдруг охрипшим голосом. – Вот бы и нам так. Ты бы согласилась со мной дружить? Ты умница, а я самая глупая в школе, но… ты мне так нравишься!
– Я рада, – отвечала Сара. – Когда кому-то нравишься, хочется сказать «спасибо». Да, давай дружить. И знаешь что? – Лицо у неё просветлело. – Я тебе помогу с французским.
Глава 4
Лотти
Будь у Сары другой характер, десять лет, которые ей предстояло провести в пансионе мисс Минчин, не пошли бы ей на пользу. С ней обращались так, словно она была почётной гостьей, а не просто маленькой девочкой. Будь она упрямой и высокомерной, она бы стала просто невыносимой – так ей во всём потакали и льстили. Будь она нерадивой, она бы ничему не научилась. Мисс Минчин в глубине души её невзлюбила, но она была женщина практичная и дорожила такой ученицей. Скажешь или сделаешь ей что-нибудь неприятное, а она возьмёт и оставит школу. Мисс Минчин прекрасно знала: стоит Саре написать отцу, что ей здесь плохо, и капитан Кру тотчас её заберёт. А потому она постоянно хвалила Сару и позволяла ей делать всё, что только та ни пожелает. Мисс Минчин была уверена, что всякий ребёнок, с которым так обращаются в школе, будет любить её. И потому Сару хвалили за всё: за успехи в занятиях, за прекрасные манеры, за доброту к подругам, за щедрость – стоило ей вынуть из кошелька, в котором никогда не переводились деньги, монетку в шесть пенсов и подать её нищему. Самый простой её поступок превращали в добродетель, и, не будь она умна и скромна, она бы стала весьма самодовольной девицей. Однако она судила весьма трезво и верно и о себе самой, и о своём положении. Порой Сара делилась своими мыслями с Эрменгардой.
– В жизни так много случайностей, – говорила она. – Мне, например, просто посчастливилось: я всегда любила читать и заниматься и всегда легко запоминала всё, что учила, – так уж вышло. Случилось так, что обо мне с рождения заботился добрый, умный, красивый отец и у меня всегда было всё, что мне хотелось. Может быть, на самом-то деле характер у меня неважный, а я кажусь доброй просто потому, что у меня всё есть и все ко мне хорошо относятся.
Она задумалась и серьёзно прибавила:
– Как мне понять, хорошая я или плохая, не знаю. Возможно, характер у меня ужасный, а никто об этом никогда и не догадывался, потому что меня ни разу не испытали.
– Лавинию тоже не подвергали испытанию, но она противная, это совершенно ясно, – проговорила Эрменгарда твёрдо.
Сара задумчиво потёрла кончик носа.
– Может, это просто потому, что она растёт, – произнесла она наконец.
Сара была столь снисходительна оттого, что вспомнила слова мисс Амелии, которая как-то заметила, будто Лавиния так быстро растёт, что это влияет на её здоровье и характер.
Меж тем Лавиния Сару не жаловала. Сказать по правде, она ей безумно завидовала. До того как появилась Сара, она считала себя первой в школе. Достигла этого Лавиния самым простым путём: если кто-то из девочек её не слушался, она знала, как ей досадить. Маленькими она помыкала как хотела, а со сверстницами держалась высокомерно. Она была довольно хорошенькой, её хорошо одевали, и потому, когда воспитанниц вели на прогулку, она всегда шла впереди всех. Но стоило появиться Саре с её бархатными шубками, собольими муфтами и мягкими страусовыми перьями, как мисс Минчин распорядилась, чтобы первой шла она. Поначалу уже одно это было Лавинии обидно; однако со временем обнаружилось, что Сара тоже может иметь на других девочек влияние и достигает этого не тем, что кому-то досаждает, а, напротив, тем, что никогда этого не делает.
Джесси вызвала гнев своей закадычной подружки, честно признав:
– Да, Сара Кру ни капельки не заносится. А ведь она могла бы, Лавви, ты это знаешь. Я бы наверняка не удержалась – и хоть немножко бы занеслась, – если б у меня было столько нарядов и все бы мне так угождали. Нет, это просто противно, до чего мисс Минчин её при родителях выставляет!
– «Пойдите в гостиную, милая Сара, и поговорите с миссис Масгрейв об Индии», – передразнила Лавиния мисс Минчин. – «Поговорите по-французски с леди Питкин, милая Сара, у вас такое дивное произношение». Что-что, а французский она выучила не в пансионе. И ничего тут нет особенного! Она сама говорит, что совсем им не занималась. Просто научилась, потому что её отец всегда по-французски говорил. А что он офицер в Индии, так ничего особенного в этом нет!
– Как тебе сказать… – проговорила с расстановкой Джесси. – Ведь он тигров убивал! У Сары в комнате лежит шкура тигра – так это он его убил. Потому Сара эту шкуру и любит. Она на неё ложится, гладит голову тигра и разговаривает с ним, как с кошкой.
– Вечно она всякими глупостями занимается, – отрезала Лавиния. – Моя мама говорит: глупо фантазировать, как Сара. Мама говорит: она вырастет чудачкой.
Это верно, Сара никогда не заносилась. Она ко всем относилась доброжелательно и охотно делилась всем, чем могла. Эта ученица, которой все завидовали, никогда не обижала самых маленьких, давно привыкших к тому, что зрелые девицы десяти-двенадцати лет от роду их презирают и велят не путаться под ногами. Сара всегда готова была их пожалеть и, если кто-то падал и разбивал коленки, подбегала, помогала встать и утешала, а потом вытаскивала из кармана конфетку или ещё что-нибудь приятное. Она никогда не отталкивала малышей в сторону и не отзывалась с презрением об их летах, словно то было пятно на их биографии.
– Что из того, что ей четыре года? – сурово сказала она Лавинии, когда та, как ни грустно в этом признаться, отшлёпала Лотти и назвала её младенцем. – Через год ей будет пять, а ещё через год – шесть. – Сара широко открыла свои большие глаза и с убеждением прибавила: – А через шестнадцать – всего через шестнадцать лет! – ей будет двадцать.
– Ах, как мы хорошо считаем! – фыркнула Лавиния.
Что говорить, четыре плюс шестнадцать и вправду равнялось двадцати, а двадцать лет – такой возраст, о котором не смели мечтать и самые отважные девочки.
– Послушай, это все умеют, – сказала она. – Разве ты никогда не пробовала? – Не дожидаясь ответа, она предостерегающе тронула Эрменгарду за руку и шепнула: – Давай тихонько подкрадёмся к двери – и я её распахну. Может, нам удастся поймать её врасплох!
Конечно, она шутила, но в глазах её мелькнула тайная надежда, которая увлекла Эрменгарду, хотя она и не понимала, что всё это значит, и кого Сара хочет поймать врасплох, и зачем это нужно. Впрочем, Эрменгарда не сомневалась, что увидит что-то на редкость приятное и удивительное. А потому, дрожа от радостного ожидания, она шла на цыпочках за Сарой по коридору. Неслышно подкравшись к двери, Сара быстро повернула ручку и распахнула дверь. В аккуратно прибранной комнате стояла тишина, в камине горел неяркий огонь, а в креслице возле камина сидела дивная кукла и как будто читала книжку.
– Ах, опоздали! – вскричала Сара. – Она успела добежать до своего кресла! Всегда так! Куклы такие быстрые, как молния!
Эрменгарда переводила взгляд с Сары на куклу и обратно. У неё перехватило дыхание.
– Она умеет… ходить? – спросила она изумлённо.
– Да, – отвечала Сара. – Так я, по крайней мере, думаю. Вернее, воображаю. И тогда мне кажется, что так оно и есть. А ты разве никогда ничего не воображала?
– Нет, – призналась Эрменгарда. – Никогда. Я… расскажи мне про это.
Её так околдовала эта странная новенькая, что она смотрела совсем не на Эмили, хотя в жизни не видела таких чудесных кукол, а на Сару.
– Давай сядем, – предложила Сара, – и я тебе расскажу. Это так просто – стоит только начать, и уже не остановишься! Придумываешь и придумываешь без конца! Это просто чудесно! Эмили, послушай. Это Эрменгарда Сент-Джон, Эмили. Эрменгарда, это Эмили. Хочешь её подержать?
– А можно? – спросила Эрменгарда. – Нет, правда можно? Она такая красивая!
За всю свою короткую скучную жизнь мисс Сент-Джон даже и не мечтала, что ей выпадет счастье так чудесно провести время, как в это утро со странной новенькой. Они пробыли в комнате Сары целый час, пока не прозвенел звонок на обед и им не пришлось спуститься вниз.
Сара устроилась на коврике перед камином и рассказывала Эрменгарде удивительные вещи – её зелёные глаза сверкали, щёки горели. Она рассказала о своём путешествии и об Индии; но больше всего Эрменгарду увлекла фантазия о куклах, которые ходят, разговаривают и делают многое другое, стоит лишь людям выйти из комнаты. Своей тайны они никому не открывают и с быстротой молнии возвращаются на свои места, как только заслышат, что кто-то идёт.
– Мы бы так не смогли, – серьёзно заметила Сара. – Это какое-то волшебство.
Когда она поведала о поисках Эмили, лицо её вдруг затуманилось, а свет в глазах погас. Эрменгарда это заметила. Какой-то странный звук, не то вздох, не то всхлип, вырвался у Сары из груди, а потом, словно приняв решение, она плотно сжала губы. Эрменгарде подумалось, что другая бы на её месте зарыдала. Но Сара сдержалась.
– У тебя что-то… болит? – осмелилась Эрменгарда.
– Да, – отвечала Сара, помолчав. – Только не тело. – И, сдерживая дрожь в голосе, тихо спросила: – Ты своего отца больше всего на свете любишь?
Эрменгарда разинула рот. Ей и в голову не приходило, что можно любить собственного отца; честно говоря, она готова была на всё, только бы не оставаться с ним наедине даже на десять минут. Впрочем, она понимала, что благовоспитанной девочке, которая учится в пансионе для благородных девиц, признаться в этом невозможно. Она смутилась.
– Я… я его почти не вижу, – проговорила она запинаясь. – Он всегда сидит в библиотеке и что-то читает.
– А я своего папочку люблю больше всего на свете, и ещё в десять раз сильнее, – сказала Сара. – Вот почему мне больно. Ведь он уехал.
Она опустила голову на колени и несколько минут сидела не двигаясь.
«Сейчас заплачет», – со страхом подумала Эрменгарда.
Но Сара не заплакала. Короткие чёрные волосы упали ей на лицо; она молчала. Потом, не поднимая головы, произнесла:
– Я ему обещала, что выдержу, – и выдержу. Подумай, что приходится выносить военным! А мой папа военный. Случись война – ему бы пришлось идти в поход, страдать от жажды, может, даже от ран. Но он бы никогда ни слова не сказал – ни одного слова!
Эрменгарда молча смотрела на Сару; она чувствовала, что её заливает волна обожания. Сара такая удивительная! Она ни на кого не похожа!
Наконец Сара подняла голову и с какой-то странной улыбкой откинула назад пряди волос.
– Мне будет легче, если я буду говорить, – сказала она. – Буду говорить… буду рассказывать тебе про свои фантазии. Забыть не забуду, но выдержать легче.
Эрменгарда не знала, почему при этих словах горло у неё сжало, а на глаза навернулись слёзы.
– Лавиния и Джесси – закадычные подружки, – сказала она вдруг охрипшим голосом. – Вот бы и нам так. Ты бы согласилась со мной дружить? Ты умница, а я самая глупая в школе, но… ты мне так нравишься!
– Я рада, – отвечала Сара. – Когда кому-то нравишься, хочется сказать «спасибо». Да, давай дружить. И знаешь что? – Лицо у неё просветлело. – Я тебе помогу с французским.
Глава 4
Лотти
Будь у Сары другой характер, десять лет, которые ей предстояло провести в пансионе мисс Минчин, не пошли бы ей на пользу. С ней обращались так, словно она была почётной гостьей, а не просто маленькой девочкой. Будь она упрямой и высокомерной, она бы стала просто невыносимой – так ей во всём потакали и льстили. Будь она нерадивой, она бы ничему не научилась. Мисс Минчин в глубине души её невзлюбила, но она была женщина практичная и дорожила такой ученицей. Скажешь или сделаешь ей что-нибудь неприятное, а она возьмёт и оставит школу. Мисс Минчин прекрасно знала: стоит Саре написать отцу, что ей здесь плохо, и капитан Кру тотчас её заберёт. А потому она постоянно хвалила Сару и позволяла ей делать всё, что только та ни пожелает. Мисс Минчин была уверена, что всякий ребёнок, с которым так обращаются в школе, будет любить её. И потому Сару хвалили за всё: за успехи в занятиях, за прекрасные манеры, за доброту к подругам, за щедрость – стоило ей вынуть из кошелька, в котором никогда не переводились деньги, монетку в шесть пенсов и подать её нищему. Самый простой её поступок превращали в добродетель, и, не будь она умна и скромна, она бы стала весьма самодовольной девицей. Однако она судила весьма трезво и верно и о себе самой, и о своём положении. Порой Сара делилась своими мыслями с Эрменгардой.
– В жизни так много случайностей, – говорила она. – Мне, например, просто посчастливилось: я всегда любила читать и заниматься и всегда легко запоминала всё, что учила, – так уж вышло. Случилось так, что обо мне с рождения заботился добрый, умный, красивый отец и у меня всегда было всё, что мне хотелось. Может быть, на самом-то деле характер у меня неважный, а я кажусь доброй просто потому, что у меня всё есть и все ко мне хорошо относятся.
Она задумалась и серьёзно прибавила:
– Как мне понять, хорошая я или плохая, не знаю. Возможно, характер у меня ужасный, а никто об этом никогда и не догадывался, потому что меня ни разу не испытали.
– Лавинию тоже не подвергали испытанию, но она противная, это совершенно ясно, – проговорила Эрменгарда твёрдо.
Сара задумчиво потёрла кончик носа.
– Может, это просто потому, что она растёт, – произнесла она наконец.
Сара была столь снисходительна оттого, что вспомнила слова мисс Амелии, которая как-то заметила, будто Лавиния так быстро растёт, что это влияет на её здоровье и характер.
Меж тем Лавиния Сару не жаловала. Сказать по правде, она ей безумно завидовала. До того как появилась Сара, она считала себя первой в школе. Достигла этого Лавиния самым простым путём: если кто-то из девочек её не слушался, она знала, как ей досадить. Маленькими она помыкала как хотела, а со сверстницами держалась высокомерно. Она была довольно хорошенькой, её хорошо одевали, и потому, когда воспитанниц вели на прогулку, она всегда шла впереди всех. Но стоило появиться Саре с её бархатными шубками, собольими муфтами и мягкими страусовыми перьями, как мисс Минчин распорядилась, чтобы первой шла она. Поначалу уже одно это было Лавинии обидно; однако со временем обнаружилось, что Сара тоже может иметь на других девочек влияние и достигает этого не тем, что кому-то досаждает, а, напротив, тем, что никогда этого не делает.
Джесси вызвала гнев своей закадычной подружки, честно признав:
– Да, Сара Кру ни капельки не заносится. А ведь она могла бы, Лавви, ты это знаешь. Я бы наверняка не удержалась – и хоть немножко бы занеслась, – если б у меня было столько нарядов и все бы мне так угождали. Нет, это просто противно, до чего мисс Минчин её при родителях выставляет!
– «Пойдите в гостиную, милая Сара, и поговорите с миссис Масгрейв об Индии», – передразнила Лавиния мисс Минчин. – «Поговорите по-французски с леди Питкин, милая Сара, у вас такое дивное произношение». Что-что, а французский она выучила не в пансионе. И ничего тут нет особенного! Она сама говорит, что совсем им не занималась. Просто научилась, потому что её отец всегда по-французски говорил. А что он офицер в Индии, так ничего особенного в этом нет!
– Как тебе сказать… – проговорила с расстановкой Джесси. – Ведь он тигров убивал! У Сары в комнате лежит шкура тигра – так это он его убил. Потому Сара эту шкуру и любит. Она на неё ложится, гладит голову тигра и разговаривает с ним, как с кошкой.
– Вечно она всякими глупостями занимается, – отрезала Лавиния. – Моя мама говорит: глупо фантазировать, как Сара. Мама говорит: она вырастет чудачкой.
Это верно, Сара никогда не заносилась. Она ко всем относилась доброжелательно и охотно делилась всем, чем могла. Эта ученица, которой все завидовали, никогда не обижала самых маленьких, давно привыкших к тому, что зрелые девицы десяти-двенадцати лет от роду их презирают и велят не путаться под ногами. Сара всегда готова была их пожалеть и, если кто-то падал и разбивал коленки, подбегала, помогала встать и утешала, а потом вытаскивала из кармана конфетку или ещё что-нибудь приятное. Она никогда не отталкивала малышей в сторону и не отзывалась с презрением об их летах, словно то было пятно на их биографии.
– Что из того, что ей четыре года? – сурово сказала она Лавинии, когда та, как ни грустно в этом признаться, отшлёпала Лотти и назвала её младенцем. – Через год ей будет пять, а ещё через год – шесть. – Сара широко открыла свои большие глаза и с убеждением прибавила: – А через шестнадцать – всего через шестнадцать лет! – ей будет двадцать.
– Ах, как мы хорошо считаем! – фыркнула Лавиния.
Что говорить, четыре плюс шестнадцать и вправду равнялось двадцати, а двадцать лет – такой возраст, о котором не смели мечтать и самые отважные девочки.