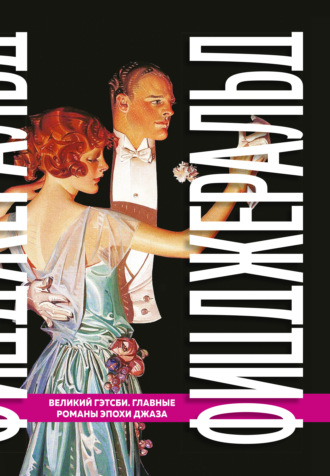
Великий Гэтсби. Главные романы эпохи джаза
Эйб заглянул в коробку с таким отвращением, точно ему предложили позавтракать этими буквами.
– Что еще за анаграммы? Мало мне сегодняшних чудес…
– Это такая тихая игра. Вы составляете из букв слова – любые, за исключением «выпивка».
– Уверен, вы и «выпивку» составить сможете. Могу я прийти, даже умея составлять «выпивку»?
– Вы можете прийти, если захотите поиграть в анаграммы.
Эйб покорно покачал головой.
– Ну, раз вы в таком настроении, тогда нет смысла… я вам только мешать буду, – и он осуждающе погрозил Дику пальцем. – Но не забывайте того, что сказал Георг Третий: если Грант напьется, хорошо бы он перекусал других генералов[59].
Он бросил на Розмари последний отчаянный взгляд из-под золотистых ресниц и вышел из номера. К его облегчению, Петерсона в коридоре не было. Ощущая себя всеми брошенным и бездомным, он отправился назад к Полю – спросить, как назывался тот корабль.
XXV
Когда он шаткой походкой удалился, Дик и Розмари коротко обнялись. Обоих покрывала парижская пыль, оба слышали сквозь нее запахи друг друга: каучука, из которого был изготовлен колпачок самописки Дика, чуть слышный теплый аромат шеи и плеч Розмари. С полминуты Дик оставался неподвижным, Розмари вернулась к реальности первой.
– Мне пора, юноша, – сказала она.
Оба, сощурясь, смотрели друг на друга сквозь расширявшееся пространство, а затем Розмари произвела эффектный выход, которому научилась в юности и которого ни один режиссер усовершенствовать даже и не пытался.
Открыв дверь своего номера, она прямиком направилась к письменному столу, потому что вспомнила вдруг, что оставила на нем наручные часики. Да, вот они, накинув браслетку на руку, Розмари опустила взгляд к сегодняшнему письму матери и мысленно закончила последнюю фразу. И только тут исподволь учуяла, даже не оглянувшись, что в номере она не одна.
В любой обжитой комнате найдутся преломляющие свет вещи, замечаемые нами лишь наполовину: лакированное дерево, более или менее отполированная медь, серебро и слоновая кость, а помимо них, тысяча передатчиков света и тени, столь скромных, что мы о них почти не думаем, – верхние планки картинных рам или фасетки карандашей, верхушки пепельниц, хрустальных либо фарфоровых безделушек; совокупность их рефракций, обращенная к столь же тонким рефлексам зрения, равно как и к тем ассоциативным элементам подсознания, за которые оно, судя по всему, крепко держится, – подобно тому, как стекольщик сохраняет куски неправильной формы стекла: авось когда-нибудь да пригодятся, – она-то, возможно, и отвечала за то, что Розмари описывала впоследствии туманным словом «учуяла», то есть поняла, что в номере она не одна, еще не успев в этом убедиться. А учуяв, быстро обернулась, произведя что-то вроде балетного пируэта, и увидела распростертого поперек ее кровати мертвого негра.
Розмари вскрикнула «ааооо!», так и оставшиеся не застегнутыми часики со стуком упали на стол, в голове ее мелькнула нелепая мысль, что это Эйб Норт, а затем она метнулась к двери и понеслась по коридору.
Дайверы наводили порядок у себя в люксе. Дик осмотрел перчатки, которые носил в этот день, и метнул их в уже скопившуюся в углу чемодана кучку других, грязных. Повесил в гардероб пиджак и жилет, аккуратно расправил на плечиках сорочку – обычное его правило: «Несвежую сорочку носить еще можно, мятую – никогда». Только что вернувшаяся Николь опустошала над мусорной корзинкой нечто, приспособленное Эйбом под пепельницу, вот тут-то в дверь и ворвалась Розмари.
–Дик! Дик! Посмотрите, что там!
Дик трусцой добежал до номера Розмари. Там он опустился на колени, чтобы послушать сердце Петерсона и пощупать его пульс – тело было еще теплым, лицо, при жизни изнуренное и криводушное, стало в смерти грубым и горестным; коробка с материалами так и осталась зажатой под мышкой, но ботинок на свисавшей с кровати ноге был не чищен и подошва его протерлась до дырки. По французским законам Дик не имел права прикасаться к телу, тем не менее он немного сдвинул руку Петерсона – посмотреть, что под ней, – да, на зеленом покрывале появилось пятно, след крови останется и на одеяле.
Дик закрыл дверь, постоял, размышляя; но тут из коридора донеслись осторожные шаги и голос позвавшей его Николь. Приотворив дверь, он прошептал:
– Принеси с одной из наших кроватейcouverture[60] и одеяло и постарайся, чтобы никто тебя не заметил. – А затем, увидев, как застыло ее лицо, быстро добавил: – Послушай, не расстраивайся, тут всего лишь ниггеры передрались.
– Побыстрее бы все кончилось.
Тело, снятое Диком с кровати, оказалось тощим и легким. Дик держал его так, чтобы еще текшая из раны кровь оставалась внутри одежды. Уложив тело рядом с кроватью, Дик сорвал с нее покрывало и верхнее одеяло, потом подошел к двери, приоткрыл ее на дюйм, прислушался – звон тарелок в конце коридора, громкое, снисходительное «Мерси, мадам», затем официант стал удаляться в сторону служебной лестницы. Дик и Николь быстро обменялись в коридоре охапками одеял. Расстелив покрывало поверх постели Розмари, он постоял в теплых сумерках, обливаясь потом и прикидывая, что делать дальше. Некоторые моменты прояснились для него сразу после осмотра тела: прежде всего, один из плохих индейцев Эйба шел по пятам за индейцем хорошим и застукал его в коридоре, а когда тот, испугавшись, попытался укрыться в номере Розмари, ворвался туда и зарезал несчастного; далее, если позволить ситуации развиваться естественным порядком, на Розмари ляжет пятно, которого никакая сила на свете смыть не сумеет – дело Арбакла[61] было еще у всех на слуху. Ее контракт со студией строго и неукоснительно требовал, чтобы она не выходила из образа «папенькиной дочки».
Машинально попытавшись засучить рукава, хотя рубашка на нем была нижняя, безрукавная, Дик склонился над телом, ухватился за плечи его пиджака, ударом каблука распахнул дверь, выволок тело в коридор и постарался придать ему правдоподобную позу. Потом вернулся в номер Розмари, разгладил ворс плюшевого ковра. И наконец, перейдя в свой люкс, позвонил управляющему отеля.
– Мак-Бет? – говорит доктор Дайвер, очень важное дело. Нас никто не может услышать?
Хорошо, что он предпринял некогда усилия, позволившие ему крепко подружиться с мистером Мак-Бетом. Хоть какая-то польза от безоглядности, с которой он норовил сделать что-либо приятное сколь возможно большему числу людей…
– Мы вышли из нашего номера и наткнулись на мертвого негра… в коридоре… нет-нет, не из ваших служащих. Подождите минутку… я понимаю, вы не хотите, чтобы кто-то из постояльцев увидел его, потому вам и звоню. Разумеется, я должен попросить вас не упоминать мое имя. Мне вовсе не хочется, чтобы французские бюрократы вцепились в меня мертвой хваткой лишь потому, что это я обнаружил тело.
Какое исключительное внимание к интересам отеля! Уже потому, что мистеру Мак-Бету довелось два дня назад своими глазами увидеть, как проявлял его доктор Дайвер, он готов поверить его рассказу, не задавая вопросов.
Мистер Мак-Бет появился через минуту, спустя еще минуту к нему присоединился жандарм. До этого мистер Мак-Бет успел прошептать Дику: «Будьте уверены, мы стоим на защите доброго имени каждого из наших клиентов. Я могу лишь поблагодарить вас за ваши усилия».
Мистер Мак-Бет без промедления предпринял единственный шаг, какой ему оставался, и шаг этот заставил жандарма подергать себя за усы в приливе неловкости и корыстолюбия. Он небрежно и коротко записал что-то в блокнот, позвонил в свой участок. Тем временем останки Жюля Петерсона перенесли – с поспешностью, которую он, как человек деловой, разумеется, оценил бы – в пустовавший номер одного из самых фешенебельных отелей мира.
Дик возвратился в свой люкс.
– Но что же случилось? – воскликнула Розмари. – Неужели все американцы Парижа только и знают, что стрелять друг в друга?
– Похоже, открылся сезон охоты, – ответил Дик. – А где Николь?
– По-моему, в ванной.
Дик спас Розмари, и она обожала его за это – грозные, как пророчества, картины кошмаров, которые могли последовать за случившимся, одна за другой мелькали в ее голове; и улаживавший все сильный, уверенный, учтивый голос Дика она слушала в истовом преклонении перед ним. Но прежде, чем она рванулась к нему душой и телом, внимание ее отвлекло нечто иное: он вошел в спальню и направился к ванной комнате. И теперь Розмари услышала также поток звучавших все громче и громче каких-то нечеловеческих слов, проникавший сквозь замочные скважины и щелки дверей и разливавшийся по люксу, и на нее снова напал ужас.
Розмари поспешила за Диком, решив, что Николь упала в ванной и расшиблась. То, что она увидела, прежде чем Дик бесцеремонно оттолкнул ее плечом и заслонил всю картину, оказалось совершенно иным.
Николь стояла на коленях перед ванной и раскачивалась из стороны в сторону.
– Это ты! – кричала она. – Ты явился, чтобы отнять единственное уединение, какое у меня есть, явился с окровавленным покрывалом. Ладно, я буду ходить в нем ради тебя – я не стыжусь, но как жаль, как жаль! В День Всех Дураков мы устроили на Цюрихском озере вечеринку, все дураки были там, я хотела выйти к ним в покрывале, но мне не позволили…
– Возьми себя в руки!
– …и я сидела в ванной, а они принесли мне домино и сказали: надень это. Я надела. А что мне оставалось?
– Возьми себя в руки, Николь!
– Я и не ждала, что ты полюбишь меня, – слишком поздно, но ты хоть в ванную не лезь, в единственное место, где я могу побыть одна, не притаскивай сюда покрывала в крови и не проси меня постирать их.
– Возьми себя в руки. Встань…
Вернувшись в гостиную, Розмари услышала, как захлопнулась дверь ванной, и замерла, дрожа: теперь она знала, что увидела на вилле «Диана» Виолетта Мак-Киско. Зазвонил телефон, она взяла трубку и почти вскрикнула от облегчения, услышав голос Коллиса Клэя, проследившего ее до люкса Дайверов. Розмари попросила его подняться, подождать, пока она сходит за шляпкой, ей было страшно войти в свой номер одной.
Часть вторая
I
Когда весной 1917 года доктор Ричард Дайвер впервые приехал в Цюрих, ему было двадцать шесть лет – для мужчины возраст прекрасный, а для холостяка так и наилучший. И даже в военное время хорош он был и для Дика, уже приобретшего слишком большую ценность, стоившего стране расходов слишком серьезных, чтобы ставить его под ружье. Годы спустя ему представлялось, что и в этом прибежище он пребывал не в такой уж безопасности, однако в то время подобная мысль в голову Дику не приходила, – в 1917-м он с виноватой усмешкой говорил, что война никак его не коснулась. Призывная комиссия, к которой был приписан Дик, постановила, что ему надлежит завершить в Цюрихе научные исследования и получить ученую степень – как он, собственно, и задумал.
Швейцария была в то время островом, омываемым с одного бока грозой, грохотавшей над Горицией, а с другого – хлябями Соммы и Эне. Поначалу казалось, что в ее кантонах подозрительных иностранцев больше, чем недужных, однако догадаться, в чем тут причина, было трудно – мужчины, шептавшиеся в кафе Берна и Женевы, были, скорее всего, продавцами алмазов или коммивояжерами. Впрочем, никто не мог не заметить и сновавшие навстречу друг другу между веселыми озерами – Боденским и Невшательским – длинные поезда, нагруженные слепыми, одноногими и умирающими людскими обрубками. На стенах пивных и в витринах магазинов висели яркие плакаты, которые изображали швейцарцев, обороняющих в 1914 году свои границы, – молодые и старые, они с вдохновенной свирепостью взирали с гор на химерических французов и немцев; назначение плакатов состояло в том, чтобы уверить душу швейцарца: прилипчивое величие этих дней не обошло и тебя. Однако бойня продолжалась, плакаты выцветали, и, когда в войну топорно ввязались Соединенные Штаты, никто не удивился сильнее, чем их республиканская сестричка.
К этому времени доктор Дайвер успел побывать на самом рубеже войны и даже заглянуть за него: 1914-й он провел в Оксфорде как коннектикутский стипендиат Родса. Потом вернулся на родину, чтобы проучиться последний год в университете Джона Хопкинса и получить степень магистра. В 1916-м Дик ухитрился перебраться в Вену, полагая, что, если он не поспешит, великий Фрейд может погибнуть от взрыва сброшенной аэропланом бомбы. Вена и тогда уже устала от смертей, но Дику удалось раздобыть достаточно угля и нефти, чтобы сидеть в своей комнате на Даменштифф-штрассе и писать статьи, – впоследствии он их уничтожил, однако, переработанные, они составили костяк книги, опубликованной им в Цюрихе в 1920-м.
У большинства из нас имеется любимый, героический период нашей жизни – венский был таким для Дика Дайвера. Прежде всего он и понятия не имел о том, что ему присуще огромное обаяние, что расположение, которое он испытывает к людям и возбуждает в них, есть явление не столь уж и рядовое в среде здоровых людей. В последний его нью-хейвенский год кто-то отозвался о нем так: «счастливчик Дик» – и прозвище это застряло у него в голове.
– Ты большой человек, счастливчик Дик, – шептал он себе, расхаживая по комнате среди последних брикетов тепла и света. – Ты попал в самую точку, мой мальчик. А до тебя никто о ее существовании и не ведал.
В начале 1917 года, когда добывать уголь стало трудно, Дик сжег около сотни накопленных им научных монографий; и когда он бросал в огонь каждую из них, в нем посмеивалась уверенность, что он сам обратился в ее резюме, что сможет и пять лет спустя кратко изложить ее содержание, если оно того стоит. Так он и расхаживал час за часом – мирный ученый с половичком на плечах, ближе всех подошедший к состоянию неземного покоя, которому, о чем будет рассказано дальше, предстояло вскоре сойти на нет.
Впрочем, покамест покой длился, и Дик благодарил за это свое тело, которое в Нью-Хейвене вытворяло чудеса на гимнастических кольцах, а ныне плавало в зимнем Дунае. Квартирку он делил с Элкинсом, вторым секретарем посольства, к ним часто заходили две милые гостьи – ну и довольно об этом, много будете знать, скоро состаритесь (последнее относилось к посольству). Разговоры с Эдом Элкинсом пробудили в Дике первые легкие сомнения в качестве его мыслительного аппарата: ему никак не удавалось увериться в коренном отличии своих мыслей от мыслей Элкинса, – человека, способного перечислить всех квотербэков, выступавших за Нью-Хейвен в последние тридцать лет.
– …Не может же счастливчик Дик быть заурядным умником, ему потребна меньшая цельность и даже легкая ущербность. И если жизнь не наградила его таковыми, никакая болезнь, разбитое сердце или комплекс неполноценности тут не помогут, хоть ему и приятно было бы восстанавливать некую поломанную часть его устройства, пока она не станет исправнее прежней.
Дик посмеивался над собой за подобные рассуждения, именуя их лицемерными и «американскими» – как называл он любое безмозглое фразерство. Но при этом знал: расплатой за его цельность была неполнота.
«Бедное дитя! – говорит в Теккереевом «Кольце и розе» фея Черная Палочка. – Лучшим подарком тебе будет капелька невзгод»[62].
В определенном настроении он жаловался сам себе: «Ну что я мог поделать, если Пит Ливингстон весь «День отбоя»[63] прятался в раздевалке, и как его, черта, ни искали, все равно не нашли? Вот и выбрали меня вместо него, а иначе не видать бы мне «Элайху»[64] как своих ушей, я там и не знал, почитай, никого. По справедливости-то, в раздевалке мне самое место было, а Питу в братстве. Я, может, и спрятался бы в ней, если б думал, что меня могут избрать. Да, но ведь Мерсер несколько недель заглядывал что ни вечер в мою комнату. Ну ладно, хорошо, знал я, что шансы у меня есть. Лучше бы я проглотил в душевой мой университетский значок и лишний комплекс заработал, вот и была бы мне наука».
В университете он после лекций часто беседовал на эту тему с молодым румынским интеллектуалом, и тот успокаивал Дика: «Нет никаких доказательств того, что у Гёте имелся какой-либо «комплекс» в нынешнем смысле этого слова – или, скажем, что он есть у Юнга. Ты же не философ-романтик, ты ученый. Память, сила, характер – и прежде всего здравый смысл. Знаешь, в чем будет состоять твоя проблема? – в самооценке. Я знавал человека, который два года отдал исследованиям мозга армадилла, идея была такая, что рано или поздно он узнает об этом мозге больше, чем кто-либо другой на свете. Я пытался доказать ему, что он вовсе не расширяет круг человеческих познаний, что выбор его сделан наобум. И разумеется, он послал статью в медицинский журнал и получил отказ – журнал отдал предпочтение чьим-то коротким тезисам на ту же тему».
Когда Дик приехал в Цюрих, у него имелась далеко не одна ахиллесова пята – на полное оснащение сороконожки, пожалуй, не хватило бы, но их было много – иллюзии неисчерпаемой силы и здоровья, иллюзии сущностной доброты человека; иллюзии касательно своей страны – наследие вранья целых поколений первопроходцев, а вернее, их жен, которым приходилось убаюкивать своих деток уверениями, что никаких волков за дверьми их хижин днем с огнем не сыскать. А после получения докторской степени его отправили на работу в неврологический госпиталь, который создавался тогда в Бар-сюр-Обе.
Работа во Франции оказалась, к неудовольствию Дика, скорее административной, чем практической. Зато у него появилось время, чтобы закончить короткую монографию и собрать материал для следующей. Весной 1919-го он вышел в отставку и вернулся в Цюрих.
Все рассказанное нами до сей поры отдает биографией выдающегося человека, читатель которой лишен приятной уверенности в том, что герой ее, подобно Гранту, застрявшему в лавчонке Галены[65], более чем готов откликнуться на призыв своей головоломной судьбы. Так, случайно увидев юношескую фотографию человека, которого знаем сложившимся, зрелым, мы приходим в замешательство и с изумлением вглядываемся в лицо пылкого, гибкого, крепкого незнакомца, в его орлиный взор. И потому самое лучшее – заверить читателя, что в жизни Дика Дайвера уже наступил решающий час.
II
Стоял сырой апрельский день, над Альбисхорном наискось плыли длинные тучи, на отмелях мерцала неподвижная вода. Цюрих обладает некоторым сходством с городами Америки. И тем не менее во все два дня, прошедших со времени его приезда сюда, Дик чувствовал: чего-то ему не хватает, а сегодня понял – появлявшегося у него на коротких французских улочках ощущения, что кроме них тут ничего больше и нет. В Цюрихе же было много чего и помимо Цюриха – крыши уводили взгляд вверх, к позванивавшим колокольцами коровьим пастбищам, а там он, добравшись до вершины холма, поднимался еще выше, – жизнь уходила по вертикали в открыточные небеса. Земля Альп, родина игрушек и канатных дорог, каруселей и звонких курантов, не знала словаздесь, – в отличие от Франции, с ее лозами, растущими прямо у твоих ног.
В Зальцбурге Дик как-то раз почувствовал, что на него со всех сторон смотрит столетие великой музыки, купленной или заимствованной; в лаборатории Цюрихского университета он, осторожно зондируя затылочный отдел мозга, как-то раз ощутил себя скорее игрушечных дел мастером, чем подобием смерча, которое проносилось двумя годами раньше сквозь старые красные здания Хопкинса, и даже гигантский Христос, иронически улыбавшийся в вестибюле одного из них, не мог его остановить.
И все же он решил на два года задержаться в Цюрихе, ибо высоко ставил игрушечное дело, бесконечную точность, бесконечное терпение.
Сегодня он отправился на встречу с Францем Грегоровиусом, работавшим в клинике Домлера, что стояла на берегу Цюрихского озера. Уроженец кантона Во, постоянный патолог клиники, Франц был на несколько лет старше Дика. Они встретились на остановке трамвая. Смуглое лицо Франца отзывалось величавостью Калиостро, с которой, впрочем, вступало в противоречие благочестивое выражение глаз; он был третьим из Грегоровиусов: дед его обучал самого Крепелина[66] еще в ту пору, когда психиатрия только-только выходила из тьмы времен. Человеком Франц был горделивым, горячим и застенчивым, верящим, что он обладает даром гипнотизера. Если бы родовой гений Грегоровиусов надумал отдохнуть, Франц несомненно стал бы превосходным клиницистом.
По дороге к клинике он попросил:
– Расскажите мне о вашем военном опыте. Вы тоже изменились, подобно всем прочим? У вас все то же глупое и нестареющее американское лицо, да только я знаю, Дик, что вы не глупы.
– Войны я, можно считать, не видел, Франц, – и вы наверняка поняли это по моим письмам.
– Не имеет значения – у нас есть несколько пациентов с военным неврозом, которые всего лишь слышали издали звуки бомбежек. А несколько других просто читали газеты.
– По мне, так это чушь какая-то.
– Может, и чушь, Дик. Но наша клиника для богатых людей, и мы к этому слову не прибегаем. Скажите честно, вы кого приехали повидать – меня или ту девушку?
Они искоса глянули один на другого. Франц загадочно улыбнулся.
– Я, естественно, просматривал все ее первые письма, – официальным баском сообщил он. – Но когда начались изменения, деликатность запретила мне вскрывать остальные. И ее случай перешел в ваши руки.
– Так ей лучше? – спросил Дик.
– Более чем. Я веду ее, как, собственно, и основную часть английских и американских пациентов. Они зовут меня «доктор Грегори».
– Разрешите мне кое-что прояснить, – сказал Дик. – Я видел ее всего один раз, и это факт. Когда приходил попрощаться с вами перед отъездом во Францию. В тот день я впервые надел военную форму и чувствовал себя в ней каким-то аферистом – первым отдавал честь рядовым и так далее.
– А почему вы сегодня не в ней?
– Помилуйте! Меня демобилизовали три недели назад. Вот тогда я с той девушкой и познакомился. Расставшись с вами, я пошел, чтобы забрать мой велосипед, к тому из ваших зданий, что стоит у озера.
– К «Кедрам»?
– Чудесный, знаете ли, был вечер – луна вон над той горой…
– Над Кренцегом.
– …я нагнал медсестру с молодой девушкой. Мне и в голову не пришло, что она – пациентка; я спросил сестру о расписании трамваев, мы пошли вместе. Девушка была чуть ли не самой хорошенькой из когда-либо встреченных мной.
– И сейчас такая.
– Американской формы она прежде не видела, мы разговорились, а потом я и думать о ней забыл… – Он умолк, сообразив, что разговор принимает слишком знакомое ему направление, и начал заново: – … Другое дело, Франц, что у меня нет пока вашей закалки, и когда я вижу такую прекрасную оболочку, мне не по силам избавиться от сожалений о том, что под ней кроется. Тем все и кончилось… пока не стали приходить письма.
– Это лучшее из того, что с ней могло случиться, – мелодраматично сообщил Франц. – Перенос[67], причем самого благотворного толка. Я потому и отправился встречать вас, хоть сегодняшний день расписан у меня по минутам. Хотел отвести вас в мой кабинет и обстоятельно поговорить с вами до того, как вы с ней встретитесь. Собственно, я сегодня послал ее с несколькими поручениями в Цюрих, – в голосе его зазвенел энтузиазм. – Послал без сестры, с другой пациенткой, куда менее уравновешенной. Я очень горжусь этим случаем, с которым справился самостоятельно, пусть и не без вашей счастливой помощи.
Машина, шедшая берегом Цюрихского озера, въехала в тучную область пастбищ и невысоких холмов с шале на верхушке каждого. Солнце плыло по синему морю небес, внезапно открылся вид на швейцарскую долину во всей ее красе – приятные звуки и рокоты, свежие запахи доброго здоровья и вкусной еды.
Заведение профессора Домлера размещалось в трех старых зданиях и двух новых, все они стояли между небольшой возвышенностью и берегом озера. Основанное десять лет назад, оно было в то время первой современной клиникой душевных болезней; ни один неспециалист не узнал бы в нем, не приглядевшись как следует, прибежище для существ сломленных, неполноценных, опасных, хоть вокруг двух зданий и шла украшенная лозами, обманчиво невысокая стена. Когда машина въехала на территорию клиники, какие-то люди ворошили на ней граблями солому, кое-где развевались, как белые флаги, халаты сестер, которые сопровождали прогуливавшихся по тропинке пациентов.
Франц отвел Дика в свой кабинет, извинился и на полчаса исчез. Дик прошелся по кабинету, пытаясь составить психологический портрет Франца, исходя из сора на его письменном столе, из книг, принадлежавших ему, его отцу и деду, и книг, когда-то написанных последними, из огромной тонированной фотографии отца на стене, знака швейцарской почтительности к родителям. В комнате было накурено, Дик толкнул створки французского окна, и в нее ворвался конус солнечного света. Внезапно мысли Дика обратились к той девушке, к пациентке.
За восемь месяцев он получил от нее около пятидесяти писем. Первое содержало просьбы простить ее и объяснение: она слышала, что американские девушки пишут письма солдатам, которых даже не знают. Имя и адрес ей дал доктор Грегори, она надеется, что он не будет возражать, если она время от времени станет посылать ему несколько слов с добрыми пожеланиями и т. д. и т. п.

