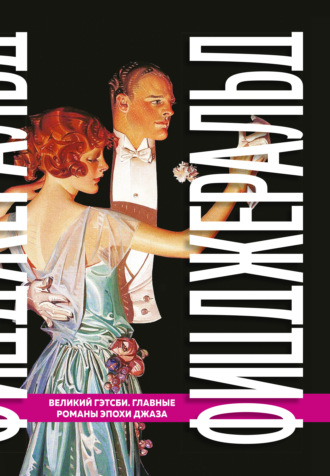
Великий Гэтсби. Главные романы эпохи джаза
Интонацию узнать не составляло труда – бодрая и сентиментальная, она была позаимствована из популярных в Штатах романов в письмах, «Длинноногий папочка» и «Притворщица Молли». Однако этим сходство с романами и ограничивалось.
Письма делились на две категории: принадлежавшие к первой приходили до Перемирия и несли признаки патологии, принадлежавшие ко второй – с того времени по настоящее – были совершенно нормальны и свидетельствовали о немалой зрелости натуры.Этих писем Дик с нетерпением ждал в последние тусклые месяцы Бар-сюр-Оба, хотя и из первых сумел по кусочкам составить картину, содержавшую больше того, о чем догадывался Франц.
MON CAPITAINE[68]
Увидев Вас в форме, я подумала: какой он красивый. А потом подумала:Je m’en fiche[69], и на французов тоже, и на немцев. Вы тоже подумали, что я хорошенькая, но я это уже проходила, уже давно это переношу. Если Вы снова появитесь здесь с низменными и преступными намерениями, даже отдаленно не похожими на то, что меня учили связывать с ролью джентльмена, то – да поможет Вам Бог. Однако Вы производите впечатление человека более спокойного, чем
(2)
другие, мягкого, как большой кот. Я же неравнодушна лишь к изнеженным юношам. Вы неженка? Я знала нескольких, где-то там.
Извините меня за все это, я пишу Вам третье письмо и отправлю его немедленно или не отправлю совсем. А еще я много размышляла о лунном свете, чему существует немало свидетелей, которых я могла бы отыскать, если бы выбралась отсюда.
(3)
Они говорят, что Вы доктор, но, пока Вы остаетесь котом, это совсем другое. У меня очень болит голова, поэтому простите мне то, что я веду себя как простой человек с белым котом, думаю, это все объяснит. Я говорю на трех языках, английский четвертый, и уверена, что могла бы принести пользу, как переводчица, если бы Вы договорились об этом во Франции, уверена, я справилась бы с чем угодно, нужно только всех ремнями связать, как в среду. Сейчас
(4)
суббота, и Вы далеко и, возможно, убиты.
Когда-нибудь вернитесь ко мне, я-то всегда буду здесь, на этом зеленом холме. Если, конечно, они не позволят мне написать отцу, которого я очень люблю. Извините за это. Я сегодня сама не своя. Напишу, когда мне станет получше.
Cherio
Николь Уоррен
Извините за все.
КАПИТАН ДАЙВЕР
Я знаю, самоанализ не приносит добра человеку вроде меня, чрезмерно нервному, однако мне хочется, чтобы Вы знали, каковы мои обстоятельства. В прошлом году – или когда это было? – в Чикаго, я дошла до того, что не могла разговаривать со слугами или ходить по улице и все ждала, что кто-нибудь мне все объяснит. Таков был долг того, кто понимает. Слепому нужен поводырь. Да только никто не говорил мне всего – говорили лишь половину, а я уже слишком запуталась, чтобы сообразить, что к чему. Один мужчина вел себя очень мило – он был французским офицером и все понимал.
(2)
Поднес мне цветок и сказал, что тот «plus petite et moins entendue»[70]. Мы были друзьями. А потом отобрал его. Мне стало хуже, но объяснений я ни от кого не услышала. У них была песня про Жанну из Арка, и они все пели ее мне, и это была просто низость, – я всегда плакала, услышав ее, потому что с головой у меня тогда было все в порядке. Еще они говорили что-то о спорте, но я в то время была к нему равнодушна. И наступил день, когда я пошла по Мичиганскому бульвару, милю за милей, и наконец они догнали
(3)
меня на автомобиле, но я в него не села. В конце концов они затащили меня внутрь, и там были санитарки. После этого случая я все начала понимать, поскольку чувствовала, что происходит с другими. Теперь Вы знаете, каковы мои обстоятельства. Ну и какой же мне толк сидеть здесь с докторами, которые все время талдычат одно и то же о том, с чем я должна справиться, что ради этого я здесь и нахожусь. Поэтому я написала сегодня отцу,
(4)
чтобы он приехал и забрал меня отсюда. Я рада, что Вам так интересно исследовать людей и отсылать их назад. Это, должно быть, очень забавно.
И снова, в другом письме:
Вы должны пропустить Ваше следующее исследование и написать мне письмо. Они только что прислали мне кое-какие граммофонные пластинки на случай, если я забуду заученное мной, а я их все перебила, и сиделка со мной не разговаривает. Пластинки-то были на английском, так что сиделки ничего и не поняли бы. Один чикагский доктор говорил, что я всех обманываю, но на самом деле имел в виду, что я шестой близнец, а он таких еще ни разу не видел. Но я была тогда очень занята – сходила с ума – и мне было все равно, что он говорит; когда я очень занята, потому что схожу с ума, мне, как правило, все равно, что они там говорят, пусть хоть миллионным близнецом называют.
Вы сказали, что можете научить меня играть. Что ж, я думаю,
(2)
любовь – это главное, что у нас есть или должно быть. Как бы то ни было, я довольна, что Ваш интерес к исследованиям не дает вам сидеть сложа руки.
Tout à vous[71],
Николь Уоррен
Были и другие письма, в чьих беспомощныхcæsuras[72] таились ритмы более мрачные.
ДОРОГОЙ КАПИТАН ДАЙВЕР
Пишу Вам, поскольку больше обратиться не к кому, а мне представляется, что, если эта фарсическая ситуация очевидна для меня, женщины очень больной, она должна быть очевидной и для вас. Мое психическое расстройство осталось позади, но я совершенно разбита и унижена – по-видимому, этого они и добивались. Моя семья относится ко мне с постыдным пренебрежением, просить у нее помощи или жалости бессмысленно. С меня довольно, притворяться и дальше, что происходящее с моей головой излечимо, значит просто-
(2)
напросто губить свое здоровье и попусту тратить время.
Я нахожусь в каком-то полусумасшедшем доме, потому что никто здесь не считает правильным говорить мне правду о чем бы то ни было. Если б я только знала, что происходит, как знаю теперь, я, полагаю, выдержала бы это, поскольку женщина я достаточно сильная, однако те, кому следовало бы, не сочли правильным меня
(3)
просветить. И теперь, когда я знаю, когда заплатила за знание такую цену, они сидят здесь, ничтожные люди, и говорят, что мне следует верить в то, во что я верила прежде. Особенно один старается, но теперь я знаю.
Я все время одинока, отделена от друзей и родных Атлантикой и брожу по здешнему заведению в каком-то полуоцепенении. Если бы Вы нашли для меня место переводчицы (французский и немецкий я знаю, как родной язык, итальянский – очень прилично и немного
(4)
говорю по-испански) или в Красном Кресте, или в госпитале, правда, на медицинскую сестру мне еще пришлось бы учиться, Вы стали бы для меня благословением свыше.
И снова:
Поскольку Вы не примете мои объяснения происходящего, то могли бы, по крайней мере, объяснить мне, что думаете сами, потому что у Вас лицо доброго кота, а не подозрительная физиономия из тех, что, похоже, пользуются здесь таким успехом. Доктор Грегори дал мне Ваш снимок, на нем Вы не так красивы, как в форме, зато выглядите моложе.
MON CAPITAINE
Очень приятно было получить от Вас открытку. Я так рада, что Вы с таким удовольствием увольняете медицинских сестер – о, я прекрасно поняла Ваши слова. Вот только с первой минуты с Вами я думала, что Вы совсем другой.
ДОРОГОЙ КАПИТАН
Сегодня я думаю одно, завтра другое. В сущности, это и есть моя главная беда, если не считать безумной несговорчивости и отсутствия чувства меры. Я с удовольствием приняла бы любого психиатра, какого Вы мне предложите. Здесь они нежатся в ваннах, распевая
(2)
«Играй у себя на заднем дворе», как будто у меня есть задний двор или какая-либо надежда, которую я могу отыскать, глядя назад либо вперед. Они попробовали проделать это снова и снова в кондитерской, и я чуть не ударила продавца гирькой, да они меня удержали.
Больше я к Вам писать не буду. Я слишком неуравновешенна.
Следующий месяц прошел без писем. А затем случилась неожиданная перемена.
– Я медленно возвращаюсь к жизни…
– Сегодня цветы и облака…
– Война закончилась, а я почти ее и не заметила…
– Как же добры Вы были! Наверное, за Вашим лицом белого кота скрыта великая мудрость, правда, по снимку, который дал мне доктор Грегори, этого не скажешь…
– Сегодня ездила в Цюрих, какое странное чувство испытываешь, снова увидев город…
– Сегодня мы были в Берне, там такие милые часы.
– Сегодня мы забрались так высоко, что увидели асфодели и эдельвейсы…
Затем писем стало приходить меньше, и он отвечал на каждое. В одном говорилось:
Мне хочется, чтобы кто-нибудь влюбился в меня, как влюблялись когда-то юноши, – сто лет назад, когда я еще не заболела. Полагаю, впрочем, что пройдут годы, прежде чем я смогу всерьез рассчитывать на что-то подобное.
Однако стоило Дику по какой-либо причине промедлить с ответом, как происходил взрыв нервной тревоги, похожей на тревогу влюбленной: «Наверное, я Вам прискучила» или: «Боюсь, я злоупотребляла Вашим терпением», или: «Ночью я думала о том, что Вы заболели».
Дик и вправду заболел – инфлюэнцей. А оправившись, был так слаб, что сил его хватало лишь на необходимую официальную переписку, к тому же вскоре воспоминания о Николь заслонило живое присутствие висконсинской телефонистки из штаба в Бар-сюр-Обе. Обладательница алых, как у девушки с плаката, губ, она была известна в офицерских столовых под не вполне приличным прозвищем «Распределительный щиток».
В кабинет вернулся преисполненный чувства собственной значимости Франц. Дик подумал, что он мог бы, наверное, стать неплохим клиницистом, что громкие, отрывистые каденции, посредством которых Франц призывал к порядку медицинских сестер и пациентов, свидетельствуют не о нервозности его, но о великом и безвредном тщеславии. Свои подлинные, куда более упорядоченные эмоции Франц держал при себе.
– Итак, о девушке, Дик, – сказал он. – Конечно, мне хочется узнать, как вы жили, и рассказать, как жил я, но сначала о ней, – я так долго ждал возможности рассказать вам все.
Он протянул руку к шкафчику, в котором хранил документы, достал стопку бумаг, но, перебрав их и решив, что они только помешают, положил на стол. И приступил к рассказу.
III
Года полтора назад доктор Домлер вступил в неопределенного толка переписку с проживавшим в Лозанне американцем, мистером Деверё Уорреном, из чикагских Уорренов. Они условились о встрече, и в один прекрасный день мистер Уоррен приехал в клинику со своей шестнадцатилетней дочерью Николь. Девочка явно была не в себе и, пока мистер Уоррен получал консультацию, гуляла по территории клиники с сопровождавшей ее сиделкой.
Уоррен оказался человеком необычайно красивым, выглядевшим лет на сорок без малого. Он был во всех отношениях образчиком рафинированного американца – рослый, широкоплечий, прекрасно сложенный («un homme très chic»[73] – сказал, описывая его Францу доктор Домлер). Большие серые глаза его немного покраснели от яркого солнца – он занимался греблей на Женевском озере, – а общий облик мистера Уоррена говорил: все, что есть в этом мире лучшего, – к его услугам. Разговор шел на немецком, поскольку, как очень быстро выяснилось, образование мистер Уоррен получил в Гёттингене. Он нервничал и очевидным образом принимал происходившее близко к сердцу.
– У моей дочери умственное расстройство, доктор Домлер. Я обращался ко многим специалистам, нанимал для нее медицинских сестер, два раза дочь прошла курс лечения покоем, однако справиться с ее болезнью не удалось, и мне настоятельно посоветовали обратиться к вам.
– Хорошо, – сказал доктор Домлер. – Попробуйте начать с самого начала, расскажите мне все.
– Начала не существует, по крайней мере, случаев безумия, насколько я знаю, среди ее родни – и с той, и с другой стороны – не отмечалось. Мать Николь умерла, когда девочке было одиннадцать, с тех пор я стал для нее и отцом, и матерью – не без помощи гувернанток, конечно, – и отцом, и матерью.
Слова эти сильно тронули его самого. Доктор Домлер увидел слезы в уголках его глаз и впервые заметил, что дыхание мистера Уоррена отдает виски.
– В детстве она была существом совершенно очаровательным – все безумно любили ее, то есть все, кому доводилось иметь с ней дело. Она все схватывала на лету и просто купалась в счастье. Любила читать, рисовать, танцевать, играть на пианино – да все любила. Жена не раз говорила, что Николь – единственный наш ребенок, никогда не плакавший по ночам. У меня есть еще старшая дочь и был сын, он умер, но Николь была… Николь была… Николь…
Он умолк, доктор Домлер пришел ему на помощь:
– Была совершенно нормальным, веселым, счастливым ребенком.
– Вот именно.
Доктор Домлер ждал продолжения. Мистер Уоррен покачал головой, протяжно вздохнул, бросил на доктора Домлера быстрый взгляд и снова уставился в пол.
– Месяцев восемь назад, а может быть, шесть или десять – не могу точно вспомнить, где мы были, когда она начала странно вести себя, совершать сумасбродные поступки. Впервые я услышал об этом от ее сестры… потому что мне-то Николь неизменно казалась все той же, – так торопливо, точно он ждал каких-то обвинений, добавил мистер Уоррен, – той же самой прелестной девочкой. Первая история была связана с камердинером.
– О да, – сказал доктор Домлер, кивая так важно, точно он – совершенно как Шерлок Холмс, – ожидал, что в этом месте рассказа непременно объявится камердинер, и только камердинер.
– У меня лет десять служил камердинер – швейцарец, кстати сказать, – он поднял взгляд, ожидая от доктора Домлера патриотического одобрения. – И Николь вбила себе в голову нечто совершенно бредовое. Решила, что он к ней подъезжает, – конечно, я в тот раз поверил дочери и прогнал его, но теперь понимаю, какой это было чушью.
– Что, по ее словам, он сделал?
– Вот это самое главное и есть – доктора ничего из нее вытянуть не смогли. Она лишь смотрела на них так, точно они сами должны знать, что он сделал. Но безусловно подразумевала, что он непристойным манером заигрывал с ней, в этом она у нас никаких сомнений не оставила.
– Понимаю.
– Я, конечно, читал об одиноких женщинах, которым начинает казаться, будто у них мужчина под кроватью прячется и прочее, но откуда взялись такие мысли у Николь? Она могла получить любого молодого человека, только помани. Когда мы жили в Лейк-Форесте – это летний поселок под Чикаго, у нас там дом, – она целыми днями играла с юношами в гольф или в теннис. И некоторые были к ней очень неравнодушны.
Пока Уоррен распространялся перед старым, сухим доктором Домлером, какая-то часть мыслей последнего раз за разом обращалась к Чикаго. В молодости ему представилась возможность поработать в тамошнем университете младшим научным сотрудником и преподавателем – и может быть, разбогатеть и обзавестись собственной клиникой вместо того, чтобы стать, как сейчас, мелким держателем акций этой. Однако представив себе, что ему придется раскинуть скудную, как он полагал, сеть его знаний по тамошним просторам, по всем их пшеничным полям и бескрайним прериям, доктор оробел. Впрочем, он немало прочитал о Чикаго тех дней, о великих феодальных династиях Арморов, Палмеров, Филдов, Крейнов, Уорренов, Свифтов, Мак-Кормиков и многих других, а с тех пор у него перебывало изрядное число пациентов из этого слоя чикагского и нью-йоркского общества.
– Ей становится все хуже, – рассказывал между тем Уоррен. – Начались припадки или что-то такое, и говорит она вещи все более и более безумные. Ее сестра записала кое-какие из них, – он протянул доктору много раз сложенный листок бумаги. – Говорит почти всегда о мужчинах, которые собираются напасть на нее, о знакомых ей мужчинах или увиденных на улицах – о каких угодно…
Он обстоятельно рассказал о тревоге и страданиях родных, об ужасах, через которые вынуждены проходить в таких обстоятельствах семьи, о бесплодных усилиях, предпринятых ими в Америке, и наконец, об их вере в перемену обстановки, вере, заставившей его махнуть рукой на немецкие подводные лодки и доставить дочь в Швейцарию.
– …на крейсере Соединенных Штатов, – не без надменности уточнил Уоррен. – Подвернулся счастливый случай, который позволил мне это устроить. И могу добавить, – сконфуженно улыбнулся он, – что деньги, как говорится, не вопрос.
– Разумеется, – сухо согласился Домлер.
Он все пытался понять, почему этот человек лжет ему. Или, если он на сей счет заблуждается, что за фальшь пропитала собой и его кабинет, и этого красивого господина в костюме из твида, мужчину, который с такой непринужденностью, с легкостью спортсмена расположился в его кресле? Там, за окнами, бредет под февральским небом трагедия, юная птица со сломанными крыльями, а здесь ему говорят слишком мало, да к тому же и врут.
– Я хотел бы… поговорить с ней… несколько минут, – сказал доктор Домлер, перейдя на английский, словно этот язык мог как-то сблизить его с Уорреном.
Позже, когда Уоррен, оставив дочь в клинике, вернулся в Лозанну и прошло несколько дней, доктор и Франц записали в истории болезни Николь:
Diagnostic: Schizophrénie. Phase aiguë en décroissance. La peur des hommes est un symptôme de la maladie, et n’est point constitutionnelle…. Le pronostic doit rester réservé[74].
И стали со все возраставшим интересом ожидать обещанного мистером Уорреном второго визита.
Однако он не спешил. Прождав две недели, доктор Домлер отправил ему письмо. Молчание продолжалось, и доктор решился на то, что в те дни называли «une folie»[75] – телефонировал в «Гран-отель» Веве. И услышал от слуги мистера Уоррена, что тот в настоящую минуту укладывает вещи, намереваясь отплыть в Америку. При мысли о том, что заплатить за этот звонок сорок швейцарских франков придется клинике, на выручку доктору Домлеру пришла текшая в его жилах кровь гвардейцев Тюильри, и мистеру Уоррену пришлось-таки подойти к телефону.
– Ваш приезд… необходим абсолютно. От него зависит здоровье вашей дочери… зависит все. Иначе я снимаю с себя ответственность.
– Но, помилуйте, доктор, вы же для того и существуете. А меня вызвали домой, срочно!
Доктору Домлеру не доводилось еще вести разговор на таком расстоянии, однако ультиматум свой он изложил в выражениях столь решительных, что исстрадавшийся американец сдался. Через полчаса после его второго приезда на Цюрихское озеро он сломался, плечи его под прекрасно подогнанным пиджаком затряслись от ужасных рыданий, глаза покраснели пуще, чем от солнца над Женевским озером, и доктора услышали чудовищную историю.
– Так получилось, – хрипло произнес он. – Я не знаю, как… не знаю.
– После смерти ее матери маленькая Николь стала каждое утро приходить ко мне в спальню и залезать в мою постель. Я жалел малышку. О, позже, куда бы мы ни ехали в машине или на поезде, мы всегда держались за руки. Она пела мне песенки. Мы говорили друг дружке: «Не станем сегодня ни на кого обращать внимание… пусть нас будет только двое… этим утром ты моя», – в голосе его проступил надломленный сарказм. – Люди твердили: какая чудесная пара, отец и дочка, – многие вытирали глаза. Мы были как любовники… а потом вдруг стали любовниками… и через десять минут после того, как это случилось, я мог бы застрелиться… но я, наверное, такой проклятый Богом выродок, что мне не хватило бы смелости.
– Что потом? – спросил доктор Домлер, снова вспомнив о Чикаго и о спокойном бледном господине в пенсне, который тридцать лет назад принимал его в Цюрихе. – Это имело продолжение?
– О нет! Она почти… она сразу словно оледенела. Просто сказала: «Не беда, папочка, не беда. Это ничего не значит. Не беда».
– Последствий не было?
– Нет. – Последнее короткое рыдание, затем он несколько раз высморкался. – Не считая множества нынешних.
Рассказ Уоррена завершился. Доктор Домлер откинулся на спинку столь любимого буржуазией покойного кресла и резко сказал сам себе: «Мужлан!» – и это было одно из тех немногих житейских и только житейских суждений, какие он позволил себе за последние двадцать лет. Затем:
– Отправляйтесь в Цюрих, проведите ночь в отеле, а утром приезжайте сюда, поговорим.
– А после?
Доктор Домлер вытянул перед собой руки, разведя их достаточно широко для того, чтобы удержать на них молодую свинью.
– Чикаго, – порекомендовал он.
IV
– Так мы поняли, с чем имеем дело, – продолжал Франц. – Домлер сказал Уоррену, что мы возьмемся за лечение, если он согласится не приближаться к дочери в течение неопределенного времени, абсолютный минимум – пять лет. Впрочем, оправившегося от первого срыва Уоррена заботило только одно: чтобы сведения о его истории не просочились в Америку.
– Мы набросали план лечения и стали ждать. Прогноз был плохим: сами знаете, в таком возрасте процент излечений – даже при использовании так называемой социальной терапии – крайне мал.
– Первые ее письма производили тяжелое впечатление, – согласился Дик.
– Очень тяжелое и очень типичное. Я долго колебался, прежде чем решился выпустить самое первое за пределы клиники. А потом подумал: Дику будет полезно знать, чем мы тут заняты. Вы проявили большое великодушие, отвечая на них.
Дик вздохнул.
– Она была такая хорошенькая – к первому письму прилагались ее фотографии. А мне в первый тамошний месяц занять себя было нечем. Да и писал я ей, в сущности, только одно: «Будьте хорошей девочкой, слушайтесь докторов».
– Этого оказалось довольно – у нее появился принадлежащий к внешнему миру человек, о котором она могла думать. А прежде не было никого, только сестра, но они, кажется, не очень близки. Помимо того, чтение ее писем помогало и нам – мы судили по ним о ее состоянии.
– Ну и хорошо.
– Теперь вы понимаете, что произошло? Николь ощутила свою причастность к жизни – дело, может быть, не столь уж и существенное, но позволившее нам заново оценить подлинную уравновешенность и силу ее характера. Сначала она испытала то, первое потрясение. Потом попала в закрытую школу, наслушалась разговоров девочек и просто из чувства самосохранения утвердилась в мысли, что она тут ни при чем, – а это прямая дорога в призрачный мир, населенный мужчинами, которые оказываются тем более порочными, чем с большей любовью и доверием ты к ним относишься…
– Она когда-нибудь рассказывала о том… кошмаре?
– Нет, и надо сказать, в октябре, когда ее поведение начало вроде бы становиться нормальным, мы зашли в тупик. Если бы ей было лет тридцать, мы позволили бы ей перестраиваться самостоятельно, однако девочка слишком юна, и мы боялись, что она может лишь закрепить все, что в ней изломано и перекручено. Поэтому доктор Домлер сказал ей напрямик: «Теперь вы в долгу только перед собой. Это ни в коем случае не означает, что жизнь ваша кончена, – она лишь начинается» – и так далее и тому подобное. На самом деле, у нее великолепно развитый ум, доктор дал ей почитать кое-что из Фрейда, не многое, и она очень заинтересовалась. Собственно говоря, девочка стала здесь общей любимицей. Однако она скрытна, – добавил Франц и, помявшись: – Мы гадали, не содержат ли письма, которые она самостоятельно отправляла из Цюриха, чего-нибудь проливающего свет на состояние ее разума и планы на будущее.
Дик поразмыслил.
– И да, и нет – если хотите, я привезу вам эти письма. Похоже, у нее появились надежды и нормальная жажда жизни – даже некоторая романтичность. Иногда она упоминает о «прошлом» примерно так же, как люди, которые посидели в тюрьме. Никогда не поймешь, говорят ли они о своем преступлении, или о заключении, или обо всем этом опыте в целом. В конце концов, я для нее всего лишь подобие манекена.
– Разумеется, я очень хорошо понимаю ваше положение и просто обязан еще раз поблагодарить вас. Потому я и хотел поговорить с вами до того, как вы увидитесь с девушкой.
Дик усмехнулся:
– Вы боитесь, что она с ходу бросится в мои объятия и повиснет у меня на шее?
– Нет, не то. Но хочу попросить вас быть очень осмотрительным. Вы нравитесь женщинам, Дик.
– Тогда да поможет мне Бог! Ладно, я буду осторожным и отталкивающим – стану жевать чеснок перед каждой встречей с ней и отпущу колючую щетину. Она еще бегать от меня будет.
– Только не чеснок! – сказал Франц, принявший его слова за чистую монету. – Так вы себе всю карьеру испортите. Но вы ведь отчасти шутите.
– …могу еще изобразить хромоту. Ну, а порядочной ванны в моем нынешнем жилище так и так нет.
– Теперь вы просто шутите, – сказал Франц, успокоившись, или, вернее, приняв позу успокоившегося человека. – Хорошо, расскажите о себе, о ваших планах.
– План у меня только один, Франц, стать хорошим психиатром, может быть, величайшим из когда-либо живших.

