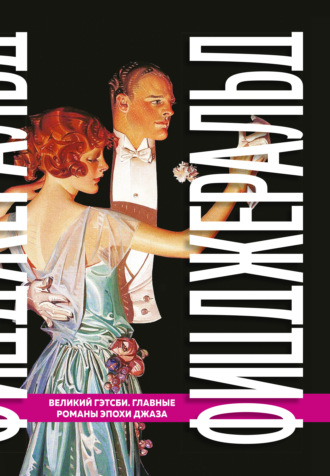
Великий Гэтсби. Главные романы эпохи джаза
…Платье, стань для него накрахмаленным, пуговица, держись что есть сил, цвети, нарцисс, – воздух, стань спокойным и сладким.
– Да, приятно будет снова зажить, не зная беды, – пробормотала она. В голове Николь мелькнула шальная мысль: может, рассказать ему, как она богата, в каких огромных домах жила, сколь большую ценность представляет, – Николь словно обратилась на миг в своего деда, барышника Сида Уоррена. Впрочем, она одолела искушение, грозившее спутать и сбить всю шкалу ее ценностей, отогнала его туда, где ему самое место, – в запертый чулан викторианского дома, даром что у самой Николь дома теперь не осталось, лишь пустота и боль.
– Пора возвращаться в клинику. Дождь прекратился.
Дик шел рядом с ней, понимая, что она несчастна, жаждая снять губами капли дождя с ее щеки.
– Мне прислали несколько новых пластинок, – говорила она. – Так не терпится их послушать. Знаете…
Дик думал, что в этот же вечер, после ужина, он постарается окончательно закрепить разрыв с Николь, а еще ему хотелось от души пнуть ногой в зад Франца, который принудил его совершить дело столь подлое. Он ждал в вестибюле центрального здания, поглядывая на берет, не намокший, как у Николь, от ожидания, но прикрывавший недавно прооперированную голову. Мужчина в берете встретился с Диком глазами и подошел к нему:
– Bonjour, Docteur.
– Bonjour, Monsieur.
– Il fait beau temps.
– Oui, merveilleux.
– Vous êtes ici maintenant?
– Non, pour la journée seulement.
– Ah, bon. Alors-au revoir, Monsieur[84].
Довольный тем, как он справился с разговором, бедняга в берете удалился. Дик ждал. В конце концов сверху спустилась сиделка, доставившая ему сообщение.
– Мисс Уоррен просит простить ее, доктор. Ей необходимо полежать. Ужинать она будет наверху.
Сиделка умолкла, ожидая его ответа, наполовину надеясь услышать, что, разумеется, от такой сумасшедшей, как мисс Уоррен, ничего другого и ожидать не приходится.
– О, понимаю. Ну что же… – Дик проглотил ставшую вдруг обильной слюну, приказал сердцу колотиться помедленней. – Надеюсь, ей станет лучше. Спасибо.
Такой поворот озадачил и раздосадовал его. Но, во всяком случае, освободил от дальнейшего.
Оставив Францу записку с просьбой извинить его за то, что к ужину он не придет, Дик направился полями к остановке трамвая. А дойдя до платформы, увидев ее вызолоченные весенним закатом перила и стекла торговых автоматов, почувствовал вдруг, что и остановка, и клиника застряли между двумя состояниями – центробежным и центростремительным. И испугался. Спокойно на душе Дика стало, лишь когда его каблуки застучали по солидным камням цюрихской мостовой.
Он ожидал получить назавтра весточку от Николь – и не получил ни слова. Уж не заболела ли? – подумал он, и позвонил в клинику, и поговорил с Францем.
– Она спускалась сегодня к ленчу, как и вчера, – сказал Франц. – Выглядит немного рассеянной, словно бы витающей в облаках. Как все прошло?
Дик предпринял попытку перескочить разделяющую мужчин и женщин альпийскую пропасть.
– До сути дела мы не добрались – по крайней мере, я так думаю. Я старался изображать холодность, однако мне кажется, для того чтобы изменить ее установку, если она укоренилась достаточно прочно, этого мало.
Возможно, тщеславие его было уязвлено тем, что он не сумел нанестиcoup de grâce.
– Исходя из того, что она сказала сиделке, я склонен считать, что она все поняла.
– Хорошо.
– Это лучшее, что с ней могло случиться. И она не выглядит перевозбужденной – всего лишь витающей в облаках.
– Хорошо, ладно.
– Возвращайтесь поскорее, Дик, нам нужно поговорить.
VIII
Несколько следующих недель Дик провел в состоянии величайшего недовольства собой. Патологическое зарождение и механический разрыв его отношений с Николь оставили в душе Дика тусклый металлический привкус. На чувствах Николь сыграли самым бессовестным образом, – каково было б ему, если бы кто-то обошелся вот так с его чувствами? Да, необходимость принудила его отказаться от счастья, но, засыпая, Дик видел, как Николь идет по дорожке клиники, помахивая широкополой соломенной шляпой…
Один раз он увидел ее воочию: проходил мимо «Палас-отеля», когда на изогнутую полумесяцем подъездную дорожку этого внушительного здания свернул величавый «роллс». В огромной машине сидели показавшиеся ему маленькими, покачиваемые, как поплавки, мощью избыточной сотни ее лошадиных сил, Николь и еще одна молодая женщина – ее сестра, решил Дик. Николь заметила его и испуганно приоткрыла губы. Дик сдвинул шляпу на лоб и проследовал дальше, однако на миг вокруг него шумно закружили все гоблины Гроссмюнстера. Он попытался выбросить эту встречу из головы, включив ее в меморандум, который содержал обстоятельный отчет о течении недуга Николь и вероятностей нового «натиска» такового вследствие стрессов, коими неизбежно снабдит ее жизнь, – как и все меморандумы, этот показался бы убедительным кому угодно, только не его автору.
Суммарная ценность всей затеи свелась к тому, что он еще раз понял, насколько сильно разбередила история с Николь его душу, – и самым решительным образом взялся за поиски противоядия. Одним из возможных был звонок телефонистки из Бар-сюр-Оба, ныне объезжавшей Европу – от Ниццы до Кобленца, – совершая отчаянную обзорную экскурсию, пытаясь повидаться со всеми мужчинами, каких она знала в свои ни с чем не сравнимые веселые денечки; другим – старания договориться о месте на государственном транспорте, отплывавшем домой в августе; третьим – напряженная работа над корректурой книги, которую предстояло предложить осенью на рассмотрение немецким психиатрам.
Книгу эту Дик уже перерос; теперь ему хотелось заняться настоящей «черновой работой»; он подумывал о том, чтобы подыскать в Америке какую-нибудь программу научного обмена, которая позволит получить европейскую ординатуру.
А между тем он задумал новую книгу: «Попытка единой практической классификации неврозов и психозов, основанная на рассмотрении полутора тысяч до-крепелиновских и после-крепелиновских историй болезни, и их возможной диагностики различными современными школами психиатрии», а дальше звучный подзаголовок – «С хронологией возникавших независимо от них частных мнений».
По-немецки это выглядело бы просто-напросто монументально[85].
Дик въезжал в Монтрё, неторопливо давя на педали и поглядывая, когда удавалось, на Югенхорн; блеск озера в просветах череды прибрежных отелей слепил его. Время от времени на глаза ему попадались компании английских туристов, появившихся здесь впервые за последние четыре года и озиравшихся по сторонам с подозрительностью людей, которые начитались детективных историй – похоже, они опасались, что в этой сомнительной стране на них могут в любую минуту наброситься прошедшие немецкую выучку диверсанты. Среди груд каменного сора, когда-то принесенного сюда горными потоками, шло строительство, – места эти пробуждались от спячки. В Берне и Лозанне, через которые Дик проезжал, направляясь на юг, у него озабоченно спрашивали, приедут ли в этом году американцы. «Не в июне, так хоть в августе?»
Он был в кожаных шортах, армейской рубашке и горных ботинках. В рюкзаке лежал хлопковый костюм и перемена белья. На станции глионского фуникулера он сдал велосипед в багаж и посидел со стаканом пива на террасе станционного буфета, следя за мелким жучком, который сползал по горному склону под углом в восемьдесят градусов. В ухе Дика запеклась кровь – результат спринтерского броска, осуществленного им в Ла Тур-де-Пей, где он вообразил себя недооцененным гонщиком. Дик попросил у официанта водки и протер ею ушную раковину, глядя, как фуникулер подходит к станции. А убедившись, что велосипед его погружен, забросил рюкзак в нижнее отделение вагонетки и забрался туда же сам.
Пол у вагонетки канатной дороги наклонен примерно под тем углом, какой придает своей шляпе не желающий быть узнанным мужчина. Из находившегося под полом бака с шумом выливалась вода. Дик порадовался изобретательности этой выдумки, – бак второй вагонетки, той, что сейчас была на самом верху, заполнялся в эту минуту горной водой, и, когда ее снимут с тормоза, сила тяжести потянет верхнюю вагонетку вниз, и она потянет вверх нижнюю, ставшую без воды более легкой. Восхитительно. Между тем двое усевшихся напротив Дика британцев разговаривали о кабеле канатной дороги.
– Те, что делали в Англии, служили пять-шесть лет. Пару лет назад немцы предложили более низкую цену, и, как ты думаешь, сколько времени способен протянуть их кабель?
– Сколько?
– Год и десять месяцев. Потом швейцарцы продают его итальянцам. Там кабели вообще не проверяют.
– Насколько я понимаю, если он лопнет, Швейцария наживет ужасные неприятности.
Кондуктор захлопнул дверцу, позвонил по телефону коллеге, и вагонетка, рывком снявшись с места, поползла к малой соринке на вершине изумрудной горы. И после того, как она миновала крыши домов, пассажирам открылась круговая панорама Во, Валэ, Швейцарской Савойи и Женевы. В середине панорамы покоилось озеро, охлаждаемое прорезающими его потоками Роны, и это был истинный центр Западного Мира. Лебеди плыли по нему, как лодки, и лодки, как лебеди, теряясь, и те и другие, в ничтожестве бездушной красоты. День стоял яркий, солнце посверкивало внизу на травянистом берегу и в белых двориках Курзала. Люди, проходившие по ним, теней не отбрасывали.
Когда показались Шильон и островной дворец Саланьон, Дик еще раз обвел глазами вагонетку, которая шла сейчас над самыми высокими домами побережья, и с обеих ее сторон то возникали, то исчезали спутанные и красочные купы листвы и цветов. То был парк, разбитый по сторонам канатной дороги; в вагонетке даже висела табличка: «Défense de cueillir les fleurs»[86].
Рвать цветы по пути наверх не полагалось, однако они так и лезли в проплывавшую мимо них вагонетку – длинные стебли роз Дороти Перкинс терпеливо просовывались в каждое ее отделение и, неторопливо покачавшись, возвращались к своим кустам. Ветви их проделывали это снова и снова.
В ближнем к Дику отделении – впереди и выше его, стояла компания англичан, восхищенно вскрикивавших, любуясь видом, но вот они засуетились и расступились, пропуская двух молодых людей, с извинениями перелезших в отделение самое заднее, отделение Дика. Молодой человек с глазами, как у чучела оленя, был итальянцем, девушкой – Николь.
Запыхавшиеся от усилий, которых потребовал переход из одного отделения в другое, они уселись, смеясь, на скамью, сдвинув в ее угол двух англичан, и Николь сказала: «При-вет!» Глядеть на нее было одно удовольствие, Дик сразу увидел: что-то в ней переменилось, а следом понял, что – хитросплетенные волосы Николь были теперь подстрижены, как у Ирен Касл[87], завиты и немного взбиты. Она была в зеленовато-голубом свитере и белой юбочке теннисистки и пуще всего походила на первое майское утро – даже намека на клинику в ней не осталось.
– Пуфф! – выдохнула она. – Этот уж мне кондуктор. На остановке нас точно арестуют. Доктор Дайвер – граф де Мармора.
– Ну и ну! – Николь провела, отдуваясь, рукой по новой прическе. – Сестра купила билеты в первый класс – для нее это дело принципа.
Она и Мармора обменялись взглядами, и Николь воскликнула:
– И оказалось, что первый класс – это катафалк какой-то, прямо за спиной машиниста. Окна занавешены – а ну как дождь пойдет – и ничегошеньки оттуда не видно. Но сестра у меня – женщина горделивая…
И снова Николь и Мармора рассмеялись, соединенные юношеской близостью.
– Вы куда направляетесь? – спросил Дик.
– В Ко. Вы тоже? – Николь оглядела его наряд. – Это ваш велосипед впереди прицеплен?
– Мой. Собираюсь в понедельник спуститься на побережье.
– А меня на раму не посадите? Нет, правда – посадите. Я ничего веселее и представить себе не могу.
– Помилуйте, да я снесу вас вниз на руках, – горячо запротестовал Мармора. – Скачусь вместе с вами на роликах или сброшу вас с горы, и вы полетите легко, точно перышко.
Лицо Николь светилось от счастья – снова стать перышком, а не свинцовой гирькой, плыть по воздуху, а не влачиться по жесткой земле. Наблюдать за ней – это уже было праздником – застенчивой, рисующейся, гримасничающей, жестикулирующей, хотя временами некая тень накрывала ее и достоинство давнего страдания пронизывало, коля иголками кончики пальцев. Дику хотелось отойти от нее как можно дальше, он боялся стать напоминанием о том, что Николь оставила позади. И потому решил переменить отель.
Когда фуникулер вдруг остановился, те, кто воспользовался им впервые, взволновались, боясь навсегда остаться в небе. Но причина состояла лишь в том, что кондукторам двух вагонеток – шедшей вверх и шедшей вниз – потребовалось поговорить о чем-то своем. И скоро вагонетка пошла все вверх, вверх – над лесной тропой, потом над ущельем и снова над сплошь заросшим нарциссами склоном горы, восходившим из-под ног пассажиров прямо в небо. Теннисисты прибрежных кортов Монтрё обратились в пылинки, что-то новое почуялось в воздухе: свежесть, претворявшаяся в музыку, пока вагонетка вскальзывала в Глион – там оркестр играл в парке отеля.
Когда они пересаживались на горный поезд, музыка потонула в шуме воды, изливавшейся из гидравлической камеры. Ко виднелся прямо над головами их, в тысяче его гостиничных окон горело уходящее солнце.
Все переменилось, зычный паровоз потащил пассажиров кругами, кругами, словно по вертикальному штопору, поднимаясь и поднимаясь, с пыхтеньем пронизывая облака, и на миг лицо Николь исчезало в косом дыму, а потом они снова врывались в потерянное было полотнище ветра, и с каждым оборотом отель разрастался в размерах, пока они вдруг не остановились на самой макушке заката.
Дик закинул рюкзак на плечо и пошел суматошным перроном к своему велосипеду. Николь шла рядом.
– Вы остановитесь в нашем отеле? – спросила она.
– Мне приходится экономить.
– Может, придете к ужину? – Суматоха продолжилась и в багажном отделении. – А, вот и моя сестра – доктор Дайвер из Цюриха.
Дик поклонился женщине лет двадцати пяти, высокой, уверенной в себе. Устрашающая и уязвимая, решил он, вспомнив других дам с чуть потрескавшимися, сложенными в цветок губами.
– Я загляну после ужина, – пообещал Дик. – Мне нужно сначала освоиться здесь.
Он катил велосипед по перрону, чувствуя, как взгляд Николь провожает его, чувствуя беспомощность ее первой любви, чувствуя, как эта любовь вторгается в его душу. Поднявшись на три сотни ярдов к другому отелю, он снял номер и, уже погрузившись в ванну, сообразил, что ни одной из десяти последних минут не помнит, а помнит лишь хмельной туман в голове, пронизанный чьими-то голосами, голосами ничего не значащих людей, ничего не знающих о том, как сильно его любят.
IX
Дика ждали, без него вечер казался неполным. Он все еще оставался для них чем-то непредсказуемым, предвкушение встречи с ним было написано на лицах мисс Уоррен и молодого итальянца так же ясно, как на лице Николь. Гостиную отеля, комнату с баснословной акустикой, освободили, чтобы устроить танцы, почти от всей мебели, оставив лишь столики и стулья для публики – небольшого собрания англичанок определенного возраста, с бархотками на шеях, крашеными волосами и лицами, напудренными до розоватой серости; и определенного же возраста американок в белых, как снег, париках, черных платьях и с вишневыми губами. Мисс Уоррен и Мармора сидели за угловым столиком, Николь стояла ярдах в сорока от них, в противоположном по диагонали углу, и Дик, войдя, услышал, как она говорит:
– Вы меня слышите? Я не повышаю голос.
– Прекрасно слышим.
– Здравствуйте, доктор Дайвер.
– Что вы делаете?
– Вы знаете, что люди в центре зала не слышат моих слов, а вот вы слышите.
– Нам официант об этом сказал, – сообщила мисс Уоррен. – Связь из угла в угол, как по радио.
Диком владело волнение, охватившее его, едва он поднялся сюда, на вершину горы, и ощутил себя одиноким кораблем в океане. Вскоре к ним присоединились родители Марморы. К Уорренам они относились с явным уважением, – насколько понял Дик, их состояние как-то зависело от миланского банка, который как-то зависел от состояния Уорренов. Что касается Бэйби Уоррен, ей не терпелось побеседовать с Диком, не терпелось с силой, которая бросала ее навстречу любому новому мужчине, – словно некие жесткие узы связывали ее с ним, и она считала, что следует как можно скорее добраться до их конца. Во время разговора она скрещивала и перекрещивала ноги, как это часто делают высокие беспокойные девственницы.
– …Николь говорила мне, что вы приняли в ней участие, которое очень помогло ей поправиться. Я одного не понимаю – что, предположительно, должны делатьмы, – доктора в санаториуме высказались на сей счет очень туманно, только и сказали мне, что ей следует позволить вести себя естественно и веселиться. Я знала, что Марморы сейчас здесь, и попросила Тино встретить нас у фуникулера. Что было дальше, вы видели – Николь первым делом подговорила его перелезть вместе с ней через бортик вагонетки, чтобы попасть в другое отделение, оба повели себя как сумасшедшие…
– Ну, это как раз совершенно нормально, – усмехнулся Дик. – Я назвал бы это хорошим признаком. Они просто распускали друг перед другом хвосты.
– Но мне-то как понять, что нормально, а что нет? Я и ахнуть не успела, как она, это еще в Цюрихе было, подстригла волосы, потому что увидела в газете какую-то картинку.
– И это нормально. У нее шизоидный склад личности – постоянное стремление к эксцентрике. Тут ничего изменить невозможно.
– А что это значит?
– Только то, что я и сказал – эксцентричность.
– Хорошо, но как отличить эксцентричность от безумия?
– Никакого безумия больше не будет – Николь бодра и счастлива, бояться вам нечего.
Бэйби снова поменяла расположение перекрещенных ног – она словно вместила в себя всех недовольных своей участью женщин, сто лет назад влюблявшихся в Байрона, и тем не менее, несмотря на трагическую историю с офицером гвардии, в ней ощущалось нечто деревянное, онанистичное.
– Я не возражаю против ответственности, – объявила она, – но я в недоумении. В нашей семье никогда такого не было – мы понимаем, что Николь перенесла какое-то потрясение, и, по моему мнению, оно связано с неким юношей, однако, в сущности, мы ничего не знаем. Отец говорит, что пристрелил бы его, если бы смог что-то выяснить.
Оркестр играл «Бедную бабочку», молодой Мармора танцевал со своей матерью. Для всех них эта мелодия была относительно новой. Слушая ее, глядя на плечи Николь, болтавшей с Марморой-старшим, волосы которого походили на фортепьянную клавиатуру – темные пряди перемежались в них белыми, – Дик подумал сначала о плечах скрипки, а затем о бесчестье, о тайне. Ах, бабочка… мгновения переходят в часы…
– На самом делеу меня имеется план, – твердо, но словно бы и оправдываясь, сказала Бэйби. – Вам он может показаться совершенно непрактичным, но ведь доктора говорят, что за Николь нужно будет присматривать еще несколько лет. Не знаю, хорошо ли вы знаете Чикаго…
– Совсем не знаю.
– Ну так вот, есть Чикаго северный и есть южный, и они совсем разные. Северный шикарен и так далее, мы всегда жили в нем – ну, во всяком случае, давно, однако множество старых семей, старых чикагских семей, если вы понимаете, о чем я, все еще живут в южном. Там же находится и университет. Некоторым эта часть города представляется консервативной, но, так или иначе, на северную она не похожа. Не знаю, понимаете ли вы меня.
Дик кивнул. Не без определенного напряжения, однако следить за ходом ее мыслей ему удавалось.
– Разумеется, у нас там куча связей, – отец финансирует работу нескольких университетских кафедр, оплачивает стипендии и так далее, вот я и думаю, если мы заберем Николь домой и познакомим ее с тамошними людьми, – понимаете, она очень музыкальна и говорит на стольких языках, – она, может быть, полюбит какого-нибудь хорошего врача, а лучшего для нее и желать не приходится…
Дика так и подмывало расхохотаться: Уоррены надумали купить для Николь врача… А нет у вас хорошего доктора, который мог бы нам пригодиться? И все, о Николь можно не беспокоиться, семья вполне способна купить ей молодого врача, на котором и краска еще не успела обсохнуть.
– А ну как у доктора возникнут возражения? – машинально спросил он.
– Желающие получить такой шанс всегда найдутся.
Музыка смолкла, танцевавшие возвращались по местам, и Бэйби торопливо зашептала:
– Такой вот у меня замысел. Постойте, а где же Николь? Опять куда-то сбежала. Может быть, наверх, в свой номер? Ну что мне с ней делать? Никогда же не знаешь – то ли с ней все хорошо, то ли ее разыскивать надо.
– Возможно, ей просто захотелось уединиться – люди, долго жившие в одиночестве, привыкают к нему. – Впрочем, поняв, что мисс Уоррен его не слушает, Дик оставил эту тему. – Пойду посмотрю.
К этому мгновению окрестности заволокло туманом – как будто весна опустила занавес. Дику казалось, что все живое стеснилось к отелю. Он миновал несколько подвальных окон, за которыми сидели на койках, разыгрывая в карты литровую бутылку испанского вина, младшие официанты. Когда же он вышел на прогулочную площадку, над белыми вершинами Альп замерцали звезды. В середине изогнутой подковой террасы, с которой открывался вид на озеро, неподвижно стояла меж двух фонарей Николь. Дик, неслышно ступая по траве, приблизился к ней. Она обратила к нему лицо, на котором было написано: «Ну вот ивы», и на миг он пожалел, что пришел сюда.
– Ваша сестра разволновалась.
– О! – Она привыкла к тому, что за ней присматривают. Однако, сделав над собой усилие, пояснила: – Мне иногда начинает казаться… кажется, что всего слишком много. Я вела такую тихую жизнь. Вот и сейчас – слишком много музыки. Мне от нее захотелось плакать…
– Я понимаю.
– Этот день получился таким волнующим.
– Да.
– Я не хочу делать ничего, как это называется – антисоциального, – я и так уж доставила всем слишком много хлопот. Но этим вечером мне захотелось куда-нибудь сбежать.
Дику пришло вдруг в голову – как умирающему может прийти в голову, что он забыл сказать, где лежит его завещание, – что Домлер и стоявшие за ним призрачные поколения психиатров «преобразовали» Николь; и еще – что ей придется теперь объяснять и объяснять очень многое. Впрочем, отметив про себя мудрость этих мыслей, он решил идти пока на поводу у внешнего смысла сложившейся ситуации и потому сказал:
– Вы славная девушка – вот и доверяйте прежде всего собственной самооценке.
– Я вам нравлюсь?
– Конечно.
– А вы… – Они медленно шли к темноватому концу «подковы», до которого оставалось еще ярдов двести. – Если бы я была больна, вы… ну, то есть была бы я девушкой, с которой вы… ладно, это сентиментальная чушь, но вы же понимаете, о чем я.
Дик понимал, что влип по уши, что ведет себя на редкость безрассудно. Николь была так близко, он сознавал, что дыхание его учащается, однако на помощь ему пришла профессиональная выучка, подсказавшая, что следует издать юношеский смешок и отпустить какое-нибудь банальное замечание.
– Вы сами себя передразниваете, дорогая моя. Я знал когда-то больного, который влюбился в свою сиделку… – Под аккомпанемент их шагов анекдотец пошел как по нотам. Но внезапно Николь оборвала его коротким чикагским «Брехня!».
– Весьма вульгарное выражение.
– Ну и что? – вспыхнула она. – Вы думаете, что я лишена здравого смысла – да, до болезни у меня его не было, зато есть теперь. И если бы я не понимала, что вы – самый привлекательный мужчина, какого я встречала, вам следовало бы счесть меня сумасшедшей. Ладно, так уж мне не повезло, но притворяться, что яне знаю, – увольте – обо мне и о вас я знаю все!
Дик чувствовал себя вдвойне неловко. Он вспомнил слова старшей мисс Уоррен о молодых врачах, которых можно будет купить на скотопригонных дворах южного Чикаго, и мгновенно ожесточился.
– Вы прелестная девушка, но я не умею влюбляться.
– И мне ни единого шанса не даете.
– Что?
Дерзость ее, сама по себе подразумевавшая право на вторжение в чужую жизнь, поразила Дика. Он не мог представить себе ни единого шанса, которого была бы достойна Николь Уоррен, да и получи она какой угодно, тут же начнется хаос.
– Дайте его сейчас.
Произнесено это было негромко, голос Николь словно тонул в ее груди, растягивая тесный корсаж платья, под которым Дик услышал, когда она подступила вплотную к нему, удары сердца. Прикосновение юных губ, вздох облегчения, пронизавший тело Николь под рукой, которой он все крепче прижимал ее к себе. Никаких планов у него не осталось, все выглядело так, точно Дик соорудил наобум какую-то смесь, которую невозможно вновь разложить на составные части, – атомы ее стали, соединившись, неразделимыми, на них можно только махнуть рукой, снова обратиться в отдельные атомы им больше не суждено. Он держал Николь в объятиях, пробовал на вкус, а она изгибалась и изгибалась, приникая губами к его губам, открывая себя заново, с облегчением и торжеством погружаясь в любовь, утопая в ней, Дик же мысленно благодарил небеса просто за то, что он вообще существует, пусть даже как отражение в ее влажных глазах.

