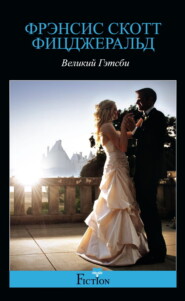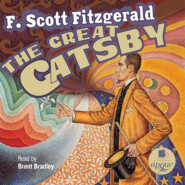По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Заметки о моем поколении. Повесть, пьеса, статьи, стихи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И я попытался пойти дальше, но он цепко ухватил меня за руку и продемонстрировал недвусмысленные симптомы желания провести в моем обществе весь остаток дня.
– Когда я был молод… – начал он, а потом нарисовал привычную картинку, какую рисуют абсолютно все: каким великолепным, счастливым, беззаботным юношей он был в двадцать пять лет. То есть пересказал мне все то, что, по его нынешним мыслям, было у него в мыслях в его туманном прошлом.
Я не стал его прерывать. Время от времени я даже вежливо мычал, дабы изобразить удивление. Когда-нибудь я ведь и сам стану проделывать то же самое. Я сотворю для младого поколения образ Скотта Фицджеральда, который – тут сомневаться не приходится – в данный момент не удалось бы опознать ни одному из моих современников. Но ведь к тому времени они тоже состарятся; и они будут уважать мой образ, как я буду уважать созданные ими…
– Так вот, – завершил беспечальный старикашка, – сейчас ты молод, здоров, сумел разбогатеть, счастлив в браке, достиг больших успехов в тот период жизни, когда еще не поздно ими насладиться, – так, может, поведаешь невинной дряхлой душе, зачем ты пишешь эти…
Тут я не выдержал. Ладно, скажу. Я начал:
– Ну, понимаете ли, сэр, мне представляется, что с возрастом человек делается более уязви…
Дальше я не продвинулся. Стоило мне раскрыть рот, как он торопливо пожал мне руку и отчалил. Слушать он не хотел. Ему было совершенно неинтересно, почему я думаю то, что думаю. У него просто возникла потребность выговориться, а тут я подвернулся под руку. Его удаляющаяся фигура исчезла, слегка покачиваясь, за ближайшим углом.
– Ладно, старый зануда, – пробормотал я. – Не хочешь – не слушай. Все равно ничего не поймешь.
Я от души пнул бордюрный камень, выместив на нем обиду, и пошел дальше.
Таков был первый случай. Второй приключился, когда не так давно ко мне явился репортер из большого газетного синдиката и сказал:
– Мистер Фицджеральд, по Нью-Йорку поползли слухи, что вы и… ах… вы и миссис Фицджеральд намерены по достижении тридцатилетнего возраста покончить с собой, поскольку средний возраст внушает вам ужас и отвращение. Я хотел бы помочь вам предать это событие огласке, поместив его на передовицу пятисот четырнадцати воскресных газет. В одном углу страницы мы расположим…
– Ни слова! – воскликнул я. – Я и так знаю: в одном углу страницы вы расположите обреченную чету – она с мороженым, пропитанным мышьяком, он с восточным кинжалом. Глаза обоих устремлены на огромные часы, а на циферблате – череп и кости. В другом углу вы поместите большой календарь, где дата будет отмечена красным.
– Вот именно! – вскричал репортер в порыве энтузиазма. – Вы верно схватили суть. Ну, так и как же мы…
– Послушайте! – оборвал я его сурово. – Слух этот – полный бред. Абсолютный. Когда мне исполнится тридцать лет, я уже не буду тем же человеком – я буду другим. Даже тело у меня будет другим, потому что я когда-то прочитал про это в книжке, и мировоззрение у меня будет совсем другое. Я даже буду женат на другом человеке.
– Ага! – прервал он, и глаза его вспыхнули; он вытащил блокнот. – Это очень интересно.
– Нет-нет-нет! – поспешно выкрикнул я. – В смысле, жена тоже будет другой.
– Я понял. Вы собрались разводиться.
– Да нет! Я хотел сказать…
– Ну, это не так важно. Но чтобы в сюжете было какое-то наполнение, там должно быть много упоминаний про поцелуйные вечеринки. Вы, случайно, не считаете, что… кхм… петтинг-вечеринки представляют серьезную угрозу Конституции? И, да, для внутренней связи, можем мы упомянуть, что именно петтинг-вечеринки стали основной причиной вашего самоубийства?
– Послушайте! – прервал я его в отчаянии. – Постарайтесь уразуметь: я понятия не имею, какое петтинг-вечеринки имеют к этому отношение. Я всегда боялся состариться, потому что с возрастом неизбежно возрастает уязви…
Но, как и в случае с другом семьи, дальше мне продвинуться не удалось. Репортер страстно стиснул мою руку. Пожал. Потом пробормотал что-то о том, что ему еще брать интервью у хористки, у которой лодыжка, по слухам, из чистой платины, и поспешно ретировался.
Таков был второй случай. Как вы видели, мне удалось сообщить обоим собеседникам, что «с возрастом повышается уязви…». Оказалось, что им это решительно неинтересно. Старик говорил о себе, а репортер – о петтинг-вечеринках. Стоило мне заикнуться об «уязви…», оказалось, что у обоих есть другие дела.
И тогда, возложив одну руку на Восемнадцатую поправку, а другую – на серьезную часть Конституции,[26 - …возложив одну руку на Восемнадцатую поправку, а другую – на серьезную часть Конституции… – Восемнадцатая поправка к Конституции США, принятая конгрессом 17 декабря 1917 г. и ратифицированная тремя четвертями штатов к январю 1919 г., запрещала производство, продажу и транспортировку алкоголя. Этот так называемый сухой закон был отменен Двадцать первой поправкой 5 декабря 1933 г. (Примечания А. Б. Гузмана).] я принес торжественную клятву, что рано или поздно поведаю кому-нибудь свою историю.
Совершенно логично, что по мере того, как человек стареет, повышается его уязвимость. Например, три года назад меня мог обидеть один-единственный человек: я сам. Если, например, жена моего лучшего друга оставалась без волос, потому что их выдрала электрическая стиральная машина,[27 - …жена моего лучшего друга оставалась без волос, потому что их выдрала электрическая стиральная машина… – Ранние электрические стиральные машины (выпуск их начался с 1910 г.) оборудовались внешними отжимными валками, куда легко могло затянуть волосы, и все передаточные механизмы этих машин тоже были открыты. (Примечания А. Б. Гузмана).] я, понятное дело, переживал. Я произносил перед другом длинную речь, где часто повторялось слово «старина», а завершал ее цитатой из Прощального послания Вашингтона.[28 - …цитатой из Прощального послания Вашингтона. – В 1796 г. Джордж Вашингтон мог баллотироваться и на третий срок (конституционных ограничений срока президентства тогда еще не ввели), однако 17 сентября, за полтора месяца до выборов, он обратился к нации с прощальным посланием, в котором, в частности, дал рекомендации правительству насчет внешней и внутренней политики (например, не вступать в постоянные альянсы с иностранными державами). По традиции каждый год 22 февраля, до начала очередной сессии законодательного собрания, текст Прощального послания Вашингтона зачитывается перед обеими палатами конгресса. (Примечания А. Б. Гузмана).] Однако, закончив, я отправлялся в хороший ресторан и там с удовольствием ужинал. Когда мужу моей троюродной сестры маникюрша перерезала артерию, я не скрывал своего глубочайшего расстройства. Однако, услышав эту новость, я не упал в обморок, и меня не пришлось везти домой в первом попавшемся прачечном фургоне.
Короче говоря, я был практически неуязвим. Я, как оно и полагается, испускал стон, если тонуло судно или сходил с рельсов поезд; но, как мне представляется, если бы весь город Чикаго вдруг канул в Лету, это вряд ли помешало бы мне как следует выспаться ночью – при условии, что никто бы мне не намекнул, что следующим на очереди стоит Сент-Пол. Но даже и тогда я бы попросту переправил свои пожитки в Миннеаполис и спал бы дальше.
Но то было три года назад, когда я еще был молод. Мне было всего-то двадцать два года. Когда мне случалось сказать нечто, что не нравилось литературным критикам, им достаточно было воскликнуть: «Боже, какая неискушенность!» Это заставляло меня притихнуть. Клейма «неискушенность» хватало.
Так вот, теперь мне уже двадцать пять, и я перестал быть неискушенным – по крайней мере, глядя в обычное зеркало, я там никакой неискушенности не вижу. Зато я стал уязвимым. Уязвимым во всех отношениях.
На потребу налоговым агентам и кинорежиссерам, которым, возможно, попадет в руки этот журнал, поясню, что «уязвимость» – это то же самое, что и «ранимость». Так вот все просто. Я теперь сделался ранимее. Можно ранить мою грудь, мои чувства, мою челюсть, мою платежеспособность; можно также ранить мою собаку. Я понятно выражаюсь? Мою собаку.
Нет, речь идет не о новой части тела, только что открытой Институтом Рокфеллера.[29 - …речь идет не о новой части тела, только что открытой Институтом Рокфеллера. – Рокфеллеровский институт медицинских исследований был учрежден в Нью-Йорке нефтяным магнатом и филантропом Джоном Рокфеллером в 1901 г.; в 1965 г. переименован в Рокфеллеровский университет. (Примечания А. Б. Гузмана).] Я имею в виду настоящую собаку. Я имею в виду, что, если кто-нибудь сдаст нашего семейного пса в собачий отлов, моя душевная рана будет немногим меньше собакиной. Тем самым этот негодяй ранит мою внутреннюю собаку. А если наш врач скажет мне завтра: «Ваш ребенок не вырастет светловолосым», он ранит меня туда, куда раньше меня ранить было невозможно, потому что раньше у меня не было ребенка, в которого можно было ранить. А если, когда моя дочь вырастет и ей стукнет шестнадцать, она сбежит с каким-нибудь типом из Сион-Сити, пребывающим в уверенности, что Земля плоская,[30 - …типом из Сион-Сити, пребывающим в уверенности, что Земля плоская… – Сион – город в штате Иллинойс, основанный в 1901 г. христианским фундаменталистом Джоном Александром Доуи (1847–1907) и остававшийся под теократическим управлением до 1935 г. (Примечания А. Б. Гузмана).] – я бы, кстати, не стал этого писать, но пока ей всего полгода и читает она не очень, так что дурных мыслей я ей в голову не вложу, – ну так вот, мне нанесут очередную рану.
В то, как могут ранить вашу жену, я вдаваться не стану, слишком уж предмет деликатный. И никаких личных примеров приводить не буду. Однако, по определенным личным причинам, мне известно: если кто-то говорит вашей жене, что не стоило бы ей носить желтое, поскольку в нем она выглядит очень бледной, шесть часов спустя слова этого человека начинают доставлять вам несказанные страдания.
«Доберись до него через жену!» «Похить его ребенка!» «Привяжи жестянку к хвосту его пса!» Сколь часто мы слышим эти призывы в жизни – я уж не говорю о фильмах. И как меня подирает от них по коже! Три года назад можно было орать их у меня под окном всю летнюю ночь, и я бы и глазом не моргнул. Единственное, что могло меня пробудить, это слова: «Погоди-ка. Похоже, отсюда я запросто в него попаду».
Раньше у меня было примерно десять квадратных футов кожи, уязвимых для насморка и простуды. Теперь их около двадцати. Сам я не слишком увеличился в размерах, но в эти двадцать футов входит и кожа моих родных – так что, говоря фигурально, я увеличился, потому что, если насморк или простуда одолевает любой из этих двадцати футов кожи, трястись в лихорадке начинаю именно я.
Вот так вот я неспешно вступаю в средний возраст, ибо средний возраст – это не накопление прожитых лет, а накопление близких людей. Не имея детей, любые деньги можно растягивать до бесконечности. Двум людям нужны комната и ванная; паре с ребенком нужен номер люкс для миллионеров на солнечной стороне отеля.
Позвольте же мне начать религиозный раздел этой статьи словами, что если редактор полагал получить нечто пышущее юностью и счастьем – да, а также неискушенностью, – то придется мне отправить его к своей дочери – если она, конечно, согласится диктовать под запись. Если кто-то полагает меня неискушенным, пусть поглядит на нее – от ее неискушенности меня разбирает смех. Ее, кстати, тоже разбирает смех от собственной неискушенности. Если бы какой литературный критик ее увидел, у него бы случился нервный срыв прямо на месте. С другой стороны, любой человек, который пишет письмо ко мне – будь он редактором или кем-либо еще, – пишет человеку среднего возраста.
Итак, мне двадцать пять лет, и я должен признать, что определенная часть этого срока внушает мне удовлетворение. Я имею в виду, что первые пять лет прошли довольно неплохо, – а вот следующие двадцать! Они состояли из самых что ни на есть ярких контрастов. Кстати, это произвело на меня такое сильное впечатление, что время от времени я даже брался рисовать диаграммы, пытаясь вычислить, в какие годы я был наиболее счастлив. А потом впадал в бешенство и рвал их в куски.
Пропустим долгую череду ошибок, из которых состояло мое отрочество, и начнем с того, что в пятнадцать лет я отправился в частную школу и попусту убил там два года, ставшие годами глубокого и бессмысленного несчастья. Несчастлив я был оттого, что попал в положение, где все считали, что я должен вести себя точно так же, как и они, – а мне не хватало мужества закрыть рот и поступать по-своему вопреки всему.
Например, у нас в школе был один недалекий малый по имени Перси, и по некой неведомой причине мне было крайне важно заслужить его одобрение. Ради этой сомнительной почести я позволил той невеликой части своего разума, которая была уже более или менее возделана, вернуться к состоянию непрореженного подлеска. Я часами торчал в волглом спортивном зале, идиотски постукивая изгвазданным баскетбольным мячом, доводя себя до волглой изгвазданной ярости, – хотя на деле мне хотелось вместо этого пойти погулять.
Все это делалось ради того, чтобы произвести впечатление на Перси. Он считал, что жить нужно именно так. Если вы не занимались каждый день этим волглым бредом, вас объявляли «придурком». Это было его любимое слово, и оно меня страшно пугало. Я не хотел быть придурком. Предпочитал ходить изгвазданным.
Кроме того, на уроках Перси отличался редкостной тупостью; поэтому и я решил прикидываться тупым. Если мне случалось писать рассказы, я писал их исподтишка, чувствуя себя преступником. Если у меня рождалась некая мысль, которая не пролезала в дивную пустую голову Перси, я тут же отказывался от этой мысли и чувствовал себя виноватым.
Понятное дело, ни в какой университет Перси не поступил. Он нашел работу, и с тех пор мы почти не виделись, хотя, насколько мне известно, он весьма преуспел на поприще гробовщика. Время, проведенное в его обществе, было потрачено зря. В смысле, ему нечего было мне дать, и я не имею ни малейшего понятия, почему меня занимали его слова и мысли. Однако осознал все это я слишком поздно.
Хуже всего было то, что так оно и продолжалось до самых моих двадцати двух лет. В смысле, я с удовольствием занимался чем-то, что мне нравилось, пока кто-то не начинал качать головой и говорить:
– Послушай-ка, Фицджеральд, бросай ты это дело. Этим занимаются только… только придурки.
Слово «придурки» неизменно оказывало должное действие, я бросал заниматься тем, чем хотел заниматься и чем заниматься у меня получалось, и начинал заниматься тем, что мне навязывал очередной тип. Впрочем, время от времени я все-таки посылал очередного типа к черту; в противном случае я бы вообще ничего никогда не довел до конца.
В учебном офицерском лагере в 1917 году я начал писать роман. Я приступал к этому каждую субботу в час дня и трудился как каторжный до полуночи. Потом продолжал с шести утра до шести вечера в воскресенье – в шесть вечера мне полагалось вернуться в казарму. Мне это занятие страшно нравилось.
Через месяц ко мне с хмуростью на лицах подошли трое друзей:
– Слушай, Фицджеральд, в выходные положено отдохнуть, развеяться. А так, как ты, выходные проводят одни придурки!
Это слово меня убедило. По спине пробежал привычный холодок. В следующие выходные я отложил роман в сторону, отправился с остальными в город и всю ночь протанцевал на какой-то вечеринке. По ходу танцев я переживал за судьбу своего романа. Переживал так, что в лагерь вернулся не отдохнувшим, а совершенно издерганным. Вот это уж точно была настоящая придурь. Больше я в город не ездил. Дописал роман. Его отвергли; однако год спустя я его переделал, и он был опубликован под названием «По эту сторону рая».
Однако, перед тем как его переделать, я составил перечень «придурей», списав их с людей, которых можно было бы выстроить в шеренгу, и она дотянулась бы до ближайшей психбольницы. Итак, вы придурок, если вы:
1. Обручились, не скопив денег на свадьбу.
2. Бросили рекламный бизнес, проработав там всего три месяца.