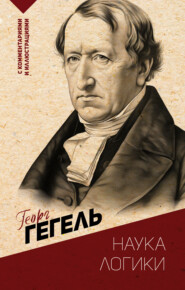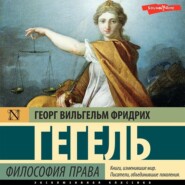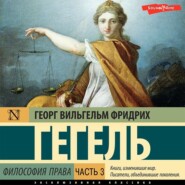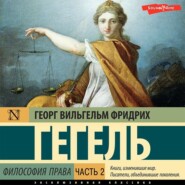По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Философия права
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Примечание. Следуя формальному, а не философскому методу наук, требуют и ищут обыкновенно раньше всего дефиниции по крайней мере ради сохранения внешней научной формы. Наука о положительном праве может, впрочем, не очень заботиться об этом уже потому, что она ставит себе преимущественной целью указать, что – законно, т. е. каковы особенные законодательные определения, и поэтому было сказано предостерегающее слово: omnis definitio in jure civili periculosa. (Всякая дефиниция в гражданском праве опасна.)
И в самом деле: чем определения данного права бессвязнее и самопротиворечивее, тем менее возможны в нем дефиниции, ибо последние должны содержать в себе общие определения, а эти общие определения непосредственно обнаружат противоречивое – здесь противоправовое – во всей его наготе. Так например, римское право не могло бы дать дефиниции человека, ибо раба нельзя было бы подвести под это понятие, которое, наоборот, нарушается его юридическим состоянием. Такими же опасными оказались бы во многих отношениях дефиниции собственности и собственника. – Дедуцируется же обыкновенно дефиниция из этимологии, преимущественно посредством абстрагирования от частных случаев, и при этом кладутся в основание чувства и представления людей. Правильность дефиниции видят затем в ее согласии с существующими представлениями. При этом методе оставляется в стороне то, чт? научно единственно существенно: в отношении содержания – необходимость предмета (здесь – права), самого по себе взятого, а в отношении формы – природа понятия. В философском же познании главным является необходимость понятия, и движение последнего, его становление в качестве результата, составляет его доказательство и дедукцию. Его содержание таким образом само по себе необходимо, и уж вторым делом является установить, чт? соответствует ему в представлениях и в языке. Это понятие, каково оно само по себе в своей истинности, и это же понятие, каким оно оказывается в представлении, не только могут, но и должны отличаться друг от друга по форме и образу. Если, однако, представление не ложно также и по своему содержанию, то можно показать, что понятие в нем содержится и по своему существу налично в нем, т. е. можно возвести представление в форму понятия. Но это представление меньше всего есть мерило и критерий самого по себе необходимого и истинного понятия, а наоборот, должно заимствовать свою истинность из него, поправлять и познавать себя, руководясь им. – Но если этот способ познания, со своими формальными приемами дефиниций, умозаключений, доказательств и т. п., с одной стороны, более или менее оставлен, то он зато неудачно заменен другой манерой, состоящей в том, чтобы непосредственно улавливать и утверждать идеи вообще и также идею права и его дальнейшие определения как факты сознания, и делать источником права естественное или приподнятое чувство, свое собственное преисполненное сердце и восторженность. Если этот метод наиболее удобный, то он вместе с тем – наименее философичный, не говоря уже здесь о других его сторонах, имеющих отношение не только к познанию, но и непосредственно к области поступков. Если первый, хотя и формальный, метод все же еще требует формы понятия в виде дефиниции и формы необходимости познания в виде доказательства, то манера непосредственного сознания и чувства делает принципом субъективность, случайность и произвольность знания. – В чем именно состоит научный метод философии, предполагается здесь известным из философской логики.
Прибавление. Философия образует круг: у нее есть первое непосредственное положение, не доказанное, не являющееся результатом, так как вообще она должна с чего-либо начать. Но то, чем философия начинает, есть лишь относительно непосредственное, так как оно должно явиться результатом в другом конечном пункте. Она – цепь, не висящая в воздухе, не непосредственно начинающаяся, а круглящаяся.
§ 3
Право положительно вообще: а) вследствие своей формы, состоящей в том, что оно имеет силу в государстве, и этот законный авторитет представляет собою принцип познания о нем, науку о положительном праве; б) по своему содержанию это право обладает положительным элементом (?) благодаря особому национальному характеру данного народа, ступени его исторического развития и связи всех тех отношений, которые принадлежат к сфере естественной необходимости; (?) благодаря необходимости, чтобы система данного в законодательстве права содержала в себе применение общих понятий к частному, данному извне характеру предметов и случаев, – применение, являющееся уже не спекулятивным мышлением и развитием понятия, а рассудочным подведением частного под общее; (?) благодаря требующимся для решения в действительности последним определениям.
Примечание. Если положительному праву и законам противопоставляют чувство, подсказываемое сердцем, склонность и произвол, то уж во всяком случае не философия признает подобные авторитеты. То обстоятельство, что насилие и тирания могут быть элементом положительного права, является для последнего чем-то случайным и не касается его природы. Ниже (§§ 211–214) будет указано то место, где право должно стать положительным. Здесь приведены определения, которые получатся там, лишь для того, чтобы указать границу философского права и чтобы сразу же устранить могущее возникнуть представление (а то еще, пожалуй, и требование), что посредством систематического развития этого философского права должен получиться положительный кодекс, т. е. такое уложение, в каком нуждается действительное государство. – Превращение отличия естественного или философского права от положительного в противоположность и противоречие между ними было бы крупным недоразумением: первое, наоборот, относится к последнему как институции к пандектам. – Относительно упомянутого в этом параграфе исторического элемента в положительном праве Монтескье указал истинно историческое воззрение, подлинно философскую точку зрения: законодательство вообще и его частные постановления нужно рассматривать не изолированно и абстрактно, а как взаимно зависимые моменты некоторой целостности, в связи со всеми другими особенностями, составляющими характер определенной нации и определенной эпохи; в этой связи они получают свое истинное значение, а также и свое оправдание. – Рассмотрение являющегося во времени процесса выступления и развития правовых определений – это чисто историческое исследование, так же как и познание осмысленной последовательности, обнаруживающейся благодаря сравнению их с уже существующими правовыми отношениями, должно быть признано в своей собственной сфере заслугой, но находится вне связи с философским способом рассмотрения, поскольку именно само развитие из исторических оснований не смешивает себя с развитием из понятий, поскольку не расширяют значения исторического объяснения и оправдания до значения оправдания, значимого в себе и для себя. Это различие, которое очень важно и которого никогда не нужно упускать из виду, вместе с тем очень ясно: правовое определение может быть таким, что можно и относительно его показать, как оно совершенно последовательно вытекает из обстоятельств и существующих правовых институтов и находит в них свое полное обоснование, и все же оно может само по себе быть противоправовым и неразумным, как, например, множество определений римского частного права, совершенно последовательно вытекающих из таких институтов, как римская отцовская власть, римское брачное состояние. Но пусть даже, скажем, данные правовые определения носят вполне правовой и разумный характер, все же это может быть подлинно выяснено лишь посредством понятия; другое же дело – изложение исторической стороны их появления, рассмотрение обстоятельств, случаев, потребностей и событий, которые привели к их установлению. Такие указания, такое (прагматическое) познание из ближайших или более отдаленных исторических причин называют часто объяснением или, еще охотнее, постижением (Begreifen), полагая, что этим указанием исторических условий сделано все или, вернее, все существенное, все, что единственно лишь и важно для того, чтобы достигнуть постижения закона или правового института, между тем как на самом деле при этом о подлинно существенном, о понятии предмета, не сказано еще ни слова. Часто также говорят о римских, германских правовых понятиях, как они установлены в том или другом кодексе, между тем как на самом деле здесь нет никаких понятий, а есть лишь общие правовые определения, рассудочные положения, правила, законы и т. п. Отодвигая в сторону это различие, удается также и переместить точку зрения, вопрос о подлинном оправдании подменить оправданием обстоятельствами, выводом из предпосылок, которые сами по себе также никуда не годятся и т. п., и вообще поставить относительное на место абсолютного, внешнее явление – на место природы вещей. Когда историческое оправдание смешивает внешнее возникновение с возникновением из понятия, оно бессознательно делает как раз противоположное тому, что оно было намерено сделать. Если показывают, что возникновение того или другого института при определенных обстоятельствах вполне целесообразно и необходимо, и этим достигают того, чего требует историческая точка зрения, то, если считать это оправданием самой сути дела, из этого следует как раз обратное, а именно: так как этих обстоятельств теперь уже нет, то данный институт тем самым потерял свой смысл и свое право на существование. Так, например, если в пользу сохранения монастырей выдвигают указание на их заслуги в деле возделывания и заселения пустынных местностей, на сохранение ими учености посредством преподавания и переписывания книг и т. д., и эти заслуги рассматривают как основание их дальнейшего существования, то из всего этого следует скорее, наоборот, именно, что при совершенно изменившихся обстоятельствах они сделались по меньшей мере излишними и нецелесообразными. – Так как историческое значение, историческое установление и понимание возникновения, и философский взгляд на то же возникновение и понятие предмета находятся в различных сферах, то они могут постольку относиться безразлично друг к другу. Но так как это спокойное взаимоотношение не всегда соблюдается даже при рассмотрении научных вопросов, то я приведу по поводу этого еще кое-какие соображения, которые мы находим у г. Гуго в его «Lehrbuch der Geschichte des romischen Rechts», из которых вместе с тем для нас получится дальнейшее разъяснение характера вышеуказанной манеры противополагания. Г-н Гуго говорит там (5-е изд. § 53), «что Цицерон хвалит Двенадцать таблиц, искоса поглядывая при этом на философов». Философ же Фаворин обходится с ними совершенно так же, как с тех пор не один великий философ обходился с положительным правом. Г-н Гуго там же раз навсегда дает свой готовый ответ на такое отношение, указывая причину последнего: «так как, – продолжает он, – Фаворин так же мало понимал Двенадцать таблиц, как эти философы – положительное право». – Что касается отповеди, данной философу Фаворину ученым юристом Секстом Цецилием, отповеди, приводимой у Gellius, noct. Attic XX, 1, то в ней ближайшим образом высказывается пребывающий и подлинный принцип оправдания того, что лишь положительно по своему содержанию. «Non ignoras, – говорит очень хорошо Фаворину Цецилий, – legum opportunitates et medelas pro temporum moribus et pro rerum publicarum et generibus, ac pro utilitatum praeisentium rationibus, proque vitiorum, quibus medendum est, fervoridus mutari ac flecti, neque uno statu consistere, quin, ut facies coeli et maris, ita rerum atque fortunae tempestatibus varientur. Quid salubrius visum est rogatione ilia Stolonis etc…, quid utilius plebiscite Voconio etc., quid tam necessarium existimatum est, quam lex Licinia etc. Omnia tamem haec obliterata et operta sunt civitatis opulentia etc». (Ты ведь знаешь, что выгодность и благодетельность законов меняется сообразно характеру эпохи и государственных дел, равно как и в зависимости от соображений их пользы в данное время, а также смотря по важности тех пороков, которые они должны исправлять, ибо подобно тому, как меняется вид небес и морей, так меняются и обстоятельства времени. Что, кажется, было более благодетельно, чем проект Столона, что полезнее постановления Вокония, что должно считать более необходимым, чем закон Лициния? И, однако, все они, сообщавшие силу государству, вычеркнуты и преданы забвению.) – Эти законы постольку положительны, поскольку их значение и целесообразность коренятся в обстоятельствах, поскольку, следовательно, они вообще обладают лишь исторической ценностью: поэтому они носят временный, преходящий характер. Мудрость законодателей и правительств, проявившаяся в том, что? они сделали и установили, считаясь с положением вещей и обстоятельствами времени, есть нечто особое и должна быть оценена историей, от которой она получит тем более глубокое признание, чем более эта оценка будет поддержана с философской точки зрения. – Что же касается дальнейших оправданий Двенадцати таблиц от обвинений Фаворина, то я приведу один образчик, так как в нем Цецилий пускает в ход бессмертный обман рассудочного метода в его рассуждательства, – бессмертный обман, состоящий в том, что в пользу дурного дела приводят хорошее основание и полагают, что этим оно уже оправдано. В защиту отвратительного закона, дававшего право кредитору по истечении срока ссуды убить должника или продать его в рабство и даже, если есть несколько кредиторов, отрезывать от должника куски и таким образом разделить его между ними, причем если кто-нибудь отрежет слишком много или слишком мало, то из этого обстоятельства не должно возникнуть для него никакого юридического ущерба (пункт, который пригодился бы шекспировскому Шейлоку в «Венецианском купце» и был бы им принят с благодарностью), – в пользу этого закона Цецилий указывает то хорошее основание, что благодаря ему были еще больше упрочены верность слову и доверие друг к другу, а закон, именно ввиду его отвратительности, никогда не получал применения. В этом бессмысленном рассуждении он не только упускает из виду соображение, что именно благодаря этому установлению уничтожается то, чего он намерен достичь – верность слову и доверие друг к другу договаривающихся сторон, но даже забывает то, что тотчас вслед за этим он сам же указывает, а именно, что закон о лжесвидетельстве не оказал ожидавшегося действия вследствие чрезмерной суровости установленного им наказания. – А что собственно хочет сказать г-н Гуго своим замечанием, что Фаворин не понимал указанного закона, этого никак не уразумеешь: каждый школьник способен понять этот закон, и лучше всех понимал бы Шейлок вышеуказанный, столь выгодный для него пункт закона; под словом «понимать» г. Гуго, должно быть, разумеет лишь ту рассудочную образованность, которая, имея дело с таким законом, успокаивает себя хорошим основанием. – В другом непонимании, в котором Цецилий там же уличает Фаворина, философ может, впрочем, впрямь признаться, не краснея от стыда, – именно в непонимании того, что jumentura «a не агсега», которое, согласно закону, обязаны дать больному, чтобы доставить его в качестве свидетеля в суд, означает не только лошадь, но также и карету или экипаж. Цецилий получил возможность привлечь это определение закона в качестве дальнейшего доказательства превосходства и точности старых законов, указывая именно, что они в отношении доставления в суд больного свидетеля доходили до различения не только между разного рода лошадьми, но и между разного рода экипажами, между покрытым и мягким, как поясняет Цецилий, и другими не столь удобным, и экипажами. – Нам, таким образом, предоставляется выбирать между жестокостью вышеприведенного закона о несостоятельных должниках и малозначительностью подобного рода постановлений, – однако заявить о маловажности такого рода постановлений, а тем паче их объяснений означало бы нанести тягчайшее оскорбление этой и другой такого же сорта учености.
Но в указанном учебнике г. Гуго также ведет речь о разумности римского права; в этих его рассуждениях привлекло мое внимание следующее. Рассмотрев время от возникновения государства до составления Двенадцати таблиц (§ § 38 и 39) и сказав, «что у римлян было много потребностей, и они были вынуждены работать, причем пользовались в качестве помощников упряжными и вьючными животными, как они выполняют эту роль также и у нас, – что почва перемежалась холмами и долинами, город стоял на холме» и т. д., – указания, которые, может быть, должны были служить исполнением указания Монтескье, но в которых вряд ли кто-нибудь найдет понимание его духа, – он затем (§ 40), правда, говорит, «что правовое состояние было еще далеко от того, чтобы удовлетворять высшим требованиям разума» (совершенно верно; римское семейное право, рабство и т. д. не удовлетворяют даже очень небольшим требованиям разума), однако, переходя к следующим эпохам, г. Гуго забывает указать, в какую именно эпоху римское право удовлетворяло и удовлетворяло ли оно вообще в какую-нибудь из них высшие требования разума. О классиках юриспруденции в эпоху высшего развития римского права как науки он, однако, говорит (§ 280): «уже давно замечено, что классики юриспруденции получили философское образование», но «мало кто знает» (благодаря многочисленным изданиям учебника г. Гуго теперь это все же знают многие), «что нет ни одного разряда писателей, которые в том, что касается последовательности умозаключения из данных принципов, так заслуживали бы быть поставленными наряду с математиками, а по бросающейся в глаза своеобразной черте в развитии понятий – также и с творцом новейшей метафизики, как именно римские правоведы; последнее доказывает тот замечательный факт, что нигде мы не встречаем столь много трихотомий, как у классиков юриспруденции и у Канта». Эта восхваляемая также и Лейбницем последовательность представляет собою, несомненно, существенное свойство науки о праве, как и математики и всякой другой рассудочной науки, но с удовлетворением требований разума и с философской наукой эта рассудочная последовательность еще не имеет ничего общего. Однако, помимо этого, как раз непоследовательность римских правоведов и преторов следует рассматривать как одно из величайших достоинств, благодаря которому они отступали от несправедливых и отвратительных институтов, но видели себя вынужденными callide (с большим рвением) ловко измышлять пустые словесные различения (называть, например, Bonorum possessio (владением имуществом) то, что в конце концов было также наследством) и даже нелепые уловки (а нелепость есть также непоследовательность) для того, чтобы спасти букву Двенадцати таблиц, как, например, fictio, ????????? (фикцию), что filia (дочь) есть filius (сын). Heinecc. Antiq. Rom., lib. I, tit. 11, § 24). Но уж прямо комично то, что римские классики юриспруденции сопоставляются с Кантом на том основании, что у них встречаются несколько трихотомических делений, – в особенности, на основании примеров, приведенных там в примечании 5, – и что нечто подобное называется развитием понятий.
§ 4
Почвой права является вообще духовное, и его ближайшим местом и исходным пунктом – воля, которая свободна, так что свобода составляет ее субстанцию и определение, и система права есть царство реализованной свободы, мир духа, порожденный им самим как некая вторая природа.
Примечание. Что касается свободы воли, то мы можем здесь напомнить о некогда господствовавшем приеме (Verfahrungsart) познания. Представление о воле принимали как предпосылку и из него пытались вывести и фиксировать дефиницию воли, а затем давали по способу тогдашней эмпирической психологии так называемое доказательство, что воля свободна, доказательство этой свободы на основании различных ощущений и явлений обычного сознания, как, например, раскаяние, вина и т. п., каковые могут быть объяснены лишь свободной волей. Но еще удобнее придерживаться без обиняков того взгляда, что свобода воли нам дана как факт сознания, и мы должны в нее верить. Дедукция свободы, равно как и сущности воли и свободы, может иметь место, как мы уже заметили (§ 2), лишь в связи целого. Основные черты этой предпосылки, заключающиеся в том, что дух есть ближайшим образом интеллект, и что определения, через которые он в своем развитии движется вперед – от чувства через представление к мышлению, – суть путь порождения им себя как воли, которая в качестве вообще практического духа есть ближайшая истина интеллекта, – эти основные черты я изложил в моей «Энциклопедии философских наук» (Гейдельберг, 1817) и надеюсь, что мне удастся когда-нибудь дать более подробнее их изложение. Я тем более чувствую потребность внести этим, как я надеюсь, и свой вклад в более основательное познание природы духа, что, как я там заметил (в примечании к § 367), нелегко отыскать другую философскую науку, которая находилась бы в таком запущенном и плохом состоянии, как учение о духе, обычно называемое психологией. – Относительно указанных в этом и в следующих параграфах введения моментов понятия воли, представляющих собою результат вышеуказанной предпосылки, можно, впрочем, с целью помочь представлению, сослаться на самосознание каждого человека. Каждый найдет в себе прежде всего способность абстрагироваться от всего, что есть, и точно так же способность определять самого себя, полагать внутри себя через себя всякое содержание; и точно так же он найдет в своем самосознании иллюстрацию дальнейших определений.
Прибавление. Свободу воли можно лучше всего уяснить указанием на физическую природу. Свобода, именно, представляет собою основное определение воли, подобно тому как тяжесть представляет собою основное определение тела. Когда говорят, что материя обладает тяжестью, то можно было бы подумать, что этот предикат только случаен для нее; но на самом деле это не так, ибо в материи нет ничего нетяжелого: она – сама тяжесть. Тяжесть составляет тело и есть тело. Точно так же обстоит дело со свободой и волей, ибо свободное и есть воля. Воля без свободы представляет собою пустое слово, и точно так же и свобода действительна лишь как воля, как субъект. Что же касается связи между мышлением и волей, то мы должны заметить об этом следующее. Дух есть вообще мышление, и человек отличается от животного мышлением. Но не надо представлять себе, что человек является, с одной стороны, мыслящим и, с другой стороны, волящим, что у него в одном кармане мышление, а в другом воля, ибо это было бы пустым представлением. Различие между мышлением и волей есть лишь различие между теоретическим и практическим отношением; но они не представляют собою двух способностей, так как воля есть особый способ мышления: она есть мышление как перемещающее себя в наличное бытие, как влечение сообщить себе наличное бытие.
Это различие между мышлением и волей можно выразить следующим образом. Мысля какой-нибудь предмет, я его превращаю в мысль и лишаю его всего чувственного; я превращаю его в нечто существенно и непосредственно мое, ибо лишь в мышлении я нахожусь у себя, лишь постижение есть проникновение в предмет, который теперь больше не противостоит мне и которого я лишаю принадлежащего ему своеобразия, которым он защищался против меня. Подобно тому как Адам говорит Еве: ты плоть от моей плоти и кость от моей кости, так и дух говорит: это – дух от моего духа, и чуждость исчезает. Всякое представление есть обобщение, а последнее есть черта мышления. Превратить нечто во всеобщее – значит мыслить его. «Я» – мышление и вместе с тем всеобщее. Когда я говорю «я», я отбрасываю в нем всякую особенность, характер, природные свойства, познания, возраст. «Я» есть нечто совершенно пустое, точкообразное, простое, но деятельное в этой простоте. Предо мною пестрая картина мира, я противостою ему, и в этом моем отношении к нему я уничтожаю противоположность между мною и им, превращаю это содержание в нечто мое. «Я» находится у себя дома в этом мире, когда оно его знает, и еще больше, когда оно его постигло. Таково – теоретическое отношение. Практическое отношение начинает, напротив, с мышления, с самого «я», и представляется с самого начала противоположенным, потому что оно именно тотчас же устанавливает разделение. Когда я практичен, деятелен, т. е. совершаю поступки, я себя определяю, а определять себя и означает именно полагать некое различие. Но эти различия, которые я полагаю, суть опять-таки мои различия, определения принадлежат мне, и цели, к которым меня влечет, принадлежат мне. Хотя я и выпускаю теперь эти определения и различия, т. е. перемещаю их в так называемый внешний мир, они все же остаются моими: они суть то, чт? я произвел, чт? я создал, – они носят следы моего духа. Если в этом состоит различие между теоретическим и практическим отношениями, то нужно теперь указать отношение между этими двумя отношениями. Теоретическое отношение содержится по существу в практическом; нельзя представить себе их раздельными, ибо невозможно обладать волей без интеллекта. Наоборот, воля содержит внутри себя теоретическое отношение: воля определяет себя; это определение есть ближайшим образом нечто внутреннее: то, чего я хочу, я представляю себе, ставлю перед собою, есть для меня предмет. Животное действует, руководясь инстинктом, влечется к действию внутренним побуждением, и, таким образом, оно тоже относится практически, но оно не обладает волей, ибо не представляет себе того, чего желает. Но так же мало можно без воли относиться теоретически или мыслить, ибо мысля, мы именно тем самым и деятельны. Содержание мыслимого получает, правда, форму сущего, но это сущее есть нечто опосредствованное, положенное нашей деятельностью. Эти различия таким образом нераздельны друг от друга: они – одно и то же, и в каждой деятельности, как в мышлении, так и в волении, находятся оба момента.
§ 5
Воля содержит в себе (?) элемент чистой неопределенности, или чистой рефлексии «я» внутрь себя, в которой растворено и исчезло всякое ограничение, всякое непосредственно наличное благодаря природе, потребностям, страстям и влечениям или благодаря чему бы то ни было данное и определенное содержание; это – беспредельная бесконечность абсолютной абстракции или всеобщность, чистое мышление самого себя.
Примечание. Те, которые рассматривают мышление как особую своеобразную способность и которые вместе с тем даже ставят мышление ниже воли, и в особенности доброй воли, обнаруживают с самого же начала, что они ничего не знают о природе воли; это замечание нам придется еще часто повторять, говоря об указанном предмете. – Если одна здесь определенная сторона воли, абсолютная возможность абстрагироваться от всякого определения, в котором я себя застаю или которое положено мною в самом себе, бегство от всякого содержания как ограничения, – если эта одна сторона воли есть то, к чему воля определяет себя как к свободе, или то, что представление фиксирует для себя как свободу, то это – отрицательная или рассудочная свобода. Это – свобода пустоты, которая, будучи возведена в действительный образ и в страсть и оставаясь вместе с тем лишь теоретической, представляет собою в религиозной области индусский фанатизм чистого созерцания, а обращаясь к действительности, она представляет собою как в области политики, так и в области религии фанатизм разрушения всякого существующего общественного порядка и устранение индивидуумов, подозреваемых в приверженности к порядку, а также и уничтожение всякой организации, стремящейся снова всплыть на поверхность общественной жизни. Лишь разрушая что-либо, эта отрицательная воля чувствует себя существующей. Ей, правда, кажется, что она стремится к какому-то положительному состоянию, например, к состоянию всеобщего равенства или к состоянию всеобщей религиозной жизни, но на самом деле она не хочет положительного осуществления этого состояния, ибо последнее тотчас же устанавливает какой-нибудь порядок, какое-нибудь обособление как учреждений, так и индивидуумов, а между тем именно из уничтожения этого обособления и объективной определенности эта отрицательная свобода черпает свое самосознание. Таким образом, то, к чему она, как ей кажется, стремится, уже само по себе может быть лишь абстрактным представлением, а осуществление этого желания – лишь бешенством разрушения.
Прибавление. В основе этого элемента воли лежит то, что я могу освободиться от всего, отказаться от всех целей, абстрагироваться от всего. Единственно только человек может все отбросить, даже свою жизнь: он может совершить самоубийство. Животное не может этого сделать; оно всегда остается лишь отрицательным, остается в чуждом ему определении, к которому оно лишь привыкает. Человек есть чистое мышление самого себя, и, лишь мысля, человек представляет собою эту силу, эту способность сообщить себе всеобщность, т. е. потушить всякую особенность, всякую определенность. Эта отрицательная или рассудочная свобода одностороння, но в этой односторонности всегда содержится существенное определение; мы поэтому не должны ее отметить; но недостаток, которым страдает рассудок, состоит в том, что он одностороннее определение возводит в ранг единственного и высшего. В истории эта форма свободы часто встречается. У индусов, например, считается высшим достижением пребывание лишь в знании своего простого тождества с собою, в этом пустом пространстве своего внутреннего «я», подобно бесцветному свету в чистом созерцании, и отказ от всякой жизненной деятельности, всякой цели, всякого представления. Таким способом человек становится Брамой; нет больше никакого различия между конечным человеком и Брамой; всякая отличительная черта исчезла в этой всеобщности. Конкретнее эта форма проявляется в деятельном фанатизме как в области политической, так и в области религиозной жизни. Сюда принадлежит, например, период террора во Французской революции, когда требовали уничтожения всякого различия талантов, всякого авторитета. Это время было судорогой, сотрясением, нетерпимостью по отношению ко всему особенному. Ибо фанатизм стремится к абстрактному, а не к расчленению; если выступают различия, он находит это противным своей неопределенности и упраздняет их. Вот почему народ в эпоху революции разрушал снова учреждения, которые он сам же создал, ибо всякое учреждение противно абстрактному самосознанию равенства.
§ 6
(?) «Я» есть также переход от лишенной различия неопределенности к различению, определению и полаганию некоторой определенности как некоторого содержания или предмета. Это содержание может быть, далее, или данным природой, или порожденным из понятия духа. Посредством этого полагания самого себя как чего-то определенного «я» вступает вообще в наличное бытие; это – абсолютный момент конечности или обособления «я».
Примечание. Этот второй момент определения точно так же, как и первый, представляет собою отрицательность, снятие – он есть именно снятие первой абстрактной отрицательности. Поэтому второй момент уже содержится в первом, подобно тому как особенное содержится вообще во всеобщем и есть лишь полагание того, чт? первый момент уже есть в себе. Первый момент, именно как первое для себя, есть не истинная бесконечность, или, иначе говоря, конкретная всеобщность, понятие, а лишь нечто определенное, одностороннее; а именно потому, что он представляет собою абстракцию от всякой определенности, он сам не без определенности, и то, что он как абстракция должен быть односторонним, и составляет его определенность, недостаточность и конечность. Мы находим различение и определение обоих вышеуказанных моментов в философии Фихте, также и в философии Канта и т. д., но «я» в философии Фихте, – мы остановимся лишь на этой философии, – как неограниченное (в первом положении фихтевского «Наукоучения»), взято всецело лишь как положительное (оно представляет собою таким образом рассудочную всеобщность, рассудочное тожество), так что это абстрактное «я» есть у Фихте само по себе истинное, и поэтому к нему, далее, присоединяется (во втором положении) ограничение – отрицательное вообще, в качестве ли данной, внешней границы или в качестве собственной деятельности «я». – Постижение отрицательности, имманентной во всеобщем или тожественном, как, например, в «я», было дальнейшим шагом, который должна была сделать спекулятивная философия; это – потребность, которой не подозревают не постигающие дуализма бесконечности и конечности даже в имманентности и абстракции, как его постигал Фихте.
Прибавление. Этот второй момент представляется противоположным первому. Его нужно понимать в его общем виде; он входит в состав свободы, но не составляет всей свободы. «Я» переходит здесь от лишенной различий неопределенности к различению, к полаганию определенности как некоторого содержания предмета. «Я» не только волит, но волит нечто. Воля, которая, как мы разъясняли в предшествующем параграфе, волит лишь абстрактно всеобщее, ничего не волит, и не есть поэтому воля. То особенное, чего хочет воля, есть ограничение, ибо воля должна себя вообще ограничивать, чтобы быть волей. То именно обстоятельство, что воля хочет чего-то, есть ограничение, отрицание. Обособление есть, таким образом, то, что обыкновенно называют конечностью. Рефлексия обыкновенно считает первый момент, именно, неопределенное, абсолютным и высшим, а ограниченное, напротив, лишь отрицанием этой неопределенности. Но эта неопределенность сама есть отрицание по отношению к определенному, по отношению к конечному. «Я» есть это одиночество, абсолютное отрицание. Постольку неопределенная воля точно так же одностороння, как и воля, пребывающая лишь в определенности.
§ 7
(?) Воля есть единство этих обоих моментов, рефлектированная внутрь себя и возвращенная, благодаря этому, к всеобщности особенность, – единичность: воля есть самоопределение «я», заключающееся в том, что оно полагает себя сразу и как отрицательное себя самого, а именно как определенное, ограниченное, и вместе с тем как остающееся у себя, т. е. пребывающее в своем тожестве с собою и в своей всеобщности и смыкающееся в определении лишь с самим собою. «Я» определяет себя, поскольку оно есть соотношение отрицательности с самой собой; в качестве этого соотношения с собою оно также и равнодушно к этой определенности, знает ее своей и идеализованной определенностью, исключительно лишь возможностью, которою оно не связано и в которой оно находится лишь потому, что оно полагает себя в ней. – Это и есть та свобода воли, которая составляет ее понятие или, иначе говоря, ее субстанциальность, ее тяжесть, таким же образом, как тяжесть составляет субстанциальность тела.
Примечание. Каждое самосознание знает себя всеобщим, возможностью абстрагироваться от всего определенного, и особенным с определенным предметом, содержанием, с определенной целью. Эти два момента представляют собою, однако, лишь абстракции; конкретное же и истинное (а все истинное конкретно) есть всеобщность, имеющая своей противоположностью особенное, но такое особенное, которое посредством рефлексии внутрь себя примирено с всеобщностью. – Это единство есть единичность, но не единичность в своей непосредственности как единица, какова единичность в представлении, а единичность по своему понятию («Энциклопедия философских наук», § 163–165) или, другими словами, эта единичность есть, собственно говоря, не что иное, как само понятие. Два первых момента, а именно то, что воля может от всего абстрагироваться, и то, что она также и определена – собою ли или чем-то другим, – легко воспринимаются и принимаются, потому что они сами по себе неистинные и рассудочные моменты; но третье, истинное и спекулятивное (а все истинное, поскольку оно постигается в понятии, может мыслиться лишь спекулятивно), представляет собою то, во что рассудок, всегда называющий понятие непонятным, отказывается вникать. Доказательство и ближайшее разъяснение этого глубочайшего ядра всякой спекуляции – бесконечности как отрицательности, соотносящейся с самой собою, этого последнего источника всякой деятельности, жизни и сознания, должно быть дано в логике как чисто спекулятивной философии. – Здесь можно еще заметить лишь то, что когда употребляют выражение: воля всеобща, воля определяет себя, то этим самым уже выражаются о ней как о предполагаемом субъекте или субстрате, но воля не есть нечто готовое и всеобщее до того, как она определяется, и до того, как это определение снимается и получает характер идеализованности, а есть воля лишь как эта опосредствующая себя в самой себе деятельность и возвращение внутрь себя.
Прибавление. То, что мы, собственно, называем волей, содержит в себе оба вышеуказанных момента. «Я» есть, как таковое, прежде всего чистая деятельность, всеобщее, находящееся у себя; но это всеобщее определяет себя, и постольку оно уже больше не находится у себя, а полагает себя как другое и перестает быть всеобщим. Третье же состоит в том, что «я» в своем ограничении в этом другом находится у себя самого; что, определяя себя, «я» все же остается у себя и не перестает удерживать всеобщее. Это-то и есть конкретное понятие свободы, между тем как два предшествовавших момента оказались всецело абстрактными и односторонними. Но этой же свободой мы уже обладаем в форме чувства, например, в дружбе, в любви. Здесь мы не пребываем односторонне внутри себя, а, наоборот, охотно ограничиваем себя в отношении другого лица, но знаем себя в этом ограничении самими собою. В определенности человек должен чувствовать себя не определяемым, а наоборот, мы впервые начинаем чувствовать свое достоинство лишь благодаря тому, что рассматриваем другое как другое. Свобода, таким образом, не заключается ни в неопределенности, ни в определенности, а представляет собою и первую и вторую. Воля, ограничивающаяся исключительно некиим тем-то, свойственна упрямцу, которому кажется, что он несвободен, если он не будет обладать такой-то волей. На самом же деле воля не связана с чем-то ограниченным, а должна идти дальше, ибо природа воли не состоит в этой односторонности и связанности; нет: свобода состоит в том, чтобы волить нечто определенное, но в этой определенности все же оставаться у себя и снова возвращаться в лоно всеобщего.
§ 8
Дальнейшая определенность обособления (? § 6) представляет собою различие форм воли: а) поскольку определенность представляет собою формальную противоположность между субъективным и объективным как внешним непосредственным существованием, постольку это – формальная воля как самосознание, преднаходящая внешний мир и, в качестве единичности возвращающейся в этой определенности, внутрь себя, она представляет собою процесс перевода субъективной цели в объективность через опосредствование деятельности и некоторого средства. В духе, каков он есть в себе и для себя, в котором определенность есть просто его и подлинная определенность (Энциклопедия, § 440), отношение сознания составляет лишь одну из сторон явления воли, которая здесь уже не имеет значения сама по себе.
Прибавление. Рассмотрение определенности воли есть дело рассудка и не является ближайшим образом спекулятивным. Воля вообще определена не только в смысле содержания, но и в смысле формы. Определенность формы есть цель и выполнение цели. Цель есть ближайшим образом нечто сущее внутри меня, субъективное, но она должна стать также и объективной, сбросить с себя свой недостаток, перестать быть только субъективной. Можно здесь задать вопрос: почему же субъективность есть недостаток? Если то, у чего есть недостаток, не стоит вместе с тем выше своего недостатка, то для него это не недостаток. Для нас животное есть нечто недостаточное, для себя оно не таково. Цель, поскольку она пока лишь наша цель, есть для нас недостаток, ибо свобода и воля суть для нас единство субъективного и объективного. Цель должна быть положена объективно, и она получает в этом полагании не новое одностороннее определение, а лишь свою реализацию.
§ 9
b) Поскольку определения воли суть ее собственные определения, вообще ее рефлектированное внутрь себя обособление, они суть содержание. Это содержание, в качестве содержания воли, есть для нее, согласно указанной в а) форме, – цель, осуществленная, выполненная через посредство деятельности, переводящей субъективное в объективность.
§ 10
Это содержание или различенное определение воли ближайшим образом – непосредственно. Таким образом, воля свободна лишь в себе, или для нас, или, другими словами, она вообще – воля в ее понятии. Лишь имея своим предметом самое себя, воля есть для себя то, что она есть в себе.
Примечание. Конечность состоит согласно этому определению в том, что то, что? нечто есть в себе или по своему понятию, есть существование или явление, отличное от того, что? оно есть для себя. Так, например, абстрактная внеположность природы есть в себе пространство, а для себя – время. Здесь уместно сделать об этом следующие два замечания.
Мы должны заметить, во-первых, что так как истинна только идея, то если мы берем предмет или определение лишь таковым, каков он в себе или в понятии, то мы еще не обладаем им в его истине. Мы должны затем еще заметить, что всякое нечто, как оно есть в качестве понятия или «в себе», также и существует, и это существование представляет собою особый образ предмета (как, например, выше – пространство); имеющееся в конечном различение в-себе-бытия и для-себя-бытия составляет вместе с тем то, в чем заключается его исключительно наличное бытие
И в самом деле: чем определения данного права бессвязнее и самопротиворечивее, тем менее возможны в нем дефиниции, ибо последние должны содержать в себе общие определения, а эти общие определения непосредственно обнаружат противоречивое – здесь противоправовое – во всей его наготе. Так например, римское право не могло бы дать дефиниции человека, ибо раба нельзя было бы подвести под это понятие, которое, наоборот, нарушается его юридическим состоянием. Такими же опасными оказались бы во многих отношениях дефиниции собственности и собственника. – Дедуцируется же обыкновенно дефиниция из этимологии, преимущественно посредством абстрагирования от частных случаев, и при этом кладутся в основание чувства и представления людей. Правильность дефиниции видят затем в ее согласии с существующими представлениями. При этом методе оставляется в стороне то, чт? научно единственно существенно: в отношении содержания – необходимость предмета (здесь – права), самого по себе взятого, а в отношении формы – природа понятия. В философском же познании главным является необходимость понятия, и движение последнего, его становление в качестве результата, составляет его доказательство и дедукцию. Его содержание таким образом само по себе необходимо, и уж вторым делом является установить, чт? соответствует ему в представлениях и в языке. Это понятие, каково оно само по себе в своей истинности, и это же понятие, каким оно оказывается в представлении, не только могут, но и должны отличаться друг от друга по форме и образу. Если, однако, представление не ложно также и по своему содержанию, то можно показать, что понятие в нем содержится и по своему существу налично в нем, т. е. можно возвести представление в форму понятия. Но это представление меньше всего есть мерило и критерий самого по себе необходимого и истинного понятия, а наоборот, должно заимствовать свою истинность из него, поправлять и познавать себя, руководясь им. – Но если этот способ познания, со своими формальными приемами дефиниций, умозаключений, доказательств и т. п., с одной стороны, более или менее оставлен, то он зато неудачно заменен другой манерой, состоящей в том, чтобы непосредственно улавливать и утверждать идеи вообще и также идею права и его дальнейшие определения как факты сознания, и делать источником права естественное или приподнятое чувство, свое собственное преисполненное сердце и восторженность. Если этот метод наиболее удобный, то он вместе с тем – наименее философичный, не говоря уже здесь о других его сторонах, имеющих отношение не только к познанию, но и непосредственно к области поступков. Если первый, хотя и формальный, метод все же еще требует формы понятия в виде дефиниции и формы необходимости познания в виде доказательства, то манера непосредственного сознания и чувства делает принципом субъективность, случайность и произвольность знания. – В чем именно состоит научный метод философии, предполагается здесь известным из философской логики.
Прибавление. Философия образует круг: у нее есть первое непосредственное положение, не доказанное, не являющееся результатом, так как вообще она должна с чего-либо начать. Но то, чем философия начинает, есть лишь относительно непосредственное, так как оно должно явиться результатом в другом конечном пункте. Она – цепь, не висящая в воздухе, не непосредственно начинающаяся, а круглящаяся.
§ 3
Право положительно вообще: а) вследствие своей формы, состоящей в том, что оно имеет силу в государстве, и этот законный авторитет представляет собою принцип познания о нем, науку о положительном праве; б) по своему содержанию это право обладает положительным элементом (?) благодаря особому национальному характеру данного народа, ступени его исторического развития и связи всех тех отношений, которые принадлежат к сфере естественной необходимости; (?) благодаря необходимости, чтобы система данного в законодательстве права содержала в себе применение общих понятий к частному, данному извне характеру предметов и случаев, – применение, являющееся уже не спекулятивным мышлением и развитием понятия, а рассудочным подведением частного под общее; (?) благодаря требующимся для решения в действительности последним определениям.
Примечание. Если положительному праву и законам противопоставляют чувство, подсказываемое сердцем, склонность и произвол, то уж во всяком случае не философия признает подобные авторитеты. То обстоятельство, что насилие и тирания могут быть элементом положительного права, является для последнего чем-то случайным и не касается его природы. Ниже (§§ 211–214) будет указано то место, где право должно стать положительным. Здесь приведены определения, которые получатся там, лишь для того, чтобы указать границу философского права и чтобы сразу же устранить могущее возникнуть представление (а то еще, пожалуй, и требование), что посредством систематического развития этого философского права должен получиться положительный кодекс, т. е. такое уложение, в каком нуждается действительное государство. – Превращение отличия естественного или философского права от положительного в противоположность и противоречие между ними было бы крупным недоразумением: первое, наоборот, относится к последнему как институции к пандектам. – Относительно упомянутого в этом параграфе исторического элемента в положительном праве Монтескье указал истинно историческое воззрение, подлинно философскую точку зрения: законодательство вообще и его частные постановления нужно рассматривать не изолированно и абстрактно, а как взаимно зависимые моменты некоторой целостности, в связи со всеми другими особенностями, составляющими характер определенной нации и определенной эпохи; в этой связи они получают свое истинное значение, а также и свое оправдание. – Рассмотрение являющегося во времени процесса выступления и развития правовых определений – это чисто историческое исследование, так же как и познание осмысленной последовательности, обнаруживающейся благодаря сравнению их с уже существующими правовыми отношениями, должно быть признано в своей собственной сфере заслугой, но находится вне связи с философским способом рассмотрения, поскольку именно само развитие из исторических оснований не смешивает себя с развитием из понятий, поскольку не расширяют значения исторического объяснения и оправдания до значения оправдания, значимого в себе и для себя. Это различие, которое очень важно и которого никогда не нужно упускать из виду, вместе с тем очень ясно: правовое определение может быть таким, что можно и относительно его показать, как оно совершенно последовательно вытекает из обстоятельств и существующих правовых институтов и находит в них свое полное обоснование, и все же оно может само по себе быть противоправовым и неразумным, как, например, множество определений римского частного права, совершенно последовательно вытекающих из таких институтов, как римская отцовская власть, римское брачное состояние. Но пусть даже, скажем, данные правовые определения носят вполне правовой и разумный характер, все же это может быть подлинно выяснено лишь посредством понятия; другое же дело – изложение исторической стороны их появления, рассмотрение обстоятельств, случаев, потребностей и событий, которые привели к их установлению. Такие указания, такое (прагматическое) познание из ближайших или более отдаленных исторических причин называют часто объяснением или, еще охотнее, постижением (Begreifen), полагая, что этим указанием исторических условий сделано все или, вернее, все существенное, все, что единственно лишь и важно для того, чтобы достигнуть постижения закона или правового института, между тем как на самом деле при этом о подлинно существенном, о понятии предмета, не сказано еще ни слова. Часто также говорят о римских, германских правовых понятиях, как они установлены в том или другом кодексе, между тем как на самом деле здесь нет никаких понятий, а есть лишь общие правовые определения, рассудочные положения, правила, законы и т. п. Отодвигая в сторону это различие, удается также и переместить точку зрения, вопрос о подлинном оправдании подменить оправданием обстоятельствами, выводом из предпосылок, которые сами по себе также никуда не годятся и т. п., и вообще поставить относительное на место абсолютного, внешнее явление – на место природы вещей. Когда историческое оправдание смешивает внешнее возникновение с возникновением из понятия, оно бессознательно делает как раз противоположное тому, что оно было намерено сделать. Если показывают, что возникновение того или другого института при определенных обстоятельствах вполне целесообразно и необходимо, и этим достигают того, чего требует историческая точка зрения, то, если считать это оправданием самой сути дела, из этого следует как раз обратное, а именно: так как этих обстоятельств теперь уже нет, то данный институт тем самым потерял свой смысл и свое право на существование. Так, например, если в пользу сохранения монастырей выдвигают указание на их заслуги в деле возделывания и заселения пустынных местностей, на сохранение ими учености посредством преподавания и переписывания книг и т. д., и эти заслуги рассматривают как основание их дальнейшего существования, то из всего этого следует скорее, наоборот, именно, что при совершенно изменившихся обстоятельствах они сделались по меньшей мере излишними и нецелесообразными. – Так как историческое значение, историческое установление и понимание возникновения, и философский взгляд на то же возникновение и понятие предмета находятся в различных сферах, то они могут постольку относиться безразлично друг к другу. Но так как это спокойное взаимоотношение не всегда соблюдается даже при рассмотрении научных вопросов, то я приведу по поводу этого еще кое-какие соображения, которые мы находим у г. Гуго в его «Lehrbuch der Geschichte des romischen Rechts», из которых вместе с тем для нас получится дальнейшее разъяснение характера вышеуказанной манеры противополагания. Г-н Гуго говорит там (5-е изд. § 53), «что Цицерон хвалит Двенадцать таблиц, искоса поглядывая при этом на философов». Философ же Фаворин обходится с ними совершенно так же, как с тех пор не один великий философ обходился с положительным правом. Г-н Гуго там же раз навсегда дает свой готовый ответ на такое отношение, указывая причину последнего: «так как, – продолжает он, – Фаворин так же мало понимал Двенадцать таблиц, как эти философы – положительное право». – Что касается отповеди, данной философу Фаворину ученым юристом Секстом Цецилием, отповеди, приводимой у Gellius, noct. Attic XX, 1, то в ней ближайшим образом высказывается пребывающий и подлинный принцип оправдания того, что лишь положительно по своему содержанию. «Non ignoras, – говорит очень хорошо Фаворину Цецилий, – legum opportunitates et medelas pro temporum moribus et pro rerum publicarum et generibus, ac pro utilitatum praeisentium rationibus, proque vitiorum, quibus medendum est, fervoridus mutari ac flecti, neque uno statu consistere, quin, ut facies coeli et maris, ita rerum atque fortunae tempestatibus varientur. Quid salubrius visum est rogatione ilia Stolonis etc…, quid utilius plebiscite Voconio etc., quid tam necessarium existimatum est, quam lex Licinia etc. Omnia tamem haec obliterata et operta sunt civitatis opulentia etc». (Ты ведь знаешь, что выгодность и благодетельность законов меняется сообразно характеру эпохи и государственных дел, равно как и в зависимости от соображений их пользы в данное время, а также смотря по важности тех пороков, которые они должны исправлять, ибо подобно тому, как меняется вид небес и морей, так меняются и обстоятельства времени. Что, кажется, было более благодетельно, чем проект Столона, что полезнее постановления Вокония, что должно считать более необходимым, чем закон Лициния? И, однако, все они, сообщавшие силу государству, вычеркнуты и преданы забвению.) – Эти законы постольку положительны, поскольку их значение и целесообразность коренятся в обстоятельствах, поскольку, следовательно, они вообще обладают лишь исторической ценностью: поэтому они носят временный, преходящий характер. Мудрость законодателей и правительств, проявившаяся в том, что? они сделали и установили, считаясь с положением вещей и обстоятельствами времени, есть нечто особое и должна быть оценена историей, от которой она получит тем более глубокое признание, чем более эта оценка будет поддержана с философской точки зрения. – Что же касается дальнейших оправданий Двенадцати таблиц от обвинений Фаворина, то я приведу один образчик, так как в нем Цецилий пускает в ход бессмертный обман рассудочного метода в его рассуждательства, – бессмертный обман, состоящий в том, что в пользу дурного дела приводят хорошее основание и полагают, что этим оно уже оправдано. В защиту отвратительного закона, дававшего право кредитору по истечении срока ссуды убить должника или продать его в рабство и даже, если есть несколько кредиторов, отрезывать от должника куски и таким образом разделить его между ними, причем если кто-нибудь отрежет слишком много или слишком мало, то из этого обстоятельства не должно возникнуть для него никакого юридического ущерба (пункт, который пригодился бы шекспировскому Шейлоку в «Венецианском купце» и был бы им принят с благодарностью), – в пользу этого закона Цецилий указывает то хорошее основание, что благодаря ему были еще больше упрочены верность слову и доверие друг к другу, а закон, именно ввиду его отвратительности, никогда не получал применения. В этом бессмысленном рассуждении он не только упускает из виду соображение, что именно благодаря этому установлению уничтожается то, чего он намерен достичь – верность слову и доверие друг к другу договаривающихся сторон, но даже забывает то, что тотчас вслед за этим он сам же указывает, а именно, что закон о лжесвидетельстве не оказал ожидавшегося действия вследствие чрезмерной суровости установленного им наказания. – А что собственно хочет сказать г-н Гуго своим замечанием, что Фаворин не понимал указанного закона, этого никак не уразумеешь: каждый школьник способен понять этот закон, и лучше всех понимал бы Шейлок вышеуказанный, столь выгодный для него пункт закона; под словом «понимать» г. Гуго, должно быть, разумеет лишь ту рассудочную образованность, которая, имея дело с таким законом, успокаивает себя хорошим основанием. – В другом непонимании, в котором Цецилий там же уличает Фаворина, философ может, впрочем, впрямь признаться, не краснея от стыда, – именно в непонимании того, что jumentura «a не агсега», которое, согласно закону, обязаны дать больному, чтобы доставить его в качестве свидетеля в суд, означает не только лошадь, но также и карету или экипаж. Цецилий получил возможность привлечь это определение закона в качестве дальнейшего доказательства превосходства и точности старых законов, указывая именно, что они в отношении доставления в суд больного свидетеля доходили до различения не только между разного рода лошадьми, но и между разного рода экипажами, между покрытым и мягким, как поясняет Цецилий, и другими не столь удобным, и экипажами. – Нам, таким образом, предоставляется выбирать между жестокостью вышеприведенного закона о несостоятельных должниках и малозначительностью подобного рода постановлений, – однако заявить о маловажности такого рода постановлений, а тем паче их объяснений означало бы нанести тягчайшее оскорбление этой и другой такого же сорта учености.
Но в указанном учебнике г. Гуго также ведет речь о разумности римского права; в этих его рассуждениях привлекло мое внимание следующее. Рассмотрев время от возникновения государства до составления Двенадцати таблиц (§ § 38 и 39) и сказав, «что у римлян было много потребностей, и они были вынуждены работать, причем пользовались в качестве помощников упряжными и вьючными животными, как они выполняют эту роль также и у нас, – что почва перемежалась холмами и долинами, город стоял на холме» и т. д., – указания, которые, может быть, должны были служить исполнением указания Монтескье, но в которых вряд ли кто-нибудь найдет понимание его духа, – он затем (§ 40), правда, говорит, «что правовое состояние было еще далеко от того, чтобы удовлетворять высшим требованиям разума» (совершенно верно; римское семейное право, рабство и т. д. не удовлетворяют даже очень небольшим требованиям разума), однако, переходя к следующим эпохам, г. Гуго забывает указать, в какую именно эпоху римское право удовлетворяло и удовлетворяло ли оно вообще в какую-нибудь из них высшие требования разума. О классиках юриспруденции в эпоху высшего развития римского права как науки он, однако, говорит (§ 280): «уже давно замечено, что классики юриспруденции получили философское образование», но «мало кто знает» (благодаря многочисленным изданиям учебника г. Гуго теперь это все же знают многие), «что нет ни одного разряда писателей, которые в том, что касается последовательности умозаключения из данных принципов, так заслуживали бы быть поставленными наряду с математиками, а по бросающейся в глаза своеобразной черте в развитии понятий – также и с творцом новейшей метафизики, как именно римские правоведы; последнее доказывает тот замечательный факт, что нигде мы не встречаем столь много трихотомий, как у классиков юриспруденции и у Канта». Эта восхваляемая также и Лейбницем последовательность представляет собою, несомненно, существенное свойство науки о праве, как и математики и всякой другой рассудочной науки, но с удовлетворением требований разума и с философской наукой эта рассудочная последовательность еще не имеет ничего общего. Однако, помимо этого, как раз непоследовательность римских правоведов и преторов следует рассматривать как одно из величайших достоинств, благодаря которому они отступали от несправедливых и отвратительных институтов, но видели себя вынужденными callide (с большим рвением) ловко измышлять пустые словесные различения (называть, например, Bonorum possessio (владением имуществом) то, что в конце концов было также наследством) и даже нелепые уловки (а нелепость есть также непоследовательность) для того, чтобы спасти букву Двенадцати таблиц, как, например, fictio, ????????? (фикцию), что filia (дочь) есть filius (сын). Heinecc. Antiq. Rom., lib. I, tit. 11, § 24). Но уж прямо комично то, что римские классики юриспруденции сопоставляются с Кантом на том основании, что у них встречаются несколько трихотомических делений, – в особенности, на основании примеров, приведенных там в примечании 5, – и что нечто подобное называется развитием понятий.
§ 4
Почвой права является вообще духовное, и его ближайшим местом и исходным пунктом – воля, которая свободна, так что свобода составляет ее субстанцию и определение, и система права есть царство реализованной свободы, мир духа, порожденный им самим как некая вторая природа.
Примечание. Что касается свободы воли, то мы можем здесь напомнить о некогда господствовавшем приеме (Verfahrungsart) познания. Представление о воле принимали как предпосылку и из него пытались вывести и фиксировать дефиницию воли, а затем давали по способу тогдашней эмпирической психологии так называемое доказательство, что воля свободна, доказательство этой свободы на основании различных ощущений и явлений обычного сознания, как, например, раскаяние, вина и т. п., каковые могут быть объяснены лишь свободной волей. Но еще удобнее придерживаться без обиняков того взгляда, что свобода воли нам дана как факт сознания, и мы должны в нее верить. Дедукция свободы, равно как и сущности воли и свободы, может иметь место, как мы уже заметили (§ 2), лишь в связи целого. Основные черты этой предпосылки, заключающиеся в том, что дух есть ближайшим образом интеллект, и что определения, через которые он в своем развитии движется вперед – от чувства через представление к мышлению, – суть путь порождения им себя как воли, которая в качестве вообще практического духа есть ближайшая истина интеллекта, – эти основные черты я изложил в моей «Энциклопедии философских наук» (Гейдельберг, 1817) и надеюсь, что мне удастся когда-нибудь дать более подробнее их изложение. Я тем более чувствую потребность внести этим, как я надеюсь, и свой вклад в более основательное познание природы духа, что, как я там заметил (в примечании к § 367), нелегко отыскать другую философскую науку, которая находилась бы в таком запущенном и плохом состоянии, как учение о духе, обычно называемое психологией. – Относительно указанных в этом и в следующих параграфах введения моментов понятия воли, представляющих собою результат вышеуказанной предпосылки, можно, впрочем, с целью помочь представлению, сослаться на самосознание каждого человека. Каждый найдет в себе прежде всего способность абстрагироваться от всего, что есть, и точно так же способность определять самого себя, полагать внутри себя через себя всякое содержание; и точно так же он найдет в своем самосознании иллюстрацию дальнейших определений.
Прибавление. Свободу воли можно лучше всего уяснить указанием на физическую природу. Свобода, именно, представляет собою основное определение воли, подобно тому как тяжесть представляет собою основное определение тела. Когда говорят, что материя обладает тяжестью, то можно было бы подумать, что этот предикат только случаен для нее; но на самом деле это не так, ибо в материи нет ничего нетяжелого: она – сама тяжесть. Тяжесть составляет тело и есть тело. Точно так же обстоит дело со свободой и волей, ибо свободное и есть воля. Воля без свободы представляет собою пустое слово, и точно так же и свобода действительна лишь как воля, как субъект. Что же касается связи между мышлением и волей, то мы должны заметить об этом следующее. Дух есть вообще мышление, и человек отличается от животного мышлением. Но не надо представлять себе, что человек является, с одной стороны, мыслящим и, с другой стороны, волящим, что у него в одном кармане мышление, а в другом воля, ибо это было бы пустым представлением. Различие между мышлением и волей есть лишь различие между теоретическим и практическим отношением; но они не представляют собою двух способностей, так как воля есть особый способ мышления: она есть мышление как перемещающее себя в наличное бытие, как влечение сообщить себе наличное бытие.
Это различие между мышлением и волей можно выразить следующим образом. Мысля какой-нибудь предмет, я его превращаю в мысль и лишаю его всего чувственного; я превращаю его в нечто существенно и непосредственно мое, ибо лишь в мышлении я нахожусь у себя, лишь постижение есть проникновение в предмет, который теперь больше не противостоит мне и которого я лишаю принадлежащего ему своеобразия, которым он защищался против меня. Подобно тому как Адам говорит Еве: ты плоть от моей плоти и кость от моей кости, так и дух говорит: это – дух от моего духа, и чуждость исчезает. Всякое представление есть обобщение, а последнее есть черта мышления. Превратить нечто во всеобщее – значит мыслить его. «Я» – мышление и вместе с тем всеобщее. Когда я говорю «я», я отбрасываю в нем всякую особенность, характер, природные свойства, познания, возраст. «Я» есть нечто совершенно пустое, точкообразное, простое, но деятельное в этой простоте. Предо мною пестрая картина мира, я противостою ему, и в этом моем отношении к нему я уничтожаю противоположность между мною и им, превращаю это содержание в нечто мое. «Я» находится у себя дома в этом мире, когда оно его знает, и еще больше, когда оно его постигло. Таково – теоретическое отношение. Практическое отношение начинает, напротив, с мышления, с самого «я», и представляется с самого начала противоположенным, потому что оно именно тотчас же устанавливает разделение. Когда я практичен, деятелен, т. е. совершаю поступки, я себя определяю, а определять себя и означает именно полагать некое различие. Но эти различия, которые я полагаю, суть опять-таки мои различия, определения принадлежат мне, и цели, к которым меня влечет, принадлежат мне. Хотя я и выпускаю теперь эти определения и различия, т. е. перемещаю их в так называемый внешний мир, они все же остаются моими: они суть то, чт? я произвел, чт? я создал, – они носят следы моего духа. Если в этом состоит различие между теоретическим и практическим отношениями, то нужно теперь указать отношение между этими двумя отношениями. Теоретическое отношение содержится по существу в практическом; нельзя представить себе их раздельными, ибо невозможно обладать волей без интеллекта. Наоборот, воля содержит внутри себя теоретическое отношение: воля определяет себя; это определение есть ближайшим образом нечто внутреннее: то, чего я хочу, я представляю себе, ставлю перед собою, есть для меня предмет. Животное действует, руководясь инстинктом, влечется к действию внутренним побуждением, и, таким образом, оно тоже относится практически, но оно не обладает волей, ибо не представляет себе того, чего желает. Но так же мало можно без воли относиться теоретически или мыслить, ибо мысля, мы именно тем самым и деятельны. Содержание мыслимого получает, правда, форму сущего, но это сущее есть нечто опосредствованное, положенное нашей деятельностью. Эти различия таким образом нераздельны друг от друга: они – одно и то же, и в каждой деятельности, как в мышлении, так и в волении, находятся оба момента.
§ 5
Воля содержит в себе (?) элемент чистой неопределенности, или чистой рефлексии «я» внутрь себя, в которой растворено и исчезло всякое ограничение, всякое непосредственно наличное благодаря природе, потребностям, страстям и влечениям или благодаря чему бы то ни было данное и определенное содержание; это – беспредельная бесконечность абсолютной абстракции или всеобщность, чистое мышление самого себя.
Примечание. Те, которые рассматривают мышление как особую своеобразную способность и которые вместе с тем даже ставят мышление ниже воли, и в особенности доброй воли, обнаруживают с самого же начала, что они ничего не знают о природе воли; это замечание нам придется еще часто повторять, говоря об указанном предмете. – Если одна здесь определенная сторона воли, абсолютная возможность абстрагироваться от всякого определения, в котором я себя застаю или которое положено мною в самом себе, бегство от всякого содержания как ограничения, – если эта одна сторона воли есть то, к чему воля определяет себя как к свободе, или то, что представление фиксирует для себя как свободу, то это – отрицательная или рассудочная свобода. Это – свобода пустоты, которая, будучи возведена в действительный образ и в страсть и оставаясь вместе с тем лишь теоретической, представляет собою в религиозной области индусский фанатизм чистого созерцания, а обращаясь к действительности, она представляет собою как в области политики, так и в области религии фанатизм разрушения всякого существующего общественного порядка и устранение индивидуумов, подозреваемых в приверженности к порядку, а также и уничтожение всякой организации, стремящейся снова всплыть на поверхность общественной жизни. Лишь разрушая что-либо, эта отрицательная воля чувствует себя существующей. Ей, правда, кажется, что она стремится к какому-то положительному состоянию, например, к состоянию всеобщего равенства или к состоянию всеобщей религиозной жизни, но на самом деле она не хочет положительного осуществления этого состояния, ибо последнее тотчас же устанавливает какой-нибудь порядок, какое-нибудь обособление как учреждений, так и индивидуумов, а между тем именно из уничтожения этого обособления и объективной определенности эта отрицательная свобода черпает свое самосознание. Таким образом, то, к чему она, как ей кажется, стремится, уже само по себе может быть лишь абстрактным представлением, а осуществление этого желания – лишь бешенством разрушения.
Прибавление. В основе этого элемента воли лежит то, что я могу освободиться от всего, отказаться от всех целей, абстрагироваться от всего. Единственно только человек может все отбросить, даже свою жизнь: он может совершить самоубийство. Животное не может этого сделать; оно всегда остается лишь отрицательным, остается в чуждом ему определении, к которому оно лишь привыкает. Человек есть чистое мышление самого себя, и, лишь мысля, человек представляет собою эту силу, эту способность сообщить себе всеобщность, т. е. потушить всякую особенность, всякую определенность. Эта отрицательная или рассудочная свобода одностороння, но в этой односторонности всегда содержится существенное определение; мы поэтому не должны ее отметить; но недостаток, которым страдает рассудок, состоит в том, что он одностороннее определение возводит в ранг единственного и высшего. В истории эта форма свободы часто встречается. У индусов, например, считается высшим достижением пребывание лишь в знании своего простого тождества с собою, в этом пустом пространстве своего внутреннего «я», подобно бесцветному свету в чистом созерцании, и отказ от всякой жизненной деятельности, всякой цели, всякого представления. Таким способом человек становится Брамой; нет больше никакого различия между конечным человеком и Брамой; всякая отличительная черта исчезла в этой всеобщности. Конкретнее эта форма проявляется в деятельном фанатизме как в области политической, так и в области религиозной жизни. Сюда принадлежит, например, период террора во Французской революции, когда требовали уничтожения всякого различия талантов, всякого авторитета. Это время было судорогой, сотрясением, нетерпимостью по отношению ко всему особенному. Ибо фанатизм стремится к абстрактному, а не к расчленению; если выступают различия, он находит это противным своей неопределенности и упраздняет их. Вот почему народ в эпоху революции разрушал снова учреждения, которые он сам же создал, ибо всякое учреждение противно абстрактному самосознанию равенства.
§ 6
(?) «Я» есть также переход от лишенной различия неопределенности к различению, определению и полаганию некоторой определенности как некоторого содержания или предмета. Это содержание может быть, далее, или данным природой, или порожденным из понятия духа. Посредством этого полагания самого себя как чего-то определенного «я» вступает вообще в наличное бытие; это – абсолютный момент конечности или обособления «я».
Примечание. Этот второй момент определения точно так же, как и первый, представляет собою отрицательность, снятие – он есть именно снятие первой абстрактной отрицательности. Поэтому второй момент уже содержится в первом, подобно тому как особенное содержится вообще во всеобщем и есть лишь полагание того, чт? первый момент уже есть в себе. Первый момент, именно как первое для себя, есть не истинная бесконечность, или, иначе говоря, конкретная всеобщность, понятие, а лишь нечто определенное, одностороннее; а именно потому, что он представляет собою абстракцию от всякой определенности, он сам не без определенности, и то, что он как абстракция должен быть односторонним, и составляет его определенность, недостаточность и конечность. Мы находим различение и определение обоих вышеуказанных моментов в философии Фихте, также и в философии Канта и т. д., но «я» в философии Фихте, – мы остановимся лишь на этой философии, – как неограниченное (в первом положении фихтевского «Наукоучения»), взято всецело лишь как положительное (оно представляет собою таким образом рассудочную всеобщность, рассудочное тожество), так что это абстрактное «я» есть у Фихте само по себе истинное, и поэтому к нему, далее, присоединяется (во втором положении) ограничение – отрицательное вообще, в качестве ли данной, внешней границы или в качестве собственной деятельности «я». – Постижение отрицательности, имманентной во всеобщем или тожественном, как, например, в «я», было дальнейшим шагом, который должна была сделать спекулятивная философия; это – потребность, которой не подозревают не постигающие дуализма бесконечности и конечности даже в имманентности и абстракции, как его постигал Фихте.
Прибавление. Этот второй момент представляется противоположным первому. Его нужно понимать в его общем виде; он входит в состав свободы, но не составляет всей свободы. «Я» переходит здесь от лишенной различий неопределенности к различению, к полаганию определенности как некоторого содержания предмета. «Я» не только волит, но волит нечто. Воля, которая, как мы разъясняли в предшествующем параграфе, волит лишь абстрактно всеобщее, ничего не волит, и не есть поэтому воля. То особенное, чего хочет воля, есть ограничение, ибо воля должна себя вообще ограничивать, чтобы быть волей. То именно обстоятельство, что воля хочет чего-то, есть ограничение, отрицание. Обособление есть, таким образом, то, что обыкновенно называют конечностью. Рефлексия обыкновенно считает первый момент, именно, неопределенное, абсолютным и высшим, а ограниченное, напротив, лишь отрицанием этой неопределенности. Но эта неопределенность сама есть отрицание по отношению к определенному, по отношению к конечному. «Я» есть это одиночество, абсолютное отрицание. Постольку неопределенная воля точно так же одностороння, как и воля, пребывающая лишь в определенности.
§ 7
(?) Воля есть единство этих обоих моментов, рефлектированная внутрь себя и возвращенная, благодаря этому, к всеобщности особенность, – единичность: воля есть самоопределение «я», заключающееся в том, что оно полагает себя сразу и как отрицательное себя самого, а именно как определенное, ограниченное, и вместе с тем как остающееся у себя, т. е. пребывающее в своем тожестве с собою и в своей всеобщности и смыкающееся в определении лишь с самим собою. «Я» определяет себя, поскольку оно есть соотношение отрицательности с самой собой; в качестве этого соотношения с собою оно также и равнодушно к этой определенности, знает ее своей и идеализованной определенностью, исключительно лишь возможностью, которою оно не связано и в которой оно находится лишь потому, что оно полагает себя в ней. – Это и есть та свобода воли, которая составляет ее понятие или, иначе говоря, ее субстанциальность, ее тяжесть, таким же образом, как тяжесть составляет субстанциальность тела.
Примечание. Каждое самосознание знает себя всеобщим, возможностью абстрагироваться от всего определенного, и особенным с определенным предметом, содержанием, с определенной целью. Эти два момента представляют собою, однако, лишь абстракции; конкретное же и истинное (а все истинное конкретно) есть всеобщность, имеющая своей противоположностью особенное, но такое особенное, которое посредством рефлексии внутрь себя примирено с всеобщностью. – Это единство есть единичность, но не единичность в своей непосредственности как единица, какова единичность в представлении, а единичность по своему понятию («Энциклопедия философских наук», § 163–165) или, другими словами, эта единичность есть, собственно говоря, не что иное, как само понятие. Два первых момента, а именно то, что воля может от всего абстрагироваться, и то, что она также и определена – собою ли или чем-то другим, – легко воспринимаются и принимаются, потому что они сами по себе неистинные и рассудочные моменты; но третье, истинное и спекулятивное (а все истинное, поскольку оно постигается в понятии, может мыслиться лишь спекулятивно), представляет собою то, во что рассудок, всегда называющий понятие непонятным, отказывается вникать. Доказательство и ближайшее разъяснение этого глубочайшего ядра всякой спекуляции – бесконечности как отрицательности, соотносящейся с самой собою, этого последнего источника всякой деятельности, жизни и сознания, должно быть дано в логике как чисто спекулятивной философии. – Здесь можно еще заметить лишь то, что когда употребляют выражение: воля всеобща, воля определяет себя, то этим самым уже выражаются о ней как о предполагаемом субъекте или субстрате, но воля не есть нечто готовое и всеобщее до того, как она определяется, и до того, как это определение снимается и получает характер идеализованности, а есть воля лишь как эта опосредствующая себя в самой себе деятельность и возвращение внутрь себя.
Прибавление. То, что мы, собственно, называем волей, содержит в себе оба вышеуказанных момента. «Я» есть, как таковое, прежде всего чистая деятельность, всеобщее, находящееся у себя; но это всеобщее определяет себя, и постольку оно уже больше не находится у себя, а полагает себя как другое и перестает быть всеобщим. Третье же состоит в том, что «я» в своем ограничении в этом другом находится у себя самого; что, определяя себя, «я» все же остается у себя и не перестает удерживать всеобщее. Это-то и есть конкретное понятие свободы, между тем как два предшествовавших момента оказались всецело абстрактными и односторонними. Но этой же свободой мы уже обладаем в форме чувства, например, в дружбе, в любви. Здесь мы не пребываем односторонне внутри себя, а, наоборот, охотно ограничиваем себя в отношении другого лица, но знаем себя в этом ограничении самими собою. В определенности человек должен чувствовать себя не определяемым, а наоборот, мы впервые начинаем чувствовать свое достоинство лишь благодаря тому, что рассматриваем другое как другое. Свобода, таким образом, не заключается ни в неопределенности, ни в определенности, а представляет собою и первую и вторую. Воля, ограничивающаяся исключительно некиим тем-то, свойственна упрямцу, которому кажется, что он несвободен, если он не будет обладать такой-то волей. На самом же деле воля не связана с чем-то ограниченным, а должна идти дальше, ибо природа воли не состоит в этой односторонности и связанности; нет: свобода состоит в том, чтобы волить нечто определенное, но в этой определенности все же оставаться у себя и снова возвращаться в лоно всеобщего.
§ 8
Дальнейшая определенность обособления (? § 6) представляет собою различие форм воли: а) поскольку определенность представляет собою формальную противоположность между субъективным и объективным как внешним непосредственным существованием, постольку это – формальная воля как самосознание, преднаходящая внешний мир и, в качестве единичности возвращающейся в этой определенности, внутрь себя, она представляет собою процесс перевода субъективной цели в объективность через опосредствование деятельности и некоторого средства. В духе, каков он есть в себе и для себя, в котором определенность есть просто его и подлинная определенность (Энциклопедия, § 440), отношение сознания составляет лишь одну из сторон явления воли, которая здесь уже не имеет значения сама по себе.
Прибавление. Рассмотрение определенности воли есть дело рассудка и не является ближайшим образом спекулятивным. Воля вообще определена не только в смысле содержания, но и в смысле формы. Определенность формы есть цель и выполнение цели. Цель есть ближайшим образом нечто сущее внутри меня, субъективное, но она должна стать также и объективной, сбросить с себя свой недостаток, перестать быть только субъективной. Можно здесь задать вопрос: почему же субъективность есть недостаток? Если то, у чего есть недостаток, не стоит вместе с тем выше своего недостатка, то для него это не недостаток. Для нас животное есть нечто недостаточное, для себя оно не таково. Цель, поскольку она пока лишь наша цель, есть для нас недостаток, ибо свобода и воля суть для нас единство субъективного и объективного. Цель должна быть положена объективно, и она получает в этом полагании не новое одностороннее определение, а лишь свою реализацию.
§ 9
b) Поскольку определения воли суть ее собственные определения, вообще ее рефлектированное внутрь себя обособление, они суть содержание. Это содержание, в качестве содержания воли, есть для нее, согласно указанной в а) форме, – цель, осуществленная, выполненная через посредство деятельности, переводящей субъективное в объективность.
§ 10
Это содержание или различенное определение воли ближайшим образом – непосредственно. Таким образом, воля свободна лишь в себе, или для нас, или, другими словами, она вообще – воля в ее понятии. Лишь имея своим предметом самое себя, воля есть для себя то, что она есть в себе.
Примечание. Конечность состоит согласно этому определению в том, что то, что? нечто есть в себе или по своему понятию, есть существование или явление, отличное от того, что? оно есть для себя. Так, например, абстрактная внеположность природы есть в себе пространство, а для себя – время. Здесь уместно сделать об этом следующие два замечания.
Мы должны заметить, во-первых, что так как истинна только идея, то если мы берем предмет или определение лишь таковым, каков он в себе или в понятии, то мы еще не обладаем им в его истине. Мы должны затем еще заметить, что всякое нечто, как оно есть в качестве понятия или «в себе», также и существует, и это существование представляет собою особый образ предмета (как, например, выше – пространство); имеющееся в конечном различение в-себе-бытия и для-себя-бытия составляет вместе с тем то, в чем заключается его исключительно наличное бытие