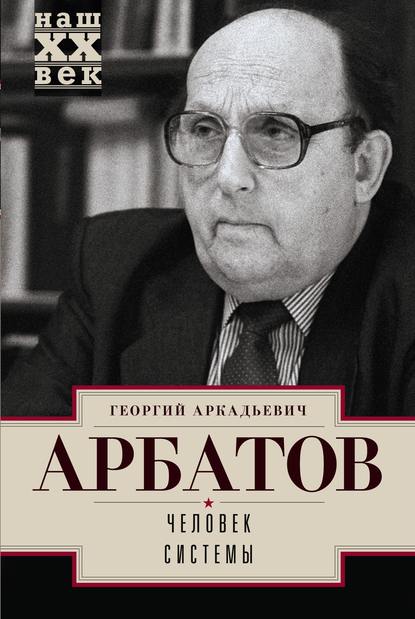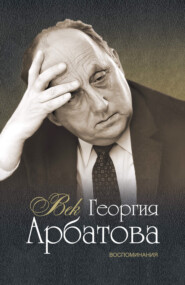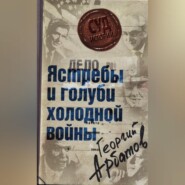По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Человек системы
Жанр
Серия
Год написания книги
2002
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Судьбы их, как правило, складывались потом трудно: почти каждому пришлось пережить жестокие нападки и гонения, подчас длительную опалу, а иногда и репрессии. Ирония судьбы состояла в том, что меньше всего они могли себя выразить там, где, казалось бы, это было наиболее естественно, – в академических институтах, занимающихся общественными науками, и в вузах. Здесь по-прежнему доминировал сталинский догматизм.
Мне довелось быть свидетелем и того и другого – консерватизма официальной общественной науки и в то же время первых попыток ученых вырваться из его оков, попыток преодолеть старые схемы и теоретические извращения, которые насаждались силой принуждения и страха. А также, конечно, и силой невежества – оно к тому времени стало отличительной чертой целого поколения лидеров обществоведения практически во всех его областях.
Все это я живо помню, поскольку с осени 1953 года начал работать в академическом журнале «Вопросы философии». Журнале своеобразном, созданном с началом послевоенных проработочных кампаний взамен закрытого еще в 1944 году журнала «Под знаменем марксизма», притом с явной задачей «идеологического надзора» не только за философией, но и за другими науками. Собственно, в значительной мере это отражало и функции самой философской науки в сталинскую пору, функции, помимо всего прочего, своеобразного «идеологического полицейского», обеспечивающего должную правоверность, ортодоксальность всех наук, теории, духовной жизни общества в целом.
Очень активно занявшись выполнением этой функции, а также наведением «порядка» в собственном философском доме (там грызня шла непрерывная), работники этой, как и других общественных, науки сами погрязли в непроходимом догматизме и начетничестве, не смолкающей апологетике «великого теоретика» Сталина: бесчисленное количество статей, брошюр и книг было, в частности, выпущено о той «революции», которую произвели в философии, во всей марксистской теории сталинские изыскания по языкознанию. Ну и, конечно, велась яростная, просто оголтелая критика западной философии. Притом на крайне низком уровне, когда критика просто сводилась к брани и оскорблениям.
Мне попалась не так давно на глаза ничем не выдающаяся, но очень типичная в этом отношении статья, опубликованная в девятом номере журнала «Большевик» (так тогда назывался «Коммунист») за 1951 год, посвященная разбору книги Мориса Корнфорта «В защиту философии». Вот в каких выражениях говорилось там о западной философии: философия современной империалистической буржуазии находится в состоянии деградации и маразма, влачит отвратительное, грязное существование, что отражает всю глубину падения разлагающейся буржуазии. А дальше шли бесконечные ярлыки: отравление человеческого сознания ядом ненависти к человечеству, расизма, космополитизма, раздувание военного психоза и антикоммунистической истерии, пропаганда мистицизма и иррационализма, оправдание самых зверских фактов подавления всего передового и прогрессивного. Позитивистская философия – насквозь реакционна, пережевывает двухсотлетней давности идейки английского попа Беркли. «Логический анализ» «философского мракобеса» Бертрана Рассела – не что иное, как очередной вариант субъективного идеализма, давно уже выброшенного на свалку истории.
Американский философ, основоположник прагматизма Джон Дьюи характеризовался в «Кратком философском словаре» как реакционный буржуазный американский педагог, закоренелый идеалист, идеологический оруженосец американского империализма, стремящегося к мировому господству, участник грязных клеветнических кампаний против Советского Союза.
Впрочем, стоит ли удивляться! Почти в таких же выражениях наши философы долгое время вели «научную полемику» друг с другом, с оппонентами из своей среды, навешивая им самые невероятные обвинения и ярлыки. Так стоит ли стесняться с «инакомыслящими» из числа иностранцев?
После смерти Сталина ветры перемен, конечно, донеслись и до философской науки. Но она оказалась весьма устойчивой против них, зарывшись в долговременных огневых позициях сталинизма. Консервативное руководство Института философии (директором его был тогда П.Н. Федосеев) и редакторы журнала «Вопросы философии» (вначале Ф.В. Константинов, а затем М.Д. Каммари) всеми силами «держали фронт», опираюсь при этом, конечно, на соответствующие отделы ЦК КПСС. Но делать им это становилось уже все труднее.
Естественно, что немалую роль в первых телодвижениях, давших сигнал о некотором оживлении на философском фронте, сыграл именно журнал – у книг длиннее производственный процесс и больше инстанций, на которых их легче остановить. Способствовало этому и то, что журналу повезло с некоторыми членами редколлегии (из них я особо выделил бы Б.М. Кедрова, а также тогдашнего ответственного секретаря М.В. Сидорова). К поиску нового были готовы и многие еще молодые тогда сотрудники редакции (среди них Э.А. Араб-оглы, А.Л. Субботин, Н.Н. Козюра и некоторые другие). Кто не поленится заглянуть в журнал тех лет – пожалуй, с середины 1954 года, – найдет там уже ростки творческой мысли. Выходит ряд статей, критикующих работы «официального» философа Г.Ф. Александрова (в частности, «Диалектический материализм» и «Историю философии», которые он редактировал) за «нигилистическое отрицание значения буржуазных философов», за то, что все творцы великих философских систем прошлого изображаются им просто как идеологи эксплуататорских классов, заботящиеся лишь о защите существующего строя.
В 1955 году дискуссия по проблемам философской науки завершилась полной победой тех, кто решительно отверг и заклеймил как вылазку реакционеров попытки философов А.А. Максимова и Р.Я. Штейнмана, физика И.В. Кузнецова и ряда других авторов объявить теорию относительности несовместимой с марксизмом, повторить в физике то, что сделали Лысенко и Презент в генетике. В 1956 году кибернетика, которую раньше клеймили как буржуазную псевдонауку, была, так сказать, полностью «реабилитирована», признана. На страницах журнала начали наноситься первые удары по лысенковщине (вскоре ее критика, к сожалению, вновь была напрочь запрещена), делались попытки узаконить, легитимизировать социологию. В журнале начали появляться новые имена, среди них – Е.У. Плимак, Ю.Ф. Карякин, Э.В. Ильенков, А.А. Зиновьев, Мераб Мамардашвили и ряд других.
Примерно так же обстояло дело и в других общественных науках. Не очень скоро, но в них все же начинались дискуссии, борьба мнений, рожденная различием взглядов и позиций, столкновением нового со старым. Однако философии (как, впрочем, и истории, политэкономии, науке о государстве и праве) суждено было еще долго оставаться в целом прежней. Три года поверхностной, то и дело одергиваемой либерализации не могли вспахать, сделать плодородным поле, которое почти тридцать лет утаптывалось мощью государственной и партийной власти, тяжеловесными катками низменных страстей карьеристов, честолюбивых невежд и фанатичных недоучек.
Слушая тогда рассказы маститых философов об истории этой науки с начала тридцатых годов, я невольно вспоминал библейские строки: «У Еноха родился Ирад; Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусаила; Мафусаил родил Ламеха…» и т. д., и т. п. (Быт., 4: 18). Только здесь не рождали, а уничтожали. А.М. Деборин и его сподвижники согнали с общественной сцены своих предшественников. А П.Ф. Юдин и М.Б. Митин (опять же со своими сподвижниками) ликвидировали «меньшевиствующих идеалистов» – деборинцев (в основном физически, при помощи доносов в органы госбезопасности: отнюдь не мифом была знаменитая юдинская записная книжка, куда этот «лидер» философской мысли записывал имена тех, кого «надо посадить», и неизменно быстро приводил свои приговоры в исполнение). А выдвинувшиеся перед самой войной Г.А. Александров и его группа оттеснили «юдинцев-митинцев» (а некоторых членов этой группы сумели и посадить), чтобы, в свою очередь, стать жертвой новых фаворитов, диктовавших очередную моду в философии…
И так обстояло дело во многих общественных науках. «Научные школы» возникали не на базе новых концепций, идей, теорий, а на базе разоблачений, уничтожающей критики, разгрома предшественников – часто своих учителей. Осколки разных групп и периодов этого «слоеного пирога» могли объединиться лишь на платформе отчаянного сопротивления возврату к настоящей науке, к творческому труду. Ибо к нему они были неспособны, этому были, как говорится, не научены. Может быть, потому так трудно, натужно шел процесс возрождения общественных наук?
Но он все же начался. И, возвращаясь к тем временам, я бы решился на такой вывод: к середине пятидесятых годов наше общество несомненно стало более зрячим, трезвее смотрело на себя, освободилось от некоторых иллюзий. Люди начинали думать. Многие ждали и надеялись. Конечно, разные люди на разное, но в целом зрело ощущение необходимости и приближения перемен.
Вместе с тем старое лежало настолько толстым пластом, что XX съезд КПСС, речь Н.С. Хрущева о культе личности Сталина, пожалуй, большинством советских людей были восприняты как гром среди ясного неба, стали сенсацией, глубоко потрясшей партию, все наше общество.
Слухи об этой речи разнеслись по Москве моментально. Подробности, притом абсолютно достоверные, я узнал в тот же день – от академика Юрия Павловича Францева, присутствовавшего на съезде. В то время он работал заместителем главного редактора газеты «Правда», вел в ней международную тематику. Одновременно был членом редколлегии журнала «Вопросы философии», где курировал отдел зарубежной философии и идеологии, в котором работал и я.
Пригласил он меня, чтобы поговорить. И разговор состоялся откровенный, тем более что нас связывала не только работа, но и давнее знакомство – с того времени, когда я учился в Институте международных отношений, а он был его директором. Для тогдашних студентов Ю.П. Францев, замечу попутно, был фигурой почти легендарной – рафинированный интеллигент, что среди людей этого ранга становилось явлением все более редким, видный ученый-египтолог и историк философии – и в то же время человек, уверенно чувствующий себя в политике. Он имел репутацию демократа для студентов и строгого, придирчивого и отличающегося злым языком начальника для преподавателей. Биография Францева складывалась непросто, жизнь его немало корежила, ломала, заставляла приспосабливаться, особенно когда из института его перевели в МИД СССР заведующим отделом печати – при очень недобром министре А.Я. Вышинском и к тому же на место только что арестованного Зинченко.
В тот вечер, рассказывая о речи Н.С. Хрущева, Юрий Павлович вопреки вполне заслуженной славе скептика и даже, может быть, не вполне заслуженной – циника был искренне взволнован, мало того – ошарашен. Мне запомнились его слова, показавшиеся неожиданными: «Я мог думать, что это когда-то произойдет, должно произойти, но никогда не ожидал, что до этого доживу». Францев был довольно одиноким человеком, почти не имел, исключая жену, друзей и, наверное, испытывал потребность с кем-то поделиться переполнявшими его впечатлениями и эмоциями – потому, видимо, и пригласил меня в тот вечер. Пересказывать то, что он говорил, сейчас, когда «секретная речь Хрущева» опубликована, не имеет смысла, но мне запомнилось, что в ходе разговора собеседник несколько раз переходил почти на шепот – такой страшной ему по привычке казалась правда о Сталине. Хотя удивить вроде бы она уже не должна была. Я, помнится, задал ему вопрос: знал ли он о том, о чем сказал Хрущев, раньше? Он ответил, что знал. «Обо всем?» – «Пожалуй, обо всем, кроме разве что некоторых деталей».
На следующий день о том, что «Хрущев разоблачил Сталина», говорила вся Москва. А еще пару дней спустя – вся страна. И хотя основные положения речи для всех, кто интересовался политикой, три года спустя после смерти Сталина, казни Берии, многих разоблачений и реабилитаций не могли быть такой уж неожиданностью, общее состояние иначе, чем шоком, не назовешь. Оказалось, что то, о чем ты догадывался, а в последние годы в общем-то даже знал, обсуждал в кругу близких друзей, воспринимается совершенно иначе, когда зачитывается с трибуны партийного собрания (а речь Хрущева вскоре начали читать во всех первичных парторганизациях).
Оглядываясь назад, понимаешь, что XX съезд, сказав вслух правду о многом, не столько дал нашему обществу ответы, сколько поставил перед ним важные, непривычные вопросы – и в этом его историческое значение. Ответов тогда ни у кого не было, важно было со всей остротой поставить главный вопрос – о необходимости перемен, поиска новой модели социализма (или в качестве единственной альтернативы – отказ от него), – о чем-то другом тогда еще мало кто мог думать. Но для того, чтобы убедительно этот вопрос поставить, надо было сказать жестокую правду о прошлом. Разоблачение Сталина, его преступлений было самым эффективным, что в этом плане мог сделать Н.С. Хрущев.
Другое дело, что после его доклада (не побоюсь сказать – исторического доклада, хотя Хрущев был не во всем последователен и до конца правдив) далеко не все пошло в правильном направлении. На то, наверное, были свои причины.
Во-первых, объективные. Сталинщину, ее наследие, как потом все убедились, можно было преодолеть лишь в борьбе – длительной, острой, охватывающей самые разные стороны общественной жизни. Даже самый совершенный доклад, самое продуманное решение съезда не могли заменить, даже предвосхитить эту борьбу, огромную работу по переделке и людей, и общества.
И во-вторых, причины субъективные. Положение в руководстве было таково, что за предыдущие три года партию, народ все же не удалось должным образом подготовить к крупнейшей политической акции, предпринятой на XX съезде КПСС, – к разрыву со сталинским прошлым, крутому повороту в политике. Видимо, по тем же причинам XX съезд не смог выдвинуть позитивную программу преодоления наследия сталинщины хотя бы на первые годы.
Ссылаясь на положение в руководстве, я имею в виду не только очевидный факт неприятия XX съезда и критики Сталина значительной частью членов политбюро (тогда называвшегося президиумом ЦК) – Молотовым, Маленковым, Кагановичем и некоторыми другими. Дело было в самом Хрущеве, в его позиции, в его непоследовательности. Истоки этой непоследовательности – вопрос, опять же вызывающий споры. В этой связи говорят, во-первых, о том, что Хрущев не мог быть последовательным, так как сам, как и все другие лидеры того времени, участвовал в репрессиях. Во-вторых, о том, что он нес на себе – и в себе – тяжкий груз убеждений, нравов, методов и подходов, которые иначе, как сталинскими, не назовешь. А в-третьих, о его личных недостатках – необразованности, импульсивности, грубости, неумении владеть собой.
Думаю, и то, и другое, и третье имело место и сказалось на политике. Но, мне кажется, была и еще одна важная причина, не позволившая руководству партии выработать последовательную политику десталинизации. Она относится к мотивам, которые толкали Хрущева к критике Сталина. Не вызывает сомнений, что жестокость, коварство, деспотизм Сталина отталкивали Хрущева, вызывали у него осуждение и даже отвращение. Было и чувство личной обиды за унижения, которые ему пришлось терпеть от Сталина, в том числе, я думаю, за подавляющий человеческое достоинство постоянный страх. Но я уверен, что присутствовал и еще один очень весомый мотив. Это – борьба за власть, в которой Н.С. Хрущеву противостояла старая сталинская «гвардия», прежде всего Молотов, Маленков, Каганович. А поначалу также Берия. Судьба Хрущева – свидетельство крайней остроты конфликта (в соответствии с действовавшей еще сталинской традицией поражение могло означать и физическую смерть – не только политическую). В этой трудной и опасной борьбе критика Сталина и сталинизма не могла не рассматриваться Н.С. Хрущевым как одно из его главных орудий, временами даже как самый крупный козырь.
Н.С. Хрушев за предыдущие три года физически убрал одного – Берию – и отодвинул еще двух своих соперников – Маленкова и Молотова, сняв с занимаемых постов и подвергнув очень жесткой критике в закрытых письмах ЦК КПСС, зачитывавшихся на собраниях первичных парторганизаций. Это сыграло немалую роль в решении выступить с разоблачением культа личности Сталина на XX съезде партии. Думаю (в какой-то мере это подтверждается воспоминаниями сына А.И. Микояна С.А. Микояна), что здесь Хрущев пошел против воли значительной части членов президиума, оказал на них давление, а возможно, даже далеко не все с ними согласовал, поставив их на съезде перед свершившимся фактом.
Насколько можно судить, критика культа личности Сталина была в руках Хрущева одним из важных инструментов в борьбе за политическое выживание и на июньском (1957) пленуме ЦК КПСС, последовавшем за драматическими заседаниями президиума ЦК, на которых против Хрущева высказалось большинство. Пленум охарактеризовал Молотова, Маленкова, Кагановича и, как тогда писали, «примкнувшего к ним Шепилова» как антипартийную группу, хотя примкнули к ним также Ворошилов, Булганин, Сабуров, Первухин. Документировать это предположение я не могу, поскольку не читал стенограмму этого архисекретного пленума, но в правильности самого предположения практически уверен.
Зато на XXII съезде КПСС линия Хрущева на то, чтобы использовать критику культа личности Сталина для борьбы со своими политическими противниками, проявилась совершенно неприкрыто и однозначно. Хотя в то время у многих вызвал некоторое удивление (у меня, не скрою, – приятное) тот упор, который без видимых причин был сделан на критику Сталина и его еще живых соратников в докладе и практически во всех выступлениях. Казалось бы, на XX съезде уже сказали, и, если иметь в виду самого Сталина, сказали больше. А что до Молотова, Маленкова и других членов антипартийной группы, то они уже были исключены из партии, политически и морально уничтожены. Зачем же делать это практически главным вопросом съезда? Объяснение нахожу лишь одно: Н.С. Хрущев опасался (может быть, даже имел на сей счет информацию), что члены антипартийной группы попытаются апеллировать к съезду, чтобы взять реванш за июньский пленум. Основанием могло послужить то, что они обратились к съезду с заявлением о восстановлении в партии. И это как раз и могло спровоцировать Хрущева на то, чтобы повернуть дискуссию на съезде в антисталинское русло. Что, в общем, по тем временам продолжающихся шатаний и неустойчивости в вопросе о Сталине было полезным и, мне кажется, затруднило попытки ряда консервативных деятелей уже после устранения Хрущева (в частности, на XXIII съезде партии) отменить решения XX съезда КПСС.
Какие есть основания считать: мотивы борьбы за власть играли большую, а может быть, и очень большую роль в решении Хрущева пойти на разоблачение того, что назвали культом личности Сталина, а на деле – его преступлений? По-моему, очень веские.
Среди них я назвал бы прежде всего очевидную непоследовательность самого Хрущева в критике сталинизма, его нескончаемые метания между разоблачениями творившихся тогда преступлений и рассуждениями о заслугах покойного «вождя». В том числе и прежде всего о заслугах «в борьбе с врагами партии», то есть именно в той области, где начались и обрели чудовищный размах преступления, обратившиеся в массовые репрессии и террор против своей же партии и своего народа. Соответствующие похвальные формулы вошли и в спешно подготовленное уже после опубликования «секретной речи Хрущева» газетой «Нью-Йорк таймс» решение ЦК КПСС «О культе личности Сталина и его последствиях», на долгие годы ставшее единственным каноническим документом на эту архиважную тему.
Колебания Н.С. Хрущева но этому вопросу были совершенно очевидны. И первое, в чем они проявились, – это в отсутствии четкой идеологической и политической позиции даже непосредственно после XX съезда партии. Хрущев все же мог и должен был ее сформулировать при всех противоречиях в руководстве. XX съезд дал ему огромную силу и авторитет. Между тем уже на партийных собраниях, посвященных обсуждению решений съезда, выявилось, что после первоначальной растерянности старые руководящие кадры в партийных органах быстро пришли в себя, постарались максимально ограничить воздействие идей съезда, а тех, кто воспринял XX съезд всерьез, хотел идти дальше, – примерно наказать в назидание другим. Сам же Хрущев в дни, когда вся страна и вскоре весь мир бурлили в острых дискуссиях, когда задавалось множество вопросов, остававшихся без официального ответа, отмалчивался, а иногда в мимолетном обмене репликами с иностранными журналистами даже позволял себе двусмысленные высказывания.
Не хочу, чтобы эти мои оценки были поняты как попытки принизить заслуги Н.С. Хрущева, тем более изобразить его беспринципным политиканом и интриганом. Таким он был не в большей мере, чем другие наши политики того нелегкого времени. Дело скорее в том, что во многих своих представлениях Хрущев был и не мог не быть истинным порождением сталинской эпохи. А она обязательно прививала политикам страх и заставляла их следовать определенным правилам самосохранения. Те, кто не обладал этими качествами, просто гибли уже на первых ступенях лестницы, которая вела к политической карьере.
Но я не могу не принять во внимание убежденности людей, в отличие от меня лично знавших Хрущева, что в своей критике Сталина, неприязни к нему он был искренен. И что природный крестьянский ум Н.С. Хрущева, а еще в большей мере, наверное, политический инстинкт нередко подталкивали его к решениям, которые объективно были направлены на развал сталинской системы. Эти решения часто были импульсивны, неуклюжи, плохо продуманы, но целью их было освободить общество от того, что неизбежно вело в перспективе к его параличу. Таким решением люди, лично знавшие Хрущева, с которыми я обсуждал эту проблему, считают, например, его пусть нескладную, но очень смелую попытку создать, по существу, две партии в нашей стране – «городскую» и «сельскую». Эта попытка могла рассматриваться не только как дилетантская импровизация, но и как вполне сознательный шаг к подрыву монополии всесильного бюрократического аппарата. Допускаю, что все так и было. Политика – это равнодействующая, которая складывается из множества приложенных сил и факторов.
И среди них я хотел бы назвать еще один.
У меня уже тогда закралось подозрение: не испугался ли и не растерялся ли после XX съезда КПСС Хрущев, увидев, что он сделал, каких духов разбудил? Сейчас я в этом уверен и считаю это одной из величайших ошибок Хрущева. В партии, народе была высечена искра надежды, пробуждены вера, даже искренний энтузиазм, энергия борьбы за очищение общества, за подлинно социалистические идеалы. К тому же XX съезд на какое-то время напугал, сковал сталинистскую бюрократию, подорвал позиции консерваторов. В этой уникальной ситуации на волне подъема наиболее активной, творческой части общества, используя пробудившуюся общественную энергию, можно было бы продвинуться далеко вперед – много дальше, чем удалось на практике. И уж во всяком случае, устранить элемент провокации: люди начали самостоятельно мыслить, говорить, писать, что думают, а уже через несколько месяцев их снова попытались загнать в тесные рамки предписанного сверху. А тех, кто был особенно активен, наказали, подвергли проработке. И уже к концу 1956 года все, казалось бы, вошло в старую колею.
Характерно, что Хрущев не решился (или не смог) опубликовать свой доклад на XX съезде в собственной стране – это было сделано лишь в годы перестройки, много лет спустя после его смерти. Есть версия, что ему не позволили сделать это раньше другие члены президиума ЦК. И потому он даже сознательно передал его подробное, почти дословное изложение для публикации на Западе через тогдашнего корреспондента агентства Рейтер Джона Ретти, на которого вывели человека, назвавшегося Костей Орловым, судя по всему работника КГБ (см. «Московские новости» от 11 июля 1990 года). Но ведь потом, скажем после июньского (1954) пленума ЦК, изгнавшего Молотова, Маленкова, Кагановича и ряд других деятелей из руководства партии (а затем – и из партии), Хрущев мог бы это сделать. Тогда ему уже никто не мог помешать. Но не сделал. Не сделал, скорее всего, потому, что боялся, не решался на этот важный шаг.
Осенью 1956 года, когда произошел откат, могло казаться, что все вернулось к старому. На деле, однако, в эту старую колею ничто по-настоящему войти не могло. Хотя сами попытки загнать только-только рождавшееся новое в жесткие рамки в основе своей старых воззрений сбили порыв, в значительной мере погасили энергию обновления. Сложилась нелепая ситуация своего рода идейно-политического «двоевластия», когда общество, долгое время приучавшееся к единомыслию, к тому, чтобы следовать четко заданной сверху линии, запуталось, смешалось, растерялось. В результате были потеряны и общественная энергия, и темп, и драгоценное время.
Размышляя уже потом о причинах такого поведения Хрущева, его растерянности, даже страха в момент его величайшего, по сути, исторического триумфа и невиданных возможностей, я относил их также за счет некоторых «внешних» обстоятельств. И прежде всего за счет осложнений, вызванных критикой культа личности Сталина в стране и за рубежом, накладывавшихся, судя по всему, на отсутствие четкой антисталинской позиции у самого Хрущева.
Если говорить об осложнениях в стране, то речь идет главным образом о «брожении», воспринятом в качестве оппозиционных настроений – особенно среди интеллигенции и молодежи. Хотя на деле, как правило, речь шла именно о попытках понять, осмыслить XX съезд, сделать из него должные выводы. Но Хрущева, не говоря уж о других руководителях, это, судя по всему, серьезно напугало. Наиболее наглядное подтверждение тому – его встречи с представителями творческой интеллигенции, многочисленные высказывания на сей счет, часто сталинистские по содержанию. И еще более разнузданные, чем у Сталина, по форме. (Я сознательно не касаюсь здесь трагедии в Тбилиси, где было применено оружие против демонстрации студентов в защиту Сталина, – это эпизод, хотя и очень печальный, но не укладывающийся в ясно выраженную тенденцию). В целом внутри страны ничего действительно способного послужить основанием для попятного движения и колебаний руководства не произошло. Главным внутренним источником этих колебаний было скорее сопротивление линии XX съезда со стороны консервативных сил общества, сопротивление, впрочем, понятное, даже неизбежное, а также неясная, можно даже сказать, двусмысленная позиция самого Хрущева.
Что касается событий за рубежом, то они вскоре приняли драматический характер.
В полосу острых трудностей вступили, в частности, коммунистические партии капиталистических стран. И это тоже понятно. Объективно получилось так, что Хрущев, по сути, подтвердил многое из того, что говорили об СССР и социализме враги коммунизма, но во что коммунисты не верили и, убежденные в своей правоте, оспаривали. В результате последовало разочарование многих коммунистов, отток из партии, отход значительной части сочувствующих, особенно из числа радикальной левой интеллигенции. В некоторых партиях усиливались немыслимая раньше тенденция критического отношения к КПСС и Советскому Союзу, стремление к идеологической, а во многом и политической самостоятельности, поиску новой тактики и т. д. В одних партиях происходили внутренние кризисы, откол каких-то фракций, в других – изменение общего их курса.
И находилось немало людей, в том числе внутри страны, которые возлагали вину за все это на Хрущева и XX съезд.
Это – очень серьезные обвинения, и они стали достаточно традиционным оружием консерваторов в тех ситуациях, когда политик, политическое руководство оказываются перед необходимостью исправлять допущенные в прошлом ошибки и тем более раскрывать преступления, что, естественно, вызывает соответствующую реакцию общественности. Вину за такую реакцию в подобных случаях пытаются возложить не на тех, кто ошибки и преступления совершал, а на тех, кто пытается сказать о них правду и их исправить. Так происходило и после XX съезда, хотя речь шла о неизбежной, рано или поздно должной наступить расплате за злодеяния Сталина и за то, что зарубежные коммунистические деятели столь упорно их не замечали, даже оправдывали или отрицали, считая (многие – искренне, кто-то – будучи обманутым), что все, в чем долгие годы обвиняли советское руководство, – пропагандистские измышления антикоммунистов.
Дело здесь осложнялось и тем, что измышления такие действительно фабриковались начиная с 1917 года, и это служит одним из объяснений недоверия иностранных друзей Советского Союза также и к достоверным сведениям о том, что делалось в СССР в тридцатых годах и позже, включая очевидные всем, неоспоримые факты. Ну а кроме того, у очень многих зарубежных коммунистов была святая, почти фанатичная вера в Советский Союз и в Сталина, нередко благородная по мотивам, но в принципе чуждая марксизму («Все подвергать сомнению!» – забытый девиз Маркса).
Она, эта вера, утвердилась в сознании тысяч и тысяч людей, в том числе честных, умных, подчас выдающихся. На то конечно же были свои исторические причины. Такие, как катастрофа Первой, а затем Второй мировой войны, ужасы фашизма, тяготы «великого кризиса» 1929–1932 годов. Все это порождало у левой зарубежной общественности и в рабочем движении страстное желание, даже жизненную потребность иметь надежду на светлое будущее. Для очень многих легче всего ее оказалось тогда обрести в лице Страны Советов, а потом незаметно делался следующий шаг: надежда на светлое будущее связывалась с именем ее «вождя». И кстати, надежда на Советский Союз, если быть объективным, вовсе не была только иллюзией или обманом. СССР был главной антинацистской силой, он сыграл решающую роль в разгроме фашизма во Второй мировой войне, спасении Европы от нацистского рабства.
Безусловно, сегодня, много лет спустя, можно бросить зарубежным коммунистам, особенно их руководителям, упрек за слепую веру, которая дорого обошлась прежде всего самим их партиям. (Я здесь не говорю о тех зарубежных коммунистических деятелях, которые сознательно участвовали в создании культа личности Сталина и даже в его преступлениях, – к сожалению, были и такие.) И в конечном счете вера эта не только помогала (чего тоже нельзя отрицать – вспомним движение «Руки прочь от Советской России!», ускорившее прекращение интервенции сразу после революции 1917 года), но и мешала нам, устранив из нашего политического процесса важный фактор – общественное мнение коммунистов, который в какие-то периоды, возможно, мог сдерживать Сталина.
Но не менее важно видеть и объективные причины этих заблуждений. Основная тяжесть ответственности за них не на зарубежных коммунистах, а на тех, кто совершал эти преступления. Огромна вина Сталина и его окружения не только перед зарубежными коммунистами, но и перед рабочим движением и левыми политическими движениями и силами мира. Вина за то, что он творил в стране, компрометируя социализм, грубо пренебрегая международной ответственностью руководства государства, называющего себя социалистическим. И за то, что творил в мировом коммунистическом движении при помощи репрессий (их жертвами стали многие деятели Коминтерна и даже целые партии, в частности польская), интриг и оглушающей пропаганды, насаждая там сектантство, авторитарные порядки, слепое послушание и культ своей личности.
Мне довелось знать немало зарубежных коммунистов, среди них у меня есть друзья, и я хорошо понимаю те трудности и проблемы, с которыми они столкнулись после XX съезда КПСС, а затем и в годы перестройки. Потому я остановился на них подробнее.
Но вернемся в год 1956-й. Тогда ситуация, сложившаяся внутри страны и за рубежом, оставляла, как мне кажется, перед Хрущевым два выхода. Один заключался в том, чтобы смело идти вперед, – с одной стороны, признав полный суверенитет, дав полную самостоятельность каждой партии в поиске путей выхода из трудностей, с которыми она столкнулась, а с другой – сосредоточившись на смелых внутренних реформах, которые подняли бы авторитет КПСС и Советского Союза, умножили притягательную силу идей, на коих бы строился курс обновления социализма. Второй путь (как это и произошло внутри страны): поспешить дать отбой, ограничившись лишь немногими уступками новым реальностям мира, которые были сделаны на XX съезде КПСС (имею в виду «освящение» до тех пор крамольных идей о возможности избежать войны, о возможности мирного перехода к социализму и признании разных путей его строительства и некоторых других). Но в этом случае возникала необходимость по мере сил удерживать партии от более глубокого переосмысления идеологических проблем, политики и тактики. И пытаться одновременно как-то вновь «организовать» международное коммунистическое движение, в определенной мере его «дисциплинировать». К сожалению, был избран второй путь. Он не мог принести и не принес желаемого успеха. Хотя, честно говоря, я не уверен, что объективные условия и так называемые субъективные факторы, то есть личные качества Хрущева и положение в руководстве страны, открывали тогда возможность иного выбора. Конечно, даже считая этот иной выбор предпочтительным, никак нельзя сбрасывать со счетов некоторые положительные моменты первых международных совещаний коммунистических и рабочих партий (тем более что они последовали за роспуском Коминформа и начались как раз с 1956 года) и создания в 1958 году международного марксистского журнала «Проблемы мира и социализма». Но остается фактом, что нарастания трудностей в коммунистических партиях этими мерами остановить не удалось, как не удалось полностью преодолеть и наш великодержавный (в данном случае правильнее было бы сказать «великопартийный») подход к другим компартиям, как и сектантство и догматизм в решении проблем, с которыми сталкивалось мировое коммунистическое движение.
Пожалуй, наиболее пагубные последствия такого выбора были связаны с тем, что трудности в коммунистическом движении помогли склонить Н.С. Хрущева к тому, чтобы замедлить, а не ускорить преодоление сталинизма, осуществление реформ, и прежде всего демократизацию политической и общественной жизни страны.
Мне довелось быть свидетелем и того и другого – консерватизма официальной общественной науки и в то же время первых попыток ученых вырваться из его оков, попыток преодолеть старые схемы и теоретические извращения, которые насаждались силой принуждения и страха. А также, конечно, и силой невежества – оно к тому времени стало отличительной чертой целого поколения лидеров обществоведения практически во всех его областях.
Все это я живо помню, поскольку с осени 1953 года начал работать в академическом журнале «Вопросы философии». Журнале своеобразном, созданном с началом послевоенных проработочных кампаний взамен закрытого еще в 1944 году журнала «Под знаменем марксизма», притом с явной задачей «идеологического надзора» не только за философией, но и за другими науками. Собственно, в значительной мере это отражало и функции самой философской науки в сталинскую пору, функции, помимо всего прочего, своеобразного «идеологического полицейского», обеспечивающего должную правоверность, ортодоксальность всех наук, теории, духовной жизни общества в целом.
Очень активно занявшись выполнением этой функции, а также наведением «порядка» в собственном философском доме (там грызня шла непрерывная), работники этой, как и других общественных, науки сами погрязли в непроходимом догматизме и начетничестве, не смолкающей апологетике «великого теоретика» Сталина: бесчисленное количество статей, брошюр и книг было, в частности, выпущено о той «революции», которую произвели в философии, во всей марксистской теории сталинские изыскания по языкознанию. Ну и, конечно, велась яростная, просто оголтелая критика западной философии. Притом на крайне низком уровне, когда критика просто сводилась к брани и оскорблениям.
Мне попалась не так давно на глаза ничем не выдающаяся, но очень типичная в этом отношении статья, опубликованная в девятом номере журнала «Большевик» (так тогда назывался «Коммунист») за 1951 год, посвященная разбору книги Мориса Корнфорта «В защиту философии». Вот в каких выражениях говорилось там о западной философии: философия современной империалистической буржуазии находится в состоянии деградации и маразма, влачит отвратительное, грязное существование, что отражает всю глубину падения разлагающейся буржуазии. А дальше шли бесконечные ярлыки: отравление человеческого сознания ядом ненависти к человечеству, расизма, космополитизма, раздувание военного психоза и антикоммунистической истерии, пропаганда мистицизма и иррационализма, оправдание самых зверских фактов подавления всего передового и прогрессивного. Позитивистская философия – насквозь реакционна, пережевывает двухсотлетней давности идейки английского попа Беркли. «Логический анализ» «философского мракобеса» Бертрана Рассела – не что иное, как очередной вариант субъективного идеализма, давно уже выброшенного на свалку истории.
Американский философ, основоположник прагматизма Джон Дьюи характеризовался в «Кратком философском словаре» как реакционный буржуазный американский педагог, закоренелый идеалист, идеологический оруженосец американского империализма, стремящегося к мировому господству, участник грязных клеветнических кампаний против Советского Союза.
Впрочем, стоит ли удивляться! Почти в таких же выражениях наши философы долгое время вели «научную полемику» друг с другом, с оппонентами из своей среды, навешивая им самые невероятные обвинения и ярлыки. Так стоит ли стесняться с «инакомыслящими» из числа иностранцев?
После смерти Сталина ветры перемен, конечно, донеслись и до философской науки. Но она оказалась весьма устойчивой против них, зарывшись в долговременных огневых позициях сталинизма. Консервативное руководство Института философии (директором его был тогда П.Н. Федосеев) и редакторы журнала «Вопросы философии» (вначале Ф.В. Константинов, а затем М.Д. Каммари) всеми силами «держали фронт», опираюсь при этом, конечно, на соответствующие отделы ЦК КПСС. Но делать им это становилось уже все труднее.
Естественно, что немалую роль в первых телодвижениях, давших сигнал о некотором оживлении на философском фронте, сыграл именно журнал – у книг длиннее производственный процесс и больше инстанций, на которых их легче остановить. Способствовало этому и то, что журналу повезло с некоторыми членами редколлегии (из них я особо выделил бы Б.М. Кедрова, а также тогдашнего ответственного секретаря М.В. Сидорова). К поиску нового были готовы и многие еще молодые тогда сотрудники редакции (среди них Э.А. Араб-оглы, А.Л. Субботин, Н.Н. Козюра и некоторые другие). Кто не поленится заглянуть в журнал тех лет – пожалуй, с середины 1954 года, – найдет там уже ростки творческой мысли. Выходит ряд статей, критикующих работы «официального» философа Г.Ф. Александрова (в частности, «Диалектический материализм» и «Историю философии», которые он редактировал) за «нигилистическое отрицание значения буржуазных философов», за то, что все творцы великих философских систем прошлого изображаются им просто как идеологи эксплуататорских классов, заботящиеся лишь о защите существующего строя.
В 1955 году дискуссия по проблемам философской науки завершилась полной победой тех, кто решительно отверг и заклеймил как вылазку реакционеров попытки философов А.А. Максимова и Р.Я. Штейнмана, физика И.В. Кузнецова и ряда других авторов объявить теорию относительности несовместимой с марксизмом, повторить в физике то, что сделали Лысенко и Презент в генетике. В 1956 году кибернетика, которую раньше клеймили как буржуазную псевдонауку, была, так сказать, полностью «реабилитирована», признана. На страницах журнала начали наноситься первые удары по лысенковщине (вскоре ее критика, к сожалению, вновь была напрочь запрещена), делались попытки узаконить, легитимизировать социологию. В журнале начали появляться новые имена, среди них – Е.У. Плимак, Ю.Ф. Карякин, Э.В. Ильенков, А.А. Зиновьев, Мераб Мамардашвили и ряд других.
Примерно так же обстояло дело и в других общественных науках. Не очень скоро, но в них все же начинались дискуссии, борьба мнений, рожденная различием взглядов и позиций, столкновением нового со старым. Однако философии (как, впрочем, и истории, политэкономии, науке о государстве и праве) суждено было еще долго оставаться в целом прежней. Три года поверхностной, то и дело одергиваемой либерализации не могли вспахать, сделать плодородным поле, которое почти тридцать лет утаптывалось мощью государственной и партийной власти, тяжеловесными катками низменных страстей карьеристов, честолюбивых невежд и фанатичных недоучек.
Слушая тогда рассказы маститых философов об истории этой науки с начала тридцатых годов, я невольно вспоминал библейские строки: «У Еноха родился Ирад; Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусаила; Мафусаил родил Ламеха…» и т. д., и т. п. (Быт., 4: 18). Только здесь не рождали, а уничтожали. А.М. Деборин и его сподвижники согнали с общественной сцены своих предшественников. А П.Ф. Юдин и М.Б. Митин (опять же со своими сподвижниками) ликвидировали «меньшевиствующих идеалистов» – деборинцев (в основном физически, при помощи доносов в органы госбезопасности: отнюдь не мифом была знаменитая юдинская записная книжка, куда этот «лидер» философской мысли записывал имена тех, кого «надо посадить», и неизменно быстро приводил свои приговоры в исполнение). А выдвинувшиеся перед самой войной Г.А. Александров и его группа оттеснили «юдинцев-митинцев» (а некоторых членов этой группы сумели и посадить), чтобы, в свою очередь, стать жертвой новых фаворитов, диктовавших очередную моду в философии…
И так обстояло дело во многих общественных науках. «Научные школы» возникали не на базе новых концепций, идей, теорий, а на базе разоблачений, уничтожающей критики, разгрома предшественников – часто своих учителей. Осколки разных групп и периодов этого «слоеного пирога» могли объединиться лишь на платформе отчаянного сопротивления возврату к настоящей науке, к творческому труду. Ибо к нему они были неспособны, этому были, как говорится, не научены. Может быть, потому так трудно, натужно шел процесс возрождения общественных наук?
Но он все же начался. И, возвращаясь к тем временам, я бы решился на такой вывод: к середине пятидесятых годов наше общество несомненно стало более зрячим, трезвее смотрело на себя, освободилось от некоторых иллюзий. Люди начинали думать. Многие ждали и надеялись. Конечно, разные люди на разное, но в целом зрело ощущение необходимости и приближения перемен.
Вместе с тем старое лежало настолько толстым пластом, что XX съезд КПСС, речь Н.С. Хрущева о культе личности Сталина, пожалуй, большинством советских людей были восприняты как гром среди ясного неба, стали сенсацией, глубоко потрясшей партию, все наше общество.
Слухи об этой речи разнеслись по Москве моментально. Подробности, притом абсолютно достоверные, я узнал в тот же день – от академика Юрия Павловича Францева, присутствовавшего на съезде. В то время он работал заместителем главного редактора газеты «Правда», вел в ней международную тематику. Одновременно был членом редколлегии журнала «Вопросы философии», где курировал отдел зарубежной философии и идеологии, в котором работал и я.
Пригласил он меня, чтобы поговорить. И разговор состоялся откровенный, тем более что нас связывала не только работа, но и давнее знакомство – с того времени, когда я учился в Институте международных отношений, а он был его директором. Для тогдашних студентов Ю.П. Францев, замечу попутно, был фигурой почти легендарной – рафинированный интеллигент, что среди людей этого ранга становилось явлением все более редким, видный ученый-египтолог и историк философии – и в то же время человек, уверенно чувствующий себя в политике. Он имел репутацию демократа для студентов и строгого, придирчивого и отличающегося злым языком начальника для преподавателей. Биография Францева складывалась непросто, жизнь его немало корежила, ломала, заставляла приспосабливаться, особенно когда из института его перевели в МИД СССР заведующим отделом печати – при очень недобром министре А.Я. Вышинском и к тому же на место только что арестованного Зинченко.
В тот вечер, рассказывая о речи Н.С. Хрущева, Юрий Павлович вопреки вполне заслуженной славе скептика и даже, может быть, не вполне заслуженной – циника был искренне взволнован, мало того – ошарашен. Мне запомнились его слова, показавшиеся неожиданными: «Я мог думать, что это когда-то произойдет, должно произойти, но никогда не ожидал, что до этого доживу». Францев был довольно одиноким человеком, почти не имел, исключая жену, друзей и, наверное, испытывал потребность с кем-то поделиться переполнявшими его впечатлениями и эмоциями – потому, видимо, и пригласил меня в тот вечер. Пересказывать то, что он говорил, сейчас, когда «секретная речь Хрущева» опубликована, не имеет смысла, но мне запомнилось, что в ходе разговора собеседник несколько раз переходил почти на шепот – такой страшной ему по привычке казалась правда о Сталине. Хотя удивить вроде бы она уже не должна была. Я, помнится, задал ему вопрос: знал ли он о том, о чем сказал Хрущев, раньше? Он ответил, что знал. «Обо всем?» – «Пожалуй, обо всем, кроме разве что некоторых деталей».
На следующий день о том, что «Хрущев разоблачил Сталина», говорила вся Москва. А еще пару дней спустя – вся страна. И хотя основные положения речи для всех, кто интересовался политикой, три года спустя после смерти Сталина, казни Берии, многих разоблачений и реабилитаций не могли быть такой уж неожиданностью, общее состояние иначе, чем шоком, не назовешь. Оказалось, что то, о чем ты догадывался, а в последние годы в общем-то даже знал, обсуждал в кругу близких друзей, воспринимается совершенно иначе, когда зачитывается с трибуны партийного собрания (а речь Хрущева вскоре начали читать во всех первичных парторганизациях).
Оглядываясь назад, понимаешь, что XX съезд, сказав вслух правду о многом, не столько дал нашему обществу ответы, сколько поставил перед ним важные, непривычные вопросы – и в этом его историческое значение. Ответов тогда ни у кого не было, важно было со всей остротой поставить главный вопрос – о необходимости перемен, поиска новой модели социализма (или в качестве единственной альтернативы – отказ от него), – о чем-то другом тогда еще мало кто мог думать. Но для того, чтобы убедительно этот вопрос поставить, надо было сказать жестокую правду о прошлом. Разоблачение Сталина, его преступлений было самым эффективным, что в этом плане мог сделать Н.С. Хрущев.
Другое дело, что после его доклада (не побоюсь сказать – исторического доклада, хотя Хрущев был не во всем последователен и до конца правдив) далеко не все пошло в правильном направлении. На то, наверное, были свои причины.
Во-первых, объективные. Сталинщину, ее наследие, как потом все убедились, можно было преодолеть лишь в борьбе – длительной, острой, охватывающей самые разные стороны общественной жизни. Даже самый совершенный доклад, самое продуманное решение съезда не могли заменить, даже предвосхитить эту борьбу, огромную работу по переделке и людей, и общества.
И во-вторых, причины субъективные. Положение в руководстве было таково, что за предыдущие три года партию, народ все же не удалось должным образом подготовить к крупнейшей политической акции, предпринятой на XX съезде КПСС, – к разрыву со сталинским прошлым, крутому повороту в политике. Видимо, по тем же причинам XX съезд не смог выдвинуть позитивную программу преодоления наследия сталинщины хотя бы на первые годы.
Ссылаясь на положение в руководстве, я имею в виду не только очевидный факт неприятия XX съезда и критики Сталина значительной частью членов политбюро (тогда называвшегося президиумом ЦК) – Молотовым, Маленковым, Кагановичем и некоторыми другими. Дело было в самом Хрущеве, в его позиции, в его непоследовательности. Истоки этой непоследовательности – вопрос, опять же вызывающий споры. В этой связи говорят, во-первых, о том, что Хрущев не мог быть последовательным, так как сам, как и все другие лидеры того времени, участвовал в репрессиях. Во-вторых, о том, что он нес на себе – и в себе – тяжкий груз убеждений, нравов, методов и подходов, которые иначе, как сталинскими, не назовешь. А в-третьих, о его личных недостатках – необразованности, импульсивности, грубости, неумении владеть собой.
Думаю, и то, и другое, и третье имело место и сказалось на политике. Но, мне кажется, была и еще одна важная причина, не позволившая руководству партии выработать последовательную политику десталинизации. Она относится к мотивам, которые толкали Хрущева к критике Сталина. Не вызывает сомнений, что жестокость, коварство, деспотизм Сталина отталкивали Хрущева, вызывали у него осуждение и даже отвращение. Было и чувство личной обиды за унижения, которые ему пришлось терпеть от Сталина, в том числе, я думаю, за подавляющий человеческое достоинство постоянный страх. Но я уверен, что присутствовал и еще один очень весомый мотив. Это – борьба за власть, в которой Н.С. Хрущеву противостояла старая сталинская «гвардия», прежде всего Молотов, Маленков, Каганович. А поначалу также Берия. Судьба Хрущева – свидетельство крайней остроты конфликта (в соответствии с действовавшей еще сталинской традицией поражение могло означать и физическую смерть – не только политическую). В этой трудной и опасной борьбе критика Сталина и сталинизма не могла не рассматриваться Н.С. Хрущевым как одно из его главных орудий, временами даже как самый крупный козырь.
Н.С. Хрушев за предыдущие три года физически убрал одного – Берию – и отодвинул еще двух своих соперников – Маленкова и Молотова, сняв с занимаемых постов и подвергнув очень жесткой критике в закрытых письмах ЦК КПСС, зачитывавшихся на собраниях первичных парторганизаций. Это сыграло немалую роль в решении выступить с разоблачением культа личности Сталина на XX съезде партии. Думаю (в какой-то мере это подтверждается воспоминаниями сына А.И. Микояна С.А. Микояна), что здесь Хрущев пошел против воли значительной части членов президиума, оказал на них давление, а возможно, даже далеко не все с ними согласовал, поставив их на съезде перед свершившимся фактом.
Насколько можно судить, критика культа личности Сталина была в руках Хрущева одним из важных инструментов в борьбе за политическое выживание и на июньском (1957) пленуме ЦК КПСС, последовавшем за драматическими заседаниями президиума ЦК, на которых против Хрущева высказалось большинство. Пленум охарактеризовал Молотова, Маленкова, Кагановича и, как тогда писали, «примкнувшего к ним Шепилова» как антипартийную группу, хотя примкнули к ним также Ворошилов, Булганин, Сабуров, Первухин. Документировать это предположение я не могу, поскольку не читал стенограмму этого архисекретного пленума, но в правильности самого предположения практически уверен.
Зато на XXII съезде КПСС линия Хрущева на то, чтобы использовать критику культа личности Сталина для борьбы со своими политическими противниками, проявилась совершенно неприкрыто и однозначно. Хотя в то время у многих вызвал некоторое удивление (у меня, не скрою, – приятное) тот упор, который без видимых причин был сделан на критику Сталина и его еще живых соратников в докладе и практически во всех выступлениях. Казалось бы, на XX съезде уже сказали, и, если иметь в виду самого Сталина, сказали больше. А что до Молотова, Маленкова и других членов антипартийной группы, то они уже были исключены из партии, политически и морально уничтожены. Зачем же делать это практически главным вопросом съезда? Объяснение нахожу лишь одно: Н.С. Хрущев опасался (может быть, даже имел на сей счет информацию), что члены антипартийной группы попытаются апеллировать к съезду, чтобы взять реванш за июньский пленум. Основанием могло послужить то, что они обратились к съезду с заявлением о восстановлении в партии. И это как раз и могло спровоцировать Хрущева на то, чтобы повернуть дискуссию на съезде в антисталинское русло. Что, в общем, по тем временам продолжающихся шатаний и неустойчивости в вопросе о Сталине было полезным и, мне кажется, затруднило попытки ряда консервативных деятелей уже после устранения Хрущева (в частности, на XXIII съезде партии) отменить решения XX съезда КПСС.
Какие есть основания считать: мотивы борьбы за власть играли большую, а может быть, и очень большую роль в решении Хрущева пойти на разоблачение того, что назвали культом личности Сталина, а на деле – его преступлений? По-моему, очень веские.
Среди них я назвал бы прежде всего очевидную непоследовательность самого Хрущева в критике сталинизма, его нескончаемые метания между разоблачениями творившихся тогда преступлений и рассуждениями о заслугах покойного «вождя». В том числе и прежде всего о заслугах «в борьбе с врагами партии», то есть именно в той области, где начались и обрели чудовищный размах преступления, обратившиеся в массовые репрессии и террор против своей же партии и своего народа. Соответствующие похвальные формулы вошли и в спешно подготовленное уже после опубликования «секретной речи Хрущева» газетой «Нью-Йорк таймс» решение ЦК КПСС «О культе личности Сталина и его последствиях», на долгие годы ставшее единственным каноническим документом на эту архиважную тему.
Колебания Н.С. Хрущева но этому вопросу были совершенно очевидны. И первое, в чем они проявились, – это в отсутствии четкой идеологической и политической позиции даже непосредственно после XX съезда партии. Хрущев все же мог и должен был ее сформулировать при всех противоречиях в руководстве. XX съезд дал ему огромную силу и авторитет. Между тем уже на партийных собраниях, посвященных обсуждению решений съезда, выявилось, что после первоначальной растерянности старые руководящие кадры в партийных органах быстро пришли в себя, постарались максимально ограничить воздействие идей съезда, а тех, кто воспринял XX съезд всерьез, хотел идти дальше, – примерно наказать в назидание другим. Сам же Хрущев в дни, когда вся страна и вскоре весь мир бурлили в острых дискуссиях, когда задавалось множество вопросов, остававшихся без официального ответа, отмалчивался, а иногда в мимолетном обмене репликами с иностранными журналистами даже позволял себе двусмысленные высказывания.
Не хочу, чтобы эти мои оценки были поняты как попытки принизить заслуги Н.С. Хрущева, тем более изобразить его беспринципным политиканом и интриганом. Таким он был не в большей мере, чем другие наши политики того нелегкого времени. Дело скорее в том, что во многих своих представлениях Хрущев был и не мог не быть истинным порождением сталинской эпохи. А она обязательно прививала политикам страх и заставляла их следовать определенным правилам самосохранения. Те, кто не обладал этими качествами, просто гибли уже на первых ступенях лестницы, которая вела к политической карьере.
Но я не могу не принять во внимание убежденности людей, в отличие от меня лично знавших Хрущева, что в своей критике Сталина, неприязни к нему он был искренен. И что природный крестьянский ум Н.С. Хрущева, а еще в большей мере, наверное, политический инстинкт нередко подталкивали его к решениям, которые объективно были направлены на развал сталинской системы. Эти решения часто были импульсивны, неуклюжи, плохо продуманы, но целью их было освободить общество от того, что неизбежно вело в перспективе к его параличу. Таким решением люди, лично знавшие Хрущева, с которыми я обсуждал эту проблему, считают, например, его пусть нескладную, но очень смелую попытку создать, по существу, две партии в нашей стране – «городскую» и «сельскую». Эта попытка могла рассматриваться не только как дилетантская импровизация, но и как вполне сознательный шаг к подрыву монополии всесильного бюрократического аппарата. Допускаю, что все так и было. Политика – это равнодействующая, которая складывается из множества приложенных сил и факторов.
И среди них я хотел бы назвать еще один.
У меня уже тогда закралось подозрение: не испугался ли и не растерялся ли после XX съезда КПСС Хрущев, увидев, что он сделал, каких духов разбудил? Сейчас я в этом уверен и считаю это одной из величайших ошибок Хрущева. В партии, народе была высечена искра надежды, пробуждены вера, даже искренний энтузиазм, энергия борьбы за очищение общества, за подлинно социалистические идеалы. К тому же XX съезд на какое-то время напугал, сковал сталинистскую бюрократию, подорвал позиции консерваторов. В этой уникальной ситуации на волне подъема наиболее активной, творческой части общества, используя пробудившуюся общественную энергию, можно было бы продвинуться далеко вперед – много дальше, чем удалось на практике. И уж во всяком случае, устранить элемент провокации: люди начали самостоятельно мыслить, говорить, писать, что думают, а уже через несколько месяцев их снова попытались загнать в тесные рамки предписанного сверху. А тех, кто был особенно активен, наказали, подвергли проработке. И уже к концу 1956 года все, казалось бы, вошло в старую колею.
Характерно, что Хрущев не решился (или не смог) опубликовать свой доклад на XX съезде в собственной стране – это было сделано лишь в годы перестройки, много лет спустя после его смерти. Есть версия, что ему не позволили сделать это раньше другие члены президиума ЦК. И потому он даже сознательно передал его подробное, почти дословное изложение для публикации на Западе через тогдашнего корреспондента агентства Рейтер Джона Ретти, на которого вывели человека, назвавшегося Костей Орловым, судя по всему работника КГБ (см. «Московские новости» от 11 июля 1990 года). Но ведь потом, скажем после июньского (1954) пленума ЦК, изгнавшего Молотова, Маленкова, Кагановича и ряд других деятелей из руководства партии (а затем – и из партии), Хрущев мог бы это сделать. Тогда ему уже никто не мог помешать. Но не сделал. Не сделал, скорее всего, потому, что боялся, не решался на этот важный шаг.
Осенью 1956 года, когда произошел откат, могло казаться, что все вернулось к старому. На деле, однако, в эту старую колею ничто по-настоящему войти не могло. Хотя сами попытки загнать только-только рождавшееся новое в жесткие рамки в основе своей старых воззрений сбили порыв, в значительной мере погасили энергию обновления. Сложилась нелепая ситуация своего рода идейно-политического «двоевластия», когда общество, долгое время приучавшееся к единомыслию, к тому, чтобы следовать четко заданной сверху линии, запуталось, смешалось, растерялось. В результате были потеряны и общественная энергия, и темп, и драгоценное время.
Размышляя уже потом о причинах такого поведения Хрущева, его растерянности, даже страха в момент его величайшего, по сути, исторического триумфа и невиданных возможностей, я относил их также за счет некоторых «внешних» обстоятельств. И прежде всего за счет осложнений, вызванных критикой культа личности Сталина в стране и за рубежом, накладывавшихся, судя по всему, на отсутствие четкой антисталинской позиции у самого Хрущева.
Если говорить об осложнениях в стране, то речь идет главным образом о «брожении», воспринятом в качестве оппозиционных настроений – особенно среди интеллигенции и молодежи. Хотя на деле, как правило, речь шла именно о попытках понять, осмыслить XX съезд, сделать из него должные выводы. Но Хрущева, не говоря уж о других руководителях, это, судя по всему, серьезно напугало. Наиболее наглядное подтверждение тому – его встречи с представителями творческой интеллигенции, многочисленные высказывания на сей счет, часто сталинистские по содержанию. И еще более разнузданные, чем у Сталина, по форме. (Я сознательно не касаюсь здесь трагедии в Тбилиси, где было применено оружие против демонстрации студентов в защиту Сталина, – это эпизод, хотя и очень печальный, но не укладывающийся в ясно выраженную тенденцию). В целом внутри страны ничего действительно способного послужить основанием для попятного движения и колебаний руководства не произошло. Главным внутренним источником этих колебаний было скорее сопротивление линии XX съезда со стороны консервативных сил общества, сопротивление, впрочем, понятное, даже неизбежное, а также неясная, можно даже сказать, двусмысленная позиция самого Хрущева.
Что касается событий за рубежом, то они вскоре приняли драматический характер.
В полосу острых трудностей вступили, в частности, коммунистические партии капиталистических стран. И это тоже понятно. Объективно получилось так, что Хрущев, по сути, подтвердил многое из того, что говорили об СССР и социализме враги коммунизма, но во что коммунисты не верили и, убежденные в своей правоте, оспаривали. В результате последовало разочарование многих коммунистов, отток из партии, отход значительной части сочувствующих, особенно из числа радикальной левой интеллигенции. В некоторых партиях усиливались немыслимая раньше тенденция критического отношения к КПСС и Советскому Союзу, стремление к идеологической, а во многом и политической самостоятельности, поиску новой тактики и т. д. В одних партиях происходили внутренние кризисы, откол каких-то фракций, в других – изменение общего их курса.
И находилось немало людей, в том числе внутри страны, которые возлагали вину за все это на Хрущева и XX съезд.
Это – очень серьезные обвинения, и они стали достаточно традиционным оружием консерваторов в тех ситуациях, когда политик, политическое руководство оказываются перед необходимостью исправлять допущенные в прошлом ошибки и тем более раскрывать преступления, что, естественно, вызывает соответствующую реакцию общественности. Вину за такую реакцию в подобных случаях пытаются возложить не на тех, кто ошибки и преступления совершал, а на тех, кто пытается сказать о них правду и их исправить. Так происходило и после XX съезда, хотя речь шла о неизбежной, рано или поздно должной наступить расплате за злодеяния Сталина и за то, что зарубежные коммунистические деятели столь упорно их не замечали, даже оправдывали или отрицали, считая (многие – искренне, кто-то – будучи обманутым), что все, в чем долгие годы обвиняли советское руководство, – пропагандистские измышления антикоммунистов.
Дело здесь осложнялось и тем, что измышления такие действительно фабриковались начиная с 1917 года, и это служит одним из объяснений недоверия иностранных друзей Советского Союза также и к достоверным сведениям о том, что делалось в СССР в тридцатых годах и позже, включая очевидные всем, неоспоримые факты. Ну а кроме того, у очень многих зарубежных коммунистов была святая, почти фанатичная вера в Советский Союз и в Сталина, нередко благородная по мотивам, но в принципе чуждая марксизму («Все подвергать сомнению!» – забытый девиз Маркса).
Она, эта вера, утвердилась в сознании тысяч и тысяч людей, в том числе честных, умных, подчас выдающихся. На то конечно же были свои исторические причины. Такие, как катастрофа Первой, а затем Второй мировой войны, ужасы фашизма, тяготы «великого кризиса» 1929–1932 годов. Все это порождало у левой зарубежной общественности и в рабочем движении страстное желание, даже жизненную потребность иметь надежду на светлое будущее. Для очень многих легче всего ее оказалось тогда обрести в лице Страны Советов, а потом незаметно делался следующий шаг: надежда на светлое будущее связывалась с именем ее «вождя». И кстати, надежда на Советский Союз, если быть объективным, вовсе не была только иллюзией или обманом. СССР был главной антинацистской силой, он сыграл решающую роль в разгроме фашизма во Второй мировой войне, спасении Европы от нацистского рабства.
Безусловно, сегодня, много лет спустя, можно бросить зарубежным коммунистам, особенно их руководителям, упрек за слепую веру, которая дорого обошлась прежде всего самим их партиям. (Я здесь не говорю о тех зарубежных коммунистических деятелях, которые сознательно участвовали в создании культа личности Сталина и даже в его преступлениях, – к сожалению, были и такие.) И в конечном счете вера эта не только помогала (чего тоже нельзя отрицать – вспомним движение «Руки прочь от Советской России!», ускорившее прекращение интервенции сразу после революции 1917 года), но и мешала нам, устранив из нашего политического процесса важный фактор – общественное мнение коммунистов, который в какие-то периоды, возможно, мог сдерживать Сталина.
Но не менее важно видеть и объективные причины этих заблуждений. Основная тяжесть ответственности за них не на зарубежных коммунистах, а на тех, кто совершал эти преступления. Огромна вина Сталина и его окружения не только перед зарубежными коммунистами, но и перед рабочим движением и левыми политическими движениями и силами мира. Вина за то, что он творил в стране, компрометируя социализм, грубо пренебрегая международной ответственностью руководства государства, называющего себя социалистическим. И за то, что творил в мировом коммунистическом движении при помощи репрессий (их жертвами стали многие деятели Коминтерна и даже целые партии, в частности польская), интриг и оглушающей пропаганды, насаждая там сектантство, авторитарные порядки, слепое послушание и культ своей личности.
Мне довелось знать немало зарубежных коммунистов, среди них у меня есть друзья, и я хорошо понимаю те трудности и проблемы, с которыми они столкнулись после XX съезда КПСС, а затем и в годы перестройки. Потому я остановился на них подробнее.
Но вернемся в год 1956-й. Тогда ситуация, сложившаяся внутри страны и за рубежом, оставляла, как мне кажется, перед Хрущевым два выхода. Один заключался в том, чтобы смело идти вперед, – с одной стороны, признав полный суверенитет, дав полную самостоятельность каждой партии в поиске путей выхода из трудностей, с которыми она столкнулась, а с другой – сосредоточившись на смелых внутренних реформах, которые подняли бы авторитет КПСС и Советского Союза, умножили притягательную силу идей, на коих бы строился курс обновления социализма. Второй путь (как это и произошло внутри страны): поспешить дать отбой, ограничившись лишь немногими уступками новым реальностям мира, которые были сделаны на XX съезде КПСС (имею в виду «освящение» до тех пор крамольных идей о возможности избежать войны, о возможности мирного перехода к социализму и признании разных путей его строительства и некоторых других). Но в этом случае возникала необходимость по мере сил удерживать партии от более глубокого переосмысления идеологических проблем, политики и тактики. И пытаться одновременно как-то вновь «организовать» международное коммунистическое движение, в определенной мере его «дисциплинировать». К сожалению, был избран второй путь. Он не мог принести и не принес желаемого успеха. Хотя, честно говоря, я не уверен, что объективные условия и так называемые субъективные факторы, то есть личные качества Хрущева и положение в руководстве страны, открывали тогда возможность иного выбора. Конечно, даже считая этот иной выбор предпочтительным, никак нельзя сбрасывать со счетов некоторые положительные моменты первых международных совещаний коммунистических и рабочих партий (тем более что они последовали за роспуском Коминформа и начались как раз с 1956 года) и создания в 1958 году международного марксистского журнала «Проблемы мира и социализма». Но остается фактом, что нарастания трудностей в коммунистических партиях этими мерами остановить не удалось, как не удалось полностью преодолеть и наш великодержавный (в данном случае правильнее было бы сказать «великопартийный») подход к другим компартиям, как и сектантство и догматизм в решении проблем, с которыми сталкивалось мировое коммунистическое движение.
Пожалуй, наиболее пагубные последствия такого выбора были связаны с тем, что трудности в коммунистическом движении помогли склонить Н.С. Хрущева к тому, чтобы замедлить, а не ускорить преодоление сталинизма, осуществление реформ, и прежде всего демократизацию политической и общественной жизни страны.