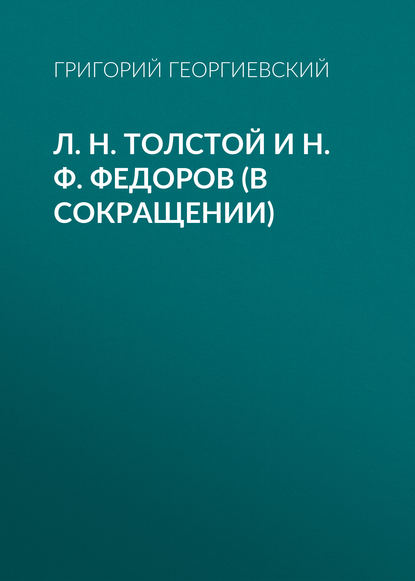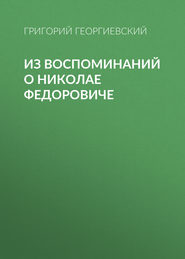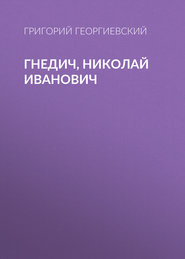По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Л. H. Толстой и Н. Ф. Федоров (в сокращении)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мало знаю я людей, которые отрицательно относились к Николаю Федоровичу. Это были исключительно узкие чиновники, которые не одобряют все, что не вмещается в рамки уставов и инструкций. На этой почве у Николая Федоровича в жизни довольно было недоразумений. Достаточно сказать, что, получив высшее образование в Одессе и сделавшись педагогом, он не мог подолгу ужиться ни в одном учебном заведении. С 1854 по 1868 год он был учителем истории и географии в разных уездных училищах, в Липецке, Богородицке, Угличе, Одоеве, Богородске, Подольске. Прибыв в Москву и посетив Чертковскую библиотеку, где в то время служили П. И. Бартенев и Н. П. Барсуков, Николай Федорович был замечен ими и остался здесь на службе, получил затем должность дежурного чиновника при читальном зале Румянцевского Музея. На этой должности он неизменно служил в течение почти 25 лет, разумеется, потому, что здесь его ценили и любили, хотя в нем и не укладывалось обычное понятие о чиновнике. ‹…›
Если Николай Федорович не держался строго правил, которые мешали ему трудиться сверх нормы, то, с другой стороны, он был беспощадным исполнителем и контролером за точностью в исполнении тех правил, которые оберегали общественное достояние и обеспечивали его наилучшее использование. Так, во всю жизнь он не только никому не дал на дом ни одной музейской книги, но и сам ни разу не воспользовался этим своим правом. Когда же он увидел, что новый библиотекарь Музея, профессор Н. И. С., широко пользовался сам музеискими книгами и не препятствовал другим брать их домой, Николай Федорович, не находя на привычных местах самых необходимых книг, ушел в отставку с пенсией в 17 р. 51 к.
Я не буду приводить примеров необыкновенного уважения Николая Федоровича к книгам и того разнообразия вопросов, в которых Николай Федорович мог руководить даже специалистов. Эти примеры я уже приводил в печати, хотя и не под своей фамилией.
Обширные знания и беспримерная осведомленность в текущей литературе и в состоянии Румянцевской библиотеки, какими обладал Николай Федорович, давали возможность Музею ежегодно составлять такие требования на иностранные издания для пополнения библиотеки, которыми восхищались даже за границей. Однажды директор Дашков, будучи за границей, зашел в книжный магазин постоянного музейского поставщика. Когда в магазине узнали посетителя, то стали настойчиво упрашивать поскорее прислать списки новых изданий, необходимых для пополнения библиотеки. Дашков очень заинтересовался побуждением, заставившим фирму просить об ускорении требования, и узнал, что по списку Румянцевского Музея фирма рассылает новые издания всем своим клиентам, среди которых главное место занимают университеты и другие ученые учреждения заграницы.
Эти богатые знания добыты Николаем Федоровичем путем непрерывного тяжелого труда. Он начинал свой трудовой день со светом и со светом заканчивал его. Иронизируя над современными заботами об установлении восьмичасового труда, или, как он выражался, «шестнадцатичасовой праздности», он всю жизнь только расширял свой труд. Первым придя в Музей, пока не начинался официальный день, он подыскивал затребованные книги, рылся в каталогах и библиографических пособиях, бегом, несмотря на свои 70 лет, мчался по библиотеке за книгами, пополнял свои знания и читал новые книги. Замечательно, что для чтения на дому он всегда подписывался в платных библиотеках, вносил ежемесячно там положенную сумму и оттуда брал себе книги: книги Румянцевской библиотеки были для него неприкосновенны, и ими он пользовался только в помещениях самой библиотеки.
Сам по себе больной старец, он не знал устали за работой. Вот замечательный факт: начавши свой трудовой день, он ни разу во всю жизнь не садился до окончания своего рабочего дня. Когда же болезнь ног вынуждала его искать посторонней опоры, он позволял себе подставить к больной ноге стул и становился коленом больной ноги на этот стул. Другая нога в это время должна была продолжать свою обычную службу стоя.
Все это: и личный аскетизм, и беспримерное бескорыстие, и сверхурочный добровольный труд, и исключительная начитанность – лишь одна сторона в замечательной личности Николая Федоровича. Правда, она самая заметная и всем доступная, а потому и самая популярная. Но рядом с этим Николай Федорович был и глубоким мыслителем, философские воззрения которого приводили в восторг и Достоевского, и В. С. Соловьева. Перед жизнью его, перед единством мысли и дела, которым всегда отличался Николай Федорович, преклонился и граф Л. Н. Толстой.
III
Николай Федорович уже давно стал определенной и яркой личностью. Его мировоззрение сложилось в стройную и законченную систему. Его жизнь не знала и не имела других форм, кроме строжайшего следования своим убеждениям, кроме полного и беспрекословного воплощения и осуществления руководящих взглядов его философии, воплощения во всем, до мелочей, и сурового до аскетической нищеты и самозабвения. Это был глубокий мыслитель, мудрость которого оправдывала себя не только в логической стройности системы, но и в высоте его взглядов и в безукоризненной чистоте его жизни… Его жизнь была точным зеркалом его убеждений. Достаточно было видеть Николая Федоровича и наблюдать его жизнь, чтобы узнать его философию, оценить достоинство руководящих им идеалов и преклониться перед единством мысли и воли в этом необыкновенном человеке, перед постоянным взаимодействием между его убеждениями и действиями. Все в нем отображало его идеалы, вся жизнь его была неустанным служением им, и он не знал иных поступков, кроме тех, которые вызывались его высокой моралью. «Святой старец» – вот общее признание, невольно создававшееся даже при поверхностном знакомстве с Николаем Федоровичем.
В это время граф Л. Н. Толстой только приступил к выработке своего собственного мировоззрения. Не обладая глубоким и разносторонним образованием, Толстой не испытал и жгучей, неодолимой потребности в коренной ломке всего строя своей жизни. Поэтому процесс выработки миросозерцания у него шел особым, рассудочным путем, без влияния на жизнь и без взаимодействия с ней и с таким слабым отражением идей в поступках, что весьма нередко жизнь его противоречила его словам и его учению. Процесс мысли и процесс воли у него не всегда совпадали, а иногда и резко противоречили друг другу.
Неудивительно, что в Николае Федоровиче Толстого прежде и больше всего поразили цельность личности и единство и неразрывность мысли и воли. Вот почему Толстой, после первого же знакомства своего с Николаем Федоровичем в 1881 году, записал в дневнике удивление Николая Федоровича по поводу призыва Толстого к исполнению заповедей: «Исполнять? Это само собою разумеется».
В том же своем дневнике Толстой так передал первое свое впечатление: «Николай Федорович – святой. Каморка. Нет белья, нет постели. Не хочет жалованья».
Тогда же в одном из писем своих Толстой так охарактеризовал Николая Федоровича: «Он по жизни самый чистый христианин. Когда я ему говорю об исполнении Христова учения, он говорит: „да это разумеется“, и я знаю, что он исполняет, всегда весел и кроток».
Своему другу А. А. Фету (Шеншину) Толстой говорил о Николае Федоровиче:
– Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком. Эти отзывы чрезвычайно характерны для самого Толстого. Они обнаруживают, что Толстой в Николае Федоровиче прежде всего замечал и ценил то, что действовало на чувство – наружность и образ жизни Николая Федоровича.
Завязавшееся знакомство повлекло за собою частые и продолжительные, а иногда и очень горячие беседы в крохотной «каморке» Николая Федоровича. Сюда по вечерам к гостеприимному хозяину собиралось иногда человека 4-6 гостей, среди которых были и Толстой и Влад. Серг. Соловьев. Разговоры нередко переходили в споры. Центром и бесед, и споров был, конечно, Николай Федорович. Его глубокомысленная речь, рассыпавшая мысли, как водопад брызги, его остроумные сближения и выводы, его беседы, поражавшие ученостью и образованностью решительно во всех отраслях знания, – такою удивительною осведомленностью во всем, что собеседники называли Николая Федоровича энциклопедистом в самом широком смысле, – эти речи и беседы всегда служили зеркалом для гостей и собеседников Николая Федоровича. Рядом с ним сейчас же, как на весах, обнаруживалось достоинство и внутренний вес его знакомого.
Николай Федорович очень скоро заметил, что граф Л. Н. Толстой не блестел ни широтой образования, ни глубиной мысли.
Сколько раз, занимаясь собственным переводом Евангелия и выработкой своей веры, Толстой своими наивными вопросами, обращенными к Николаю Федоровичу, обнаруживал перед ним свою элементарную неосведомленность. Даже уже после того, как Толстой закончил печатание своих вероучительных и нравоучительных сочинений, был такой случай. Однажды Толстой пришел к Николаю Федоровичу и с полной откровенностью обратился к нему с просьбою:
– Николай Федорович, кто такой был Коперник? Говорят, у него была даже целая система. Правда ли это? Дайте мне что-нибудь почитать о нем…
Надо было видеть Николая Федоровича в такие минуты. От изумления он буквально замирал и несколько мгновений бывал недвижим. Однако и в такие минуты сознание долга и желание служить людям превозмогали все другие чувства, и Николай Федорович бегом бросался отыскивать нужные книги.
Николай Федорович в своей жизни не знал ни непоследовательности, ни компромиссов. Очень не одобрял он, когда замечал их и в других. Толстой в этом отношении давал богатую пищу для его остроумия.
Проповедуя заповедь о мире с людьми и о прощении обид, Толстой старался дать пример в собственном поведении и выполнял эту заповедь самым примитивным и общепринятым способом. Поспорив, например, с Николаем Федоровичем, даже поссорившись с ним вечером и уйдя от него в раздражении, он на другое утро сам приходил к Николаю Федоровичу и искал примирения. Николай Федорович всегда шел навстречу такому проявлению дружелюбия, но сам находил такое обнаружение любви и смирения весьма неглубоким, поверхностным и не достигающим цели. Он говорил:
– Мнимое примирение увековечивает вражду, скрывая ее. Такое учение и проповедует Толстой: поссорившись накануне, он идет мириться на другой день; он не только не предпринимает никаких мер к предупреждению столкновений, но, по-видимому, выискивает их, может быть, для того, чтобы потом заключить непрочный мир.
По поводу «животного критерия» Толстой говорил, что птица так устроена, что ей надо летать, клевать, ходить, соображать, и когда она все это делает, тогда она удовлетворена, счастлива, тогда она птица.
Николай Федорович очень не одобрял этой философии и говорил:
– Таково новоязыческое мудрование гр. Толстого, достоинство которого выразится несравненно яснее, если мы вместо птицы возьмем свинью или борова: свинья или боров так устроен, что ему необходимо постоянно жрать, предаваться сладострастию, пожирать даже своих детей, поросят, и когда он все это делает, он удовлетворен, счастлив, тогда он свинья, боров…
Также непонятна была для Николая Федоровича и непоследовательность Толстого в отношении к изображениям живописным и фотографическим: изображения, например, святых или иконы Толстой отвергал со всею силою отрицания, доходившею до ненависти, а свои собственные изображения не только допускал, но и содействовал их появлению и распространению, с удовольствием позируя и перед художниками, и перед фотографами. По этому поводу Николай Федорович писал:
«Наиболее почитаемое наиболее ненавистно Толстому: ненавидит он чтимые русским народом иконы, а наибольшую ненависть питает он к иконе, которую наиболее почитают, – к иконе Иверской Божией Матери, называя ее в своей ненависти даже злою, и, конечно, потому, что, признавая за собою только право на всеобщее почитание, он не хочет с кем-либо делить его; отсюда и то, что, отвергая почитание икон, священных изображений, – свои изображения, свои иконы Толстой распространяет всюду, так что если бы собрать все разнообразные иконы Толстого, – а это и будет когда-либо сделано, – получится громадный иконостас».
Уже после того как Толстой выработал свою веру, напечатал свое сочинение «В чем моя вера» и осудил и отверг клятву и присягу, однажды он пришел, совсем не в урочное время, к Николаю Федоровичу в каталожную Румянцевского Музея. Николай Федорович редко бывал один, и на этот раз с ним были его сослуживцы, и между ними Д. П. Лебедев. Неожиданное появление Толстого и какая-то торопливость в его приемах обратили внимание. Толстой объяснил, что пришел за последними справками, так как уезжает в свой уездный город.
– Зачем? – резко спросил Николай Федорович, удивленный, очевидно, необычным временем отъезда.
Толстой, как всегда, наивно и искренно ответил:
– Вот, прислали повестку, меня выбрали присяжным заседателем… Должен ехать судить…
Общее изумление заставило Толстого умолкнуть и прервать свое объяснение. Николай Федорович не выдержал и засыпал вопросами:
– Как!.. Вы отрицаете присягу, и едете присягать?.. Вы отвергаете суд и будете судить?..
– Как же мне быть?.. Ведь я не по своей воле… Меня заставляют… Полиция отобрала подписку, что я явлюсь… – пробовал отговориться Толстой, понявший двусмысленность своего положения.
На выручку явился Д. П. Лебедев, доставший Свод законов и подыскавший статью, по которой налагался штраф за неисполнение обязанности присяжного заседателя. Толстой был очень рад узнать такой простой и легкий выход из своего затруднительного положения и, примирившись с мыслью уплатить штраф, ушел.
Через несколько дней после этого случая вся Россия читала телеграфные сообщения из Тульской губернии о том, что граф Л. Н. Толстой отказался исполнить обязанности присяжного заседателя как противоречащие его вере.
Не останавливаясь далее на частных случаях, выясняющих отношение Николая Федоровича к Толстому, я перейду к изложению основной разницы в их мировоззрениях.
Граф Л. Н. Толстой отрицал способность разума достигнуть познания и не признавал способности воли проявиться в деле.
Николай Федорович, горячий проповедник бесконечных и неограниченных возможностей, сокрытых в разуме и воле человека, остроумно называл учение Толстого призывом к недуманию и неделанию. Он предусмотрительно провидел, что отрицание теоретического разума вело к наукоборству и забастовкам учащихся, а отрицание разума практического неизбежно влекло за собой забастовки рабочих.
Николай Федорович верил в силу ума и силу воли человека и всю жизнь свою отдал неустанному и добровольному труду, проповедуя всеобщий труд со всеми и для всех… Естественно, что он не мог примириться с отрицанием того дела, которое он признавал единственным для всех и резко осудил все учение Толстого. По его взгляду, Толстой не понял призыва к миру и, прикрываясь учением о непротивлении – «этой самой злой насмешкой над христианством и над здравым смыслом», – обратил его в призыв не платить податей, не исполнять воинской повинности, что порождает нестроения, восстания, вражду, т. е. прямо противоположные цели. «До сих пор, – писал Николай Федорович, – неделание было теориею, но в забастовках оно переходит в дело и становится величайшим преступлением, ибо под неделанием, как и под непротивлением, скрывается восстание молодого против старого и господство худшего, нестесняющегося никакими средствами, над лучшим, желающим трудиться». Поэтому Николай Федорович часто называл Толстого «яснополянским фарисеем» и даже высказал чрезвычайно оригинальный взгляд на него. «В Толстом, – писал он, – который был другом крепостника Фета до самой смерти последнего и восхищался произведением этого писателя „Из деревни“, – в Толстом является мститель за отмену крепостного права: он жаждет разрушения государства и под маской крайнего либерализма призывает к отказу от воинской повинности, к неплатежу податей, без которых государство существовать не может…»
В итоге Николай Федорович считал всю философию Толстого лицемерием. По его словам, «обесценение жизни составляет первую основу философии Толстого, а лицемерие – вторую ее основу. Лицемерие составляет силу Толстого, как это было и у фарисеев. Наш век в лице Толстого имеет такого представителя, какого он достоин и с которым он вместе лицемерит, будто бы не замечая того, что скрывается под проповедью непротивления».
Последний конец всего учения Толстого приводил, по оценке Николая Федоровича, как раз к противоположному всего того, что в начале и на словах ставилось целью. «Когда, – говорил он, – к требованию разъединения, этому требованию Толстого и вообще нашего времени, кроющемуся под вопросами о свободе мысли, о свободе совести, то есть о свободе бесконечных блужданий, создающей чрезвычайное множество философских учений, одно другое опровергающих, – если к требованию о разъединении присоединить еще требование Толстого об объединении, об объединении на недумание и неделание, прямым приложением которого было приглашение к забастовкам, обращенное к студентам, а наконец и ко всем, – к забастовкам как „единственному средству спасения“, как это говорится в заглавии приглашения или прокламации, – тогда станет очевидным, что Толстой, сознательно или же бессознательно, требует уничтожения труда, как умственного, так и физического или механического, требует, следовательно, уничтожения разума, воли; и это согласно, конечно, с учением о нирване, о нирване уже не трансцендентной, а имманентной т. е. самими создаваемой». А это и есть «полное отрицание разума, воли, вообще – жизни. Вот явился наконец искупитель, спаситель, который хочет жизнью жизнь попрать и всем смерть даровать!»
Столь резкое расхождение в мировоззрениях, доходившее до взаимного исключения друг друга, делало самый разрыв между мыслителями уже только вопросом времени, но неизбежным. И этот разрыв между Николаем Федоровичем и графом Л. Н. Толстым наконец наступил, разрыв окончательный и бесповоротный, после которого и Толстой не пришел на другой день искать примирения.
Дело было в 1892 году.
Голодный 1891-й год Толстой провел среди голодающих, устраивая столовые и всячески помогая голодным пережить бедствие.
Николай Федорович очень сочувствовал помощи голодающим, но не верил искренности Толстого и опасался того, что Толстой принесет в деревню не мир, а вражду. Но и Николай Федорович не ожидал, чтобы Толстой открыто выступил с призывом к восстанию и междоусобию. А именно такой призыв к мятежу и междоусобию он усмотрел в известном письме Толстого о голоде, напечатанном в Лондоне. Тягчайшего преступления, чем братоубийство и призыв к нему, Николай Федорович не знал и, прочитав лондонское письмо Толстого, Николай Федорович в ужасе выкинул его автора и из своего сердца, и из своей памяти.
Вернувшись в Москву, Толстой поспешил зайти в Музей к Николаю Федоровичу.
Уже был четвертый час на исходе, и московские сумерки уже царили по залам и коридорам Музея. Солдаты уже затворили большинство ставней, и Николай Федорович пригласил меня, остававшегося с ним в каталожной, закончить занятия и уходить с ним. Едва мы повернули по коридору налево, как в глубине коридора я отчетливо увидел фигуру Толстого, торопившегося навстречу Николаю Федоровичу. Я передал Николаю Федоровичу свое наблюдение и сразу же был поражен неудовольствием, которого не скрыл Николай Федорович. Заложив руки за спину, он резко остановился, сказав:
– Что ему надо?