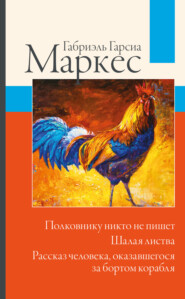По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Палая листва
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я вытягиваю ноги вместе и вижу свои черные блестящие ботинки. «У меня шнурок развязался», – думаю я и оборачиваюсь к маме. Она смотрит на меня и нагибается, чтобы завязать шнурок.
От маминой головы веет жарким тяжелым духом старого шкафа, запахом прелого дерева, вновь напоминающим мне о замкнутом чреве гроба. У меня спирает дыхание, мне хочется выйти, чтобы вдохнуть жаркий воздух улицы, и я прибегаю к своему крайнему средству. Когда мама выпрямляется, я шепчу ей:
– Мама!
– Да? – отвечает она с заметной лишь мне улыбкой.
Наклонившись к ней, к ее лоснящемуся от пота, цвета сырого мяса лицу и, дрожа, шепчу:
– Мне нужно на двор.
Мама окликает дедушку, что-то ему говорит. Я вижу его сощуренные неподвижные глаза за стеклами очков, когда он наклоняется ко мне и тихо говорит: «Ты же знаешь, что сейчас нельзя». Я выпрямляюсь и больше не произношу ни слова, не очень огорченный своей неудачей. Но время по-прежнему едва ползет. Вдруг мелькает что-то, потом еще и еще. Мама наклоняется ко мне и спрашивает:
– Прошло?
Произносит она это слово строго и резко, будто не спрашивает, а ругает. Живот у меня пуст, но от маминого тона будто тяжелеет, вздувается, и я, обозленный за все, в том числе и за ее резкость, нарочно отвечаю с вызовом:
– Нет, не прошло!
Схватившись обеими руками за живот, я уже готов затопать ногами (другое мое крайнее средство), но попадаю ногой в пустоту, отделяющую меня от пола.
Кто-то входит в комнату. Это один из дедушкиных людей в сопровождении полицейского и другого мужчины, в холщовых зеленых штанах, с револьвером на поясе, со шляпой с широкими загнутыми полями, которую он держит в руке. Дедушка поднимается ему навстречу. Человек в зеленых штанах кашляет в темноте, что-то говорит дедушке, снова кашляет. Сквозь кашель, он приказывает полицейскому отворить окно.
Деревянные стены выглядят хрупкими, будто сделанными из остывшей спрессованной золы. Когда полицейский ударил по щеколде прикладом ружья, у меня возникло чувство, что двери не надо будет открывать – дом весь обрушится, стены рассыплются бесшумно, как развалился бы на ветру пепельный дворец. И что со второго удара мы окажемся сидящими под открытым небом с обломками на головах. Но после второго удара окно распахивается и комнату заполняет свет – врывается, точно животное в распахнутую дверь, молча носится, принюхиваясь, бесясь, царапая стены, брызжа слюной, но потом смиряется и, забившись в самый дальний безопасный угол, затихает.
Как только открыли окно, предметы стали видны отчетливо, но лишь утвердились в своей странной нереальности. Мама делает глубокий вдох, протягивает мне руки и говорит:
– Хочешь, поглядим на наш дом из окна?
Поддерживаемый мамой, я смотрю в этот раз на селение так, будто вернулся из дальнего странствия. Вижу наш выцветший ветхий дом в тени миндальных деревьев; и мне чудится, будто я никогда не бывал в той зеленой приветливой прохладе, будто наш дом – тот, самый прекрасный, являвшийся мне в мечтах, которые вселяла в меня мама в часы моих ночных кошмаров. Мимо, не обращая на нас внимания, рассеянно насвистывая, проходит Пеле, соседский мальчишка, вдруг изменившийся до неузнаваемости, словно его только что остригли.
Тут подымается алькальд, потный, в расстегнутой рубахе, с безумным выражением лица. Он приближается ко мне, побагровев и будто заходясь в восторге от своего непреложного аргумента. «Мы не сможем удостоверить его смерть, пока не появится запах», – говорит он, застегивая рубаху, прикуривая сигарету, кивая на гроб и, должно быть, думая: «Теперь никто не посмеет сказать, что я нарушаю закон». Я смотрю ему прямо в глаза и чувствую в своем взгляде достаточно твердости, чтобы дать ему понять, что я проник в самую глубь его мыслей. Я говорю ему:
– Вы нарушаете закон, чтобы доставить удовольствие всем остальным.
А он, будто услышал именно то, что ожидал услышать, отвечает:
– Вы уважаемый человек, полковник, вы знаете, что я имею на это право.
Я говорю ему:
– Вы прекрасно знаете, что он умер.
Он отвечает:
– Верно, но, кроме всего прочего, я лишь чиновник. Единственным законным документом является свидетельство о смерти, подписанное врачом.
Я говорю ему:
– Если закон на вашей стороне, воспользуйтесь им, чтобы доставить сюда врача, который составит свидетельство о смерти.
Он, вскинув голову, но без высокомерия, спокойно, без малейшего признака слабости или замешательства говорит:
– Вы – уважаемый человек и знаете, что это было бы произволом.
Услышав это, я понимаю, что идиотизм его вызван не столько водкой, сколько малодушием.
Очевидно, что алькальд разделяет общую ненависть селения. Это чувство нагнеталось в течение десяти лет, с той бурной ночи, когда раненых притащили к его порогу и крикнули ему (потому что он не открыл, отвечал изнутри дома); ему крикнули: «Доктор, примите этих раненых, врачи не справляются»; дверь так и не открылась (раненые лежали перед ней): «Вы единственный врач, который остался, помилосердствуйте»; и он ответил (так и не отворив дверь), а толпе представлялось, что он стоял посреди комнаты, высоко подняв лампу, освещавшую его жесткие желтые глаза: «Я забыл все, что знал. Несите их куда-нибудь еще», – и остался за наглухо запертой дверью (потому что с тех пор дверь не открывалась никогда), в то время как ненависть росла, расползалась, превращалась в повальную эпидемию, которая уже не давала передышки Макондо до конца его жизни, и в каждом ухе продолжал звучать эхом приговор, выкрикнутый в ту ночь, – приговор, обрекавший доктора сгнить в этих четырех стенах.
Целых десять лет он не пил в общественных местах воду, боясь, что ее отравят, и питался овощами, которые со своей сожительницей-индианкой выращивал во дворе. И теперь селение чувствует, что пробил час ему самому отказать в милосердии, как он отказал в нем людям десять лет назад, и теперь Макондо, зная, что он умер (сегодня все проснулись с каким-то неизъяснимым чувством облегчения), готовился вкусить столь долгожданное и заслуженное удовольствие. Людей объединяло одно страстное желание: насладиться трупным запахом, доносящимся из-за дверей, которые в тот раз так и не открылись.
И мне начинает казаться, что я со своим чувством долга бессилен против ненависти, загнан в угол и приперт к стене всеобщей беспощадной закоснелой свирепостью. Даже церковь в этот раз оказалась не на моей стороне. Падре Анхель сказал:
– Я не смогу благословить похороны в освященной земле того, который повесился, в безбожии прожив шестьдесят лет. Господь и к вам будет благосклонен, коли вы воздержитесь от поступка, являющего собой не акт милосердия, но грех строптивости и непокорности.
Я сказал ему:
– Хоронить усопших, согласно Писанию, есть дело милосердия.
На что падре Анхель отвечал:
– Это так, но в данном случае совершать его подобает не нам, а санитарной службе.
И все-таки я пришел. Взял с собой четырех гуахиро, выросших у меня в доме. Принудил свою дочь Исабель сопровождать меня. Из-за этого поступок мой, как представляется, обрел более привычный, общепринятый, менее личностный и вызывающий характер – чем в том случае, если бы я просто взял бы и на себе поволок труп по улицам Макондо на кладбище. Всякого повидав на своем веку, я считаю Макондо способным на все. Но если они не способны на снисхождение ко мне, старику, полковнику республики, хромому, но с чистой совестью, надеюсь, они проявят благоразумие по отношению к моей дочери – хотя бы из-за того, что она женщина. Я сделал это не для себя. И не для упокоения усопшего или выполнения некоего священного обета. Я привел сюда Исабель не из малодушия, но из милости. А она привела сына (как я понимаю, по той же причине). И вот мы втроем несем сие тяжкое бремя.
Входя, я думал, что труп все еще подвешен под потолком, но индейцы опередили нас, положили его на кровать и даже обрядили в саван, надеясь, что все это дело займет не более часа. Я жду, когда внесут гроб, вижу, как дочь с ребенком садятся в углу и осматривают комнату, будто надеясь увидеть что-то такое, что объяснило бы поступок доктора. Секретер открыт, беспорядочно завален бумагами, но ни одна из них не написана его рукой. На секретере лежит рецептурный справочник, тот самый, что он привез к нам домой двадцать пять лет назад, вытащив его из огромного чемодана, в котором уместилась бы одежда всей нашей семьи. В чемодане, однако, лежали лишь две простые рубашки, искусственная челюсть, которая не могла принадлежать ему по той причине, что все зубы у него были в наличии и довольно крепкие, чей-то портрет и этот рецептурный справочник. Я выдвигаю ящики и везде нахожу лишь листы бумаги с напечатанными текстами, ничего, кроме старых и пыльных бумаг, и только внизу, в самом нижнем ящике – вставную челюсть, которую он привез двадцать пять лет назад, пожелтевшую от времени и ненужности.
На столике рядом с погасшей лампой нераспечатанные пакеты с газетами разного формата. Я открываю их. Они на французском, самые свежие – трехмесячной давности, датированные июлем 1928 года. Есть и другие, тоже не открытые: за январь 1927-го, ноябрь 1926-го, и самые старые – за октябрь 1919-го. Я думаю: «Вот уже девять лет, год спустя после объявления приговора, он перестал открывать газеты. Он отказался тогда от последнего, что его связывало с его землей и его соотечественниками».
Индейцы вносят гроб и кладут в него покойника. Мне вспоминается, как двадцать пять лет назад он появился в моем доме и подал рекомендательное письмо, написанное в Панаме и адресованное мне полковником Аурелиано Буэндиа, на исходе большой войны – генерал-интенданта Атлантического побережья. В темноте бездонного чемодана я нащупываю его жалкие пожитки. Чемодан не заперт, он стоит в углу, и в нем те же вещи, что он привез двадцать пять лет назад. Я их помню: «Две простые рубашки, челюсть, портрет и старый рецептурный справочник». Я собираю эти вещи, чтобы положить в гроб, пока его не закрыли. Портрет лежит на дне чемодана, почти на том же месте, где лежал в день приезда. Это дагерротип, изображающий военного с орденом. Я кладу портрет в гроб, кладу вставную челюсть и в последнюю очередь рецептурный справочник. Сделав это, подаю индейцам знак закрывать гроб. Думаю: «Теперь он снова отправляется в странствие. Самое естественное для него – взять в последний путь те же самые вещи, что были с ним в предпоследнем. По крайней мере нет ничего более естественного». И тут мне впервые за это время кажется, что покойник удовлетворен.
Я осматриваю комнату и замечаю на кровати забытый ботинок. Беру его, делаю своим людям знак, и они вновь поднимают крышку в тот момент, когда раздается гудок поезда, огибающего селение. «Половина третьего, – думаю я. – Два часа тридцать минут 12 сентября 1928 года; в 1903 году примерно в это же время он впервые сел за наш стол и попросил на обед травы». Аделаида спросила его: «Какой травы, доктор?» И он своим тягучим гнусавым голосом жвачного животного ответил: «Обыкновенной, сеньора. Какую едят ослы».
2
Действительность такова, что Меме нет в доме и никто не может сказать, когда она исчезла. Я видела ее в последний раз одиннадцать лет назад. Тогда она держала в доме на углу винную лавочку, которую спрос соседей исподволь превратил и в промтоварный магазинчик с разнообразным ассортиментом. Там все было в образцовом порядке, на своих местах – благодаря дотошному скрупулезному трудолюбию Меме, дни напролет обшивавшей соседей на машинке «Доместик», одной из четырех, имевшихся в селении, или стоявшей за прилавком, где обслуживала посетителей со своей индейской благожелательностью, запас которой не иссякал, одновременно открытой и сдержанной, – сложный замес простодушия и недоверчивости.
Я не виделась с ней с тех пор, как она исчезла, и, по сути, толком не знала, когда именно она поселилась с доктором на углу и как дошла до того, что стала любовницей человека, отказавшего ей в помощи, хотя оба делили кров моего отца: она – как прислуга, выросшая в доме, он – как вечный гость. Мачеха рассказывала мне, что доктор – человек недоброго нрава, и как он оправдывался перед папой, уверяя, что недуг Меме не опасен. Он заявлял это, не осмотрев больную и даже не выйдя из своей комнаты. В любом случае, даже если болезнь Меме и не была серьезной, он должен был помочь ей хотя бы из чувства благодарности за ту заботу, которой она окружала его все восемь лет, пока он жил у нас.
Не знаю, что именно там произошло, но знаю, что в одно прекрасное утро выяснилось, что Меме исчезла, и он тоже. Мачеха велела запереть его комнату и ни разу не упоминала о нем вплоть до нашего разговора с ней двенадцать лет назад, когда мы шили мое подвенечное платье.
Три-четыре недели спустя после ее ухода из дома Меме явилась в церковь к началу воскресной службы в шелестящем платье из набивного шелка и в нелепой шляпе, над которой возвышался букет искусственных цветов. Я так привыкла видеть ее у нас дома просто одетой, чаще босиком, что в то воскресенье, когда она вошла в церковь, не сразу узнала в ней нашу Меме. Она слушала заутреню, стоя впереди среди дам, манерная и чванливая под грудой своего нового барахла и сама какая-то новая – показушной дешевой новизной. Она преклоняла в первых рядах колени. И в молитвенной ее истовости, даже в манере креститься была вычурно-пошлая безвкусица, которую она, к замешательству тех, кто знал ее служанкой у нас в доме, и изумлению тех, кто видел ее впервые, внесла с собой в церковь.
Я (мне тогда было не больше тринадцати лет) недоумевала, с чем связано это превращение; почему Меме вдруг исчезла из дома и объявилась на воскресной службе в церкви, разряженная скорее не как сеньора, а как рождественские ясли, или как сразу три сеньоры, вырядившиеся к пасхальной службе, да хватило бы кружев, бисера и бижутерии еще и на четвертую. Когда служба закончилась, мужчины и женщины столпились у дверей, чтобы разглядеть ее, когда она будет выходить, они встали на паперти в два ряда напротив главного входа, и явно было что-то преднамеренно глумливое в их молчаливой торжественности, с которой они ее ожидали. Меме появилась на пороге, закрыла глаза и открыла их абсолютно синхронно с семицветным зонтиком. Она прошествовала в своем павлиньем наряде, на высоких каблуках между рядами мужчин и женщин, но один из мужчин сделал шаг вперед, и круг замкнулся, Меме, смутившись, попыталась высокомерно улыбнуться, но улыбка вышла фальшивая и под стать всему ее облику претенциозно-жалкая. Папа, потащивший меня в толпу, как только Меме появилась на пороге церкви с зонтиком, теперь мгновенно разомкнул ернический мужской круг и подошел к уже загнанно ищущей способ вырваться бывшей служанке. Он взял ее под руку, как настоящую сеньору, и, ни на кого не глядя, провел через площадь с тем надменным и вызывающим видом, который появляется у него, когда он поступает вопреки всем.
Но прошло еще время, прежде чем я узнала, что Меме стала сожительствовать с доктором. Тогда она открыла лавочку и стала уже постоянно ходить к обедне, как знатная сеньора, словно забыв о том, что случилось в первое воскресенье, и не заботясь о том, что скажут или подумают. Но два месяца спустя я ее в церкви уже не встречала.
Я вспоминала, каким был доктор, когда жил у нас в доме. Вспоминала его закрученные черные усы и вожделение, с каким он смотрел голодными собачьими глазами на женщин. Я никогда не приближалась к нему – быть может, оттого, что мне он казался странным животным, садившимся за стол после того, как все встанут, и жевавшим ту же траву, что и ослы. До папиной болезни, три года назад, доктор ни разу не выходил на улицу, с той самой ночи, когда он отказал раненым в помощи, как за шесть лет до того отказался помочь женщине, которая два дня спустя после этого стала его наложницей. Лавчонка закрылась еще до того, как селение вынесло доктору приговор. Но я знаю, что и потом Меме продолжала жить с ним, еще несколько месяцев или лет. Должно быть, она исчезла много позже; во всяком случае, гораздо позже стало известно об этом из пасквиля, появившегося на его двери. В нем сообщалось, что доктор лишил жизни свою любовницу из страха, что с ее помощью его отравят, и закопал у себя во дворе. А увиделась я с Меме накануне моего замужества, одиннадцать лет назад. Я возвращалась под вечер из церкви, и индианка, выйдя на порог лавки, веселым, чуть ироничным тоном сказала: