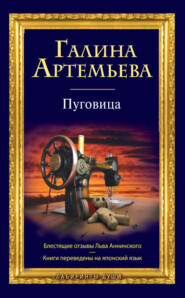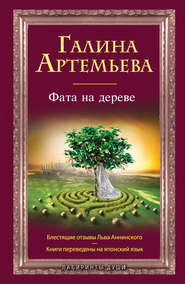По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Новый дом с сиреневыми ставнями
Серия
Год написания книги
2010
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Об этой догадке многократно и неуклонно сообщалось собственной внучке. Без малейших подозрений, что та может обидеться и чувствовать себя крайне дискомфортно от сравнения с врагом рода человеческого.
– Читай, Гитлер! Читай и запоминай!
Наконец сказка целиком размещалась в Таниной голове. Правда, гораздо медленнее, чем могла бы и должна бы. Однако результат был налицо!
– Ну! Что я говорила! И попугая можно выучить разговаривать, если очень постараться! Киш май тухес драй папир! Мазлтов! [10 - Поцелуй мою задницу через три бумаги! Поздравляю! (идиш).]
Бабушка своего добилась. Через пару лет Таня свободно общалась на немецком, как и на родном русском.
С идишем оставались неснятые вопросы. Например, не очень пристойное выражение «киш май тухес драй папир» было явно составлено безграмотно. Оно значило дословно: «поцелуй мою задницу… три бумаги». То есть врагу или просто чем-то досадившему в данный момент индивидууму предлагалось совершить поцелуй неприличного места ЧЕРЕЗ три бумаги. Тройной бумажный слой требовался, очевидно, чтобы поцелуй этот был все-таки кошерным. Чтоб не нарушить никаких правил гигиены. В этом было даже какое-то благородство: злейшего врага – и то! – не побуждали к антисанитарным действиям. Таню мучили чисто грамматические нюансы. Почему же был опущен предлог? Где этот «через»?
Бабушку спрашивать она не решалась. Догадалась сама. Немецкий, французский и другие языки учила бабушка по книгам, по правилам. А идиш впитала в себя из воздуха того самого маленького местечка, в котором родилась. Он был у нее не литературный, живой. Она хорошела и молодела, произнося свои дикие слова и пожелания.
Язык, унесенный ее мертвецами в братскую могилу.
Живой мертвый язык.
– Ду дарфшт нит волнений, [11 - Можешь не волноваться (идиш).] – заявляла Буся сыну Коленьке, когда тот пытался уговорить свою маму впихивать в Танину голову не так много знаний. – Гей к чогту, [12 - Иди к черту (идиш).] без тебя разберемся!
Она же лучше знала. Все и всегда.
И еще она умела пошутить. У нее было богатое воображение на изобретение шуток. И никакого – на предвидение их последствий.
Однажды у них в институте устроили учения по гражданской обороне. Римма Михайловна категорически возражала против собственного участия в этом карнавале. В конце концов, она фронтовичка и уж как-нибудь разберется в случае чего. Терять целый учебный и рабочий день на идиотизм! И все-таки начальство было непреклонно. Пришлось и ректору, и проректорам, и профессорам натягивать по команде противогазы. Разозленная Римма справилась с этой задачей быстрее и лучше всех. На раз-два-три. А потом, первая же и избавившись от мерзкого средства защиты, безудержно хохотала, глядя, на кого в противогазах похожи важные ученые мужи и дамы. Это надо было видеть!
Она умело сложила свой противогаз в холщовую сумку и пообещала вернуть его завтра, мотивируя задержку возвращения данного предмета необходимостью обучения домочадцев важному искусству напяливания на голову резиновой маски.
На самом деле ей приспичило пошутить.
У двери квартиры она, прежде чем нажать сильным пальцем на кнопку звонка – у них принято было не открывать двери своим ключом, а звонить и встречать у входа каждого вернувшегося домой, – так вот, прежде чем оповестить о своем приходе домочадцев, бабушка аккуратно надела противогаз.
И только потом просигналила: «Дзззззззззз! Я дома!!!!»
Ничего не подозревающая Таня, услышав типичный бабушкин звонок, побежала открывать. Следом поспевал дедушка.
Что тут скажешь?
«Долго над садом летал детский крик»…
Очень долго…
Даже «шестикрылый Серафим» нашел силы упрекнуть свою вторую половину, что не следовало бы, мол, так пугать ребенка.
Бабушка очень обиделась. Такую шутку не оценили!
Впрочем… Разве у Гитлера могло быть чувство юмора?…
Баба Нина
Если Буся воплощала собой стихию огня, то другая бабушка, Нина, являла собой земную стихию. А земля – какая? Ой – разная!
Твердая и сухая, если нет дождей.
Мягкая, теплая дарительница жизни, если о ней хорошо позаботятся и солнышко прогреет.
Вязкая, цепляющаяся почем зря к ногам во времена распутицы.
Могильно-ледяная и непробиваемая, если прохватит морозом.
У крестьянской девчонки Нинки была своя судьба, ничем не легче участи Рахили или жребия Серафима. Родившаяся на двенадцать лет позже отцовой матери, мамина мама огребла по полной программе: отца-бедняка, не так что-то сказавшего колхозному начальнику, уничтожили как кулака. И осталась жена «кулака» с десятью малолетками и старухой-свекровью «грызть землю». Потому что ничего им, вражьему семени, кроме земли, жрать не полагалось. То, что они выжили, все – от мала до стара, ни один не подох, как ни старалась народная власть, – было подлинным чудом. Каждый раз, когда полагалось «кулацким недобиткам» отдать богу душу, против чего иной раз они и не возражали, появлялась откуда-то помощь: то мешок полугнилой картошки оказывался у крыльца, то холстинка с серой мукой. Летом пускались они на поиски грибов и ягод, заготавливали все, что могли. Выживали зиму за зимой.
И – поднялись! Выучились, кто чему смог.
Нинка стала агрономом, орденоносицей. Заправляла в огромном подмосковном совхозе, снабжавшем самое главное начальство самыми лучшими продуктами. Все, что написал поэт Некрасов про «женщин в русских селеньях», было про бабушку Нину: высокая, статная, с огромной русой косой вокруг головы, она запросто остановила бы и коня на скаку, и все остальное по списку, что полагалось. Намучившись растить младших братьев и сестер в нечеловеческих условиях, Нинка родила себе на радость одну-единственную дочуру, выучила ее на доктора и строго-настрого заповедала: больше одного ребенка чтоб ни-ни! Не вздумай! Так Таня и получилась единственным дитем в семье. На все про все.
Бабушку Нину можно было называть как душе угодно: и бабулей, и бабой, и бабушкой. Она только радовалась. И распускала ребенка до неузнаваемости, как отмечала каждый раз ревнивая Буся.
Каждая из бабушек противоречила другой знаково и символически. В городе Таня была одета подчеркнуто строго, достойно. Кончик ее косы перехватывался черной аптечной резиночкой. Думать о красоте считалось стыдным и лишним. «Не родись красивой, а родись умной! – настоятельно требовала Буся. – Красота – была и нет. А ум всегда при тебе».
Баба Нина, напротив, во главу угла ставила красоту. «Красуйся, пока можешь, а там поглядишь!» – учила она, накручивая на внучкиной голове огромные банты: по одному с каждого боку да еще по одному на низ кос. Поверх сооруженного чуда повязывался платок немыслимой яркости. Банты торчали из-под него в разные стороны. Таня была загипнотизирована чувством собственной неотразимости. Бабушка брала ее за руку, и они шли по селу, а все почтительно здоровались и восхищались, какая у Нины Ивановны красивая внучка растет.
Учиться бабушка не заставляла.
– В школе учись, в школе всему научат. У меня – отдыхай!
Такая программа была по душе Тане, но забыть Бусю с ее заданиями на каникулы было себе дороже: вместо двух легких Гитлеров и пяти-шести «холер» по возвращении в город со сделанным уроком она могла получить слишком много почетных титулов одновременно и очень опасалась за себя. Вот и училась, несмотря на бабы-Нинины обиды.
У бабы Нины Таня приспособилась готовить, печь пироги, шить на машинке, вязать, вышивать. Дома в Москве никто этому не учил, ели между делом, одевались в покупное, как получалось. А баба могла за вечер сшить Тане такую юбку! С такими кружевными оборками! У принцессы такой не увидишь!
И еще. Баба Нина была певунья. Самая лучшая из всех. Если в округе был какой праздник, ее всегда звали, да что там звали – умоляли быть почетной гостьей. И вот они собирались. Гладили деду Мите костюм. Навязывали Таньке банты. Доставали из шкафа крепдешиновое бабино платье, все в цветах и оборках. Танькино сердце ходило ходуном. Она внутри вся горела и дрожала. Предстояло счастье. Так она и думала в детстве про счастье. Это когда баба Нина делалась немыслимой красоты, выходила в круг расступившихся счастливых заранее людей и начинала орать песни. Баба никогда не говорила «петь». Именно «орать». Пусть так. Но лучшего пения не приходилось слушать Таньке даже в самом Большом театре.
Она стояла одна среди всех, откинув голову, и держалась за края расписного платка, который обязательно накидывала на плечи перед выходом. Без платка пение не получалось бы таким, понимала Танька. С платком руки ее делались крыльями. Вот она взмахивала, и всех приподнимало над землей:
Ой, гуси-лебеди,
Ой, улетели!
Любовь мою —
А-ах, —
Не пожалели.
Ах, лебедь белый,
Далекий,
Крылами машет.
Он о любви моей
Ему —
Пускай расскажет.
Ах, лебедь черный,
Печальный,
Протяжно крикнет,
– Читай, Гитлер! Читай и запоминай!
Наконец сказка целиком размещалась в Таниной голове. Правда, гораздо медленнее, чем могла бы и должна бы. Однако результат был налицо!
– Ну! Что я говорила! И попугая можно выучить разговаривать, если очень постараться! Киш май тухес драй папир! Мазлтов! [10 - Поцелуй мою задницу через три бумаги! Поздравляю! (идиш).]
Бабушка своего добилась. Через пару лет Таня свободно общалась на немецком, как и на родном русском.
С идишем оставались неснятые вопросы. Например, не очень пристойное выражение «киш май тухес драй папир» было явно составлено безграмотно. Оно значило дословно: «поцелуй мою задницу… три бумаги». То есть врагу или просто чем-то досадившему в данный момент индивидууму предлагалось совершить поцелуй неприличного места ЧЕРЕЗ три бумаги. Тройной бумажный слой требовался, очевидно, чтобы поцелуй этот был все-таки кошерным. Чтоб не нарушить никаких правил гигиены. В этом было даже какое-то благородство: злейшего врага – и то! – не побуждали к антисанитарным действиям. Таню мучили чисто грамматические нюансы. Почему же был опущен предлог? Где этот «через»?
Бабушку спрашивать она не решалась. Догадалась сама. Немецкий, французский и другие языки учила бабушка по книгам, по правилам. А идиш впитала в себя из воздуха того самого маленького местечка, в котором родилась. Он был у нее не литературный, живой. Она хорошела и молодела, произнося свои дикие слова и пожелания.
Язык, унесенный ее мертвецами в братскую могилу.
Живой мертвый язык.
– Ду дарфшт нит волнений, [11 - Можешь не волноваться (идиш).] – заявляла Буся сыну Коленьке, когда тот пытался уговорить свою маму впихивать в Танину голову не так много знаний. – Гей к чогту, [12 - Иди к черту (идиш).] без тебя разберемся!
Она же лучше знала. Все и всегда.
И еще она умела пошутить. У нее было богатое воображение на изобретение шуток. И никакого – на предвидение их последствий.
Однажды у них в институте устроили учения по гражданской обороне. Римма Михайловна категорически возражала против собственного участия в этом карнавале. В конце концов, она фронтовичка и уж как-нибудь разберется в случае чего. Терять целый учебный и рабочий день на идиотизм! И все-таки начальство было непреклонно. Пришлось и ректору, и проректорам, и профессорам натягивать по команде противогазы. Разозленная Римма справилась с этой задачей быстрее и лучше всех. На раз-два-три. А потом, первая же и избавившись от мерзкого средства защиты, безудержно хохотала, глядя, на кого в противогазах похожи важные ученые мужи и дамы. Это надо было видеть!
Она умело сложила свой противогаз в холщовую сумку и пообещала вернуть его завтра, мотивируя задержку возвращения данного предмета необходимостью обучения домочадцев важному искусству напяливания на голову резиновой маски.
На самом деле ей приспичило пошутить.
У двери квартиры она, прежде чем нажать сильным пальцем на кнопку звонка – у них принято было не открывать двери своим ключом, а звонить и встречать у входа каждого вернувшегося домой, – так вот, прежде чем оповестить о своем приходе домочадцев, бабушка аккуратно надела противогаз.
И только потом просигналила: «Дзззззззззз! Я дома!!!!»
Ничего не подозревающая Таня, услышав типичный бабушкин звонок, побежала открывать. Следом поспевал дедушка.
Что тут скажешь?
«Долго над садом летал детский крик»…
Очень долго…
Даже «шестикрылый Серафим» нашел силы упрекнуть свою вторую половину, что не следовало бы, мол, так пугать ребенка.
Бабушка очень обиделась. Такую шутку не оценили!
Впрочем… Разве у Гитлера могло быть чувство юмора?…
Баба Нина
Если Буся воплощала собой стихию огня, то другая бабушка, Нина, являла собой земную стихию. А земля – какая? Ой – разная!
Твердая и сухая, если нет дождей.
Мягкая, теплая дарительница жизни, если о ней хорошо позаботятся и солнышко прогреет.
Вязкая, цепляющаяся почем зря к ногам во времена распутицы.
Могильно-ледяная и непробиваемая, если прохватит морозом.
У крестьянской девчонки Нинки была своя судьба, ничем не легче участи Рахили или жребия Серафима. Родившаяся на двенадцать лет позже отцовой матери, мамина мама огребла по полной программе: отца-бедняка, не так что-то сказавшего колхозному начальнику, уничтожили как кулака. И осталась жена «кулака» с десятью малолетками и старухой-свекровью «грызть землю». Потому что ничего им, вражьему семени, кроме земли, жрать не полагалось. То, что они выжили, все – от мала до стара, ни один не подох, как ни старалась народная власть, – было подлинным чудом. Каждый раз, когда полагалось «кулацким недобиткам» отдать богу душу, против чего иной раз они и не возражали, появлялась откуда-то помощь: то мешок полугнилой картошки оказывался у крыльца, то холстинка с серой мукой. Летом пускались они на поиски грибов и ягод, заготавливали все, что могли. Выживали зиму за зимой.
И – поднялись! Выучились, кто чему смог.
Нинка стала агрономом, орденоносицей. Заправляла в огромном подмосковном совхозе, снабжавшем самое главное начальство самыми лучшими продуктами. Все, что написал поэт Некрасов про «женщин в русских селеньях», было про бабушку Нину: высокая, статная, с огромной русой косой вокруг головы, она запросто остановила бы и коня на скаку, и все остальное по списку, что полагалось. Намучившись растить младших братьев и сестер в нечеловеческих условиях, Нинка родила себе на радость одну-единственную дочуру, выучила ее на доктора и строго-настрого заповедала: больше одного ребенка чтоб ни-ни! Не вздумай! Так Таня и получилась единственным дитем в семье. На все про все.
Бабушку Нину можно было называть как душе угодно: и бабулей, и бабой, и бабушкой. Она только радовалась. И распускала ребенка до неузнаваемости, как отмечала каждый раз ревнивая Буся.
Каждая из бабушек противоречила другой знаково и символически. В городе Таня была одета подчеркнуто строго, достойно. Кончик ее косы перехватывался черной аптечной резиночкой. Думать о красоте считалось стыдным и лишним. «Не родись красивой, а родись умной! – настоятельно требовала Буся. – Красота – была и нет. А ум всегда при тебе».
Баба Нина, напротив, во главу угла ставила красоту. «Красуйся, пока можешь, а там поглядишь!» – учила она, накручивая на внучкиной голове огромные банты: по одному с каждого боку да еще по одному на низ кос. Поверх сооруженного чуда повязывался платок немыслимой яркости. Банты торчали из-под него в разные стороны. Таня была загипнотизирована чувством собственной неотразимости. Бабушка брала ее за руку, и они шли по селу, а все почтительно здоровались и восхищались, какая у Нины Ивановны красивая внучка растет.
Учиться бабушка не заставляла.
– В школе учись, в школе всему научат. У меня – отдыхай!
Такая программа была по душе Тане, но забыть Бусю с ее заданиями на каникулы было себе дороже: вместо двух легких Гитлеров и пяти-шести «холер» по возвращении в город со сделанным уроком она могла получить слишком много почетных титулов одновременно и очень опасалась за себя. Вот и училась, несмотря на бабы-Нинины обиды.
У бабы Нины Таня приспособилась готовить, печь пироги, шить на машинке, вязать, вышивать. Дома в Москве никто этому не учил, ели между делом, одевались в покупное, как получалось. А баба могла за вечер сшить Тане такую юбку! С такими кружевными оборками! У принцессы такой не увидишь!
И еще. Баба Нина была певунья. Самая лучшая из всех. Если в округе был какой праздник, ее всегда звали, да что там звали – умоляли быть почетной гостьей. И вот они собирались. Гладили деду Мите костюм. Навязывали Таньке банты. Доставали из шкафа крепдешиновое бабино платье, все в цветах и оборках. Танькино сердце ходило ходуном. Она внутри вся горела и дрожала. Предстояло счастье. Так она и думала в детстве про счастье. Это когда баба Нина делалась немыслимой красоты, выходила в круг расступившихся счастливых заранее людей и начинала орать песни. Баба никогда не говорила «петь». Именно «орать». Пусть так. Но лучшего пения не приходилось слушать Таньке даже в самом Большом театре.
Она стояла одна среди всех, откинув голову, и держалась за края расписного платка, который обязательно накидывала на плечи перед выходом. Без платка пение не получалось бы таким, понимала Танька. С платком руки ее делались крыльями. Вот она взмахивала, и всех приподнимало над землей:
Ой, гуси-лебеди,
Ой, улетели!
Любовь мою —
А-ах, —
Не пожалели.
Ах, лебедь белый,
Далекий,
Крылами машет.
Он о любви моей
Ему —
Пускай расскажет.
Ах, лебедь черный,
Печальный,
Протяжно крикнет,