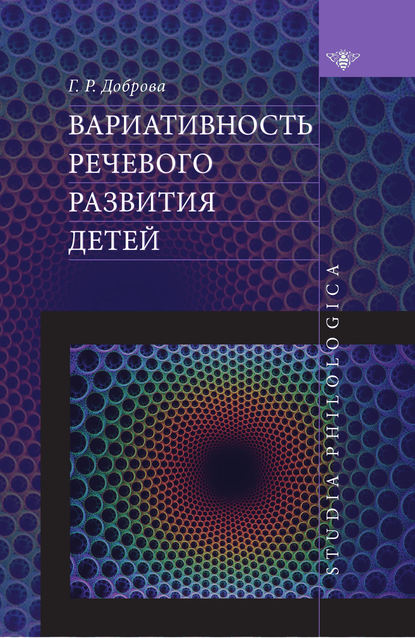По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вариативность речевого развития детей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
2.3. Различия в области грамматики
2.3.1. Склонность/несклонность к «телеграфному стилю»
Одним из различий референциальных и экспрессивных детей, как отмечает Э. Бейтс, является склонность референциальных детей к так называемому «телеграфному стилю».
Прежде чем говорить о соответствующих различиях, рассмотрим явление, которое в зарубежной литературе принято назвать склонностью к «телеграфному стилю». Обычно под этим подразумевается такой тип речи, при котором слова используются в своих «первоформах» – по своей форме как будто бы начальных формах, но по сути, по функции выполняющих роль самых различных форм. На этом этапе в речи отсутствуют «фукциональные слова» – предлоги, союзы, артикли. «Классический» пример такого высказывания применительно к русской детской речи – это высказывание Жени Гвоздева [Гвоздев 1981] Мама ниська цитать, что может быть «переведено» как «Мама книжку читает». Как видим, слова в этом высказывании находятся в «первоформах»: так существительное книжка стоит в форме как будто бы именительного падежа, а глагол читать – как будто бы в форме инфинитива. На самом деле, это и не именительный падеж, и не инфинитив, поскольку таковыми являются лишь внешние «оболочки» слов, по функции же это – в данном высказывании – винительный падеж и изъявительное наклонение настоящее время 3 лицо единственное число (что отражается в «переводе» этого высказывания). Отметим, кстати, что, применительно к русскому языку, термин «телеграфная речь» – не совсем адекватен. Поскольку многие уже не помнят, как в свое время писались телеграммы, напомним, что в этом «жанре», где за каждое отдельное слово надо было платить деньги, люди экономили и пропускали предлоги и союзы. Например, писали не «Поздравляю с днем рождения!», а «Поздравляю днем рождения». Однако, пропуская функциональные слова, люди, отправлявшие телеграммы по-русски, вовсе не ставили слова в «первоформы» (в как бы именительный падеж и т. п.), поскольку флексии и другие формообразовательные аффиксы не опускали. Русский язык, как понятно, позволяет поставить существительное в форму соответствующего падежа за счет флексии и без предлога, а глагол – в соответствующую личную форму: Поздравляю днем рождения, а не *Поздравлять день рождение. Термин же телеграфная речь широко используется в англоязычной научной литературе и отражает то, как, очевидно, писались телеграммы на английском языке, в котором отсутствие функциональных слов во многих случаях[14 - Разумеется, и в английском языке не во всех случаях, очевидно, «экономия» на функциональных словах приводила при написании телеграмм к использованию слов в первоформах: наверняка такие показатели, как показатель множественного числа существительных, глагольное окончание в Past Indefinite и др., сохранялись.] приводило к тому, что слова «по факту» оказывались как бы в «первоформах». Нам же важно в данном случае не столько признать то, что этот термин не совсем адекватно отражает стиль написания телеграмм по-русски, сколько понять его суть в различных трудах по изучению речи детей (и в других областях науки – например, при описании речи афатиков или речи билингвов), – как термина, обозначающего стиль речи, при котором опускаются функциональные слова и флексии.
Итак, в зарубежных исследованиях детской речи подчеркивается, что телеграфный стиль характерен для речи референциальных детей, в то время как для экспрессивных детей он не столь характерен. Таким образом, получается, что если в целом речь референциальных детей – более совершенна, чем речь экспрессивных, то в отношении грамматического оформления этого сказать нельзя: на данном (очень раннем) этапе речь референциальных детей с ее «телеграфным стилем» уступает речи экспрессивных детей по своей грамматической оформленности. Забегая вперед, отметим, что связано это с тем, что референциальные дети начинают грамматически верно оформлять свои высказывания тогда, когда у них появляется так называемая продуктивная (иначе говоря – активная) морфология, т. е. тогда, когда они самостоятельно начинают конструировать словоформы в соответствии с требуемыми грамматическими категориями; экспрессивные же дети, с их склонностью к имитации, могут использовать верные высказывания, почерпнутые из инпута в готовом виде, как своего рода гештальт.
Интересно и еще одно наблюдение зарубежных исследователей: в упомянутом выше исследовании двух референциальных девочек и двух экспрессивных мальчиков рассмотренные речевые различия наблюдались лишь до тех пор, пока MLU[15 - MLU – введенный Р. Брауном [Brown 1973] очень удобный показатель для определения «количественного» уровня развития речи, применяетый в зарубежных (в первую очередь – англоязычных) исследованиях; это измерение средней длины высказывания в морфемах: высчитывается количество морфем в каждом из высказываний, результаты суммируются и делятся на количество высказываний, в результате чего и получается средний показатель. К сожалению, для русскоязычных детей, в силу особенностей русского языка – типичного флективного языка, – подобный расчет не представляется возможным и – главное – целесообразным, поскольку по-русски говорить «без флексий» невозможно. Даже если русскоязычный ребенок и использует слово в «первоформе», он все равно использует какую-то флексию – пусть неверную или нулевую. Представим себе, что мы решили сопоставить MLU русского и английского ребенка, находящихся на одинаковом этапе речевого развития – в данном случае, на этапе «телеграфной речи». Предположим, русскоязычный ребенок хочет передать то значение, который взрослый передал бы с помощью высказывания Мячик лежит на столе. Он сказал бы нечто типа (без учета фонетических особенностей) Мячик стол. В правильном («взрослом») высказывании – 7 морфем (корень, суффикс и нулевое окончание в существительном мячик, корень и окончание – в глаголе, предлог, корень и окончание в словоформе «на столе»), В детском высказывании в «телеграфном стиле» Мячик стол – 5 морфем (те же 3 морфемы в словоформе мячик и две – в словоформе стол, включая нулевое окончание), т. е. всего лишь на две морфемы меньше – разница не столь и велика. Сравним теперь английские эквиваленты этих двух высказываний – «нормальное»The ball is on the table и «детское» (в «телеграфном стиле») Ball table – 6 морфем против 2-х. Получается, что использующий «телеграфный стиль» русскоязычный ребенок «теряет» всего лишь две морфемы, а англоязычный – уменьшает количество морфем в 3 раза. Разумеется, такие сопоставления нецелесообразны и не могут привести ни к какому ценному результату.] детей не достиг 2,5 морфем. Это, кстати, показывает, сколь важно для исследователя «захватить» ребенка для исследования в совсем раннем возрасте: в дальнейшем различия в речи референциальных/экспрессивных детей «прячутся», становятся неявными, сложными для выявления и оценки.
2.3.2. Последовательность в применении грамматических правил
Вообще в целом о различиях у референциальных/экспрессивных детей в области грамматики, и особенно в области морфологии, Э. Бейтс с соавторами пишут немного, и это вполне объяснимо, если учитывать специфику английской морфологии. Из общих же выводов указанных авторов об усвоении референциальными и экспрессивными детьми грамматики выделим следующий, представляющийся очень важным: референциальные дети более последовательны в применении грамматических правил – в первую очередь? у англоговорящих детей это проявляется в строгости использования порядка слов, а также в склонности к морфологическим сверхгенерализациям.
Естественно, что проверить склонность/несклонность к строгому соблюдению правил расположения слов в высказывании на материале речи исследуемых нами детей мы не могли, поскольку русский язык, в отличие от английского, вообще не является языком с жестким порядком слов. Вместе с тем русский язык, в отличие от английского, дает значительно более богатый материал в области усвоения детьми морфологии. Этот материал действительно подтверждает, что референциальные дети более склонны к морфологическим сверхгенерализациям, чем дети экспрессивные.
2.3.2.1. Склонность к морфологическим сверхгенерализациям
Склонность к морфологическим сверхгенерализациям проверялась нами на материале слово- и формообразовательных инноваций с учетом того, что отдельные инновации могут вовсе не быть следствием обобщения, перенесенного на более широкий круг явлений, чем это принято в узусе. Так, если ребенок при выполнении задания, требовавшего образовать название детеныша лошади, говорит *лошадочка (экспрессивная Ксюша В.)[16 - Здесь и далее в этом абзаце примеры из эксперимента с 35 детьми 2;8–3;5.], то вряд ли эта словообразовательная инновация свидетельствует о наличии морфологической сверхгенерализации, поскольку для маркирования так называемой невзрослости используется не суффикс невзрослости -онок/-ёнок, а диминутивный суффикс -очк, предназначенный скорее для маркирования «ласкательности»[17 - Не думаем, что данная словообразовательная инновация восходит к слову лошадка (и образована за счет прибавления суффикса -к-, поскольку она является непосредственной реакцией на названное экспериментатором слово-стимул лошадь (Это слон, а это его слоненок; это лошадь, а это ее…).]. Ср. данную словообразовательную инновацию с созданной другим ребенком (референциальным Тёмой) – *лошаденок, где верно избранный суффикс невзрослости свидетельствует о наличии сверхгенерализации, о правильном применении словообразовательной модели – правильном в смысле соотнесения с языковой системой, но, естественно, не с языковой нормой, ребенку еще не известной, согласно которой в данном случае требовалось вообще обратиться к другому корню – жеребенок. Также можно считать формообразовательной инновацией употребления так называемой падежной первоформы – базовой формы в другой терминологии (формы, внешне совпадающей с именительным падежом, но полифункциональной, – «псевдоименительный» падеж) типа *Нет яблоки (экспрессивный Тимофей), но нельзя считать это следствием морфологической сверхгенерализации. Ср. это, например, с *Нет грушов (референциальная Полина), где налицо распространение закономерности образования частотной падежной флексии мн. ч. род. пад. на случай, в узусе под эту закономерность не попадающий (из-за шипящего в конце основы).
Таким образом, мы считаем, что не все слово- и формообразовательные инновации являются следствием морфологических сверх-генерализаций, однако полагаем, что большинство. Поэтому считаем существенными следующие результаты одного из экспериментов (19 детей 1;8–2;6), в котором дети должны были назвать детенышей различных животных, образовать форму родительного падежа множественного числа существительных и др.: из всех слово- и формообразовательных инноваций, созданных детьми в ходе эксперимента, 65,6 % приходится на референциальных детей, 24 % – на «промежуточных» и лишь 10,4 % – на экспрессивных детей. Иными словами, референциальные дети почти в 6 с половиной раз более склонны к окказиональному слово- и формообразованию, чем дети экспрессивные. Склонность/несклонность референциальных/экспрессивных детей к словообразовательным инновациям интересным образом проявилась, например, в вышеупомянутом эксперименте с 35 детьми 2;8–3;5 в задании, где требовалось образовать название детеныша животного. Если референциальные дети, не зная верного ответа, смело шли на «словообразовательный поиск» (*лошаденок (Тёма), *зебренок (Ксюша В.) и т. п.), то экспрессивные дети старались обойтись лексическими средствами, не прибегая к «словообразовательному риску» – *лев… дети его (Тимофей), маленький хомяк (Лиза), маленький крокодил (Катя), маленький слон (Сережа), либо (чаще всего) отвечали «не знаю» или молчали.
Если говорить о количественном соотношении ответов референциальных и экспрессивных детей, основанных на склонности/несклонности к самостоятельному словообразовательному конструированию, то можно привести такие цифры. В эксперименте с 40 детьми (по 20 референциальных и экспрессивных детей, т. е. количество референциальных и экспрессивных детей было одинаковым) в задании, где детей провоцировали на создание словообразовательных инноваций типа «лошаденок» («Вот слон, это его слоненок, а вот лошадь, это ее…?»), у референциальных детей было выявлено 10 инноваций типа «лошаденок» и ни одной попытки «обойтись лексическими средствами» (типа маленькая лошадь), в то время как у экспрессивных детей – всего 2 словообразовательные инновации указанного типа, зато – 18 попыток «обойтись лексическими средствами».
Окказионализмы референциальных детей более регулярны и системны. Например, при образовании формы мн. ч. в случаях, где в узусе появляется [j], референциальные дети могут его не использовать (*браты – в отличие от нормативного братья), что, естественно, норме не соответствует, но является более системным для русского языка, т. е. больше соответствует продуктивной модели образования формы мн. ч. Если в упоминавшемся выше эксперименте с 35 детьми у референциальных детей неоднократно встречались примеры окказионального образования глагольных форм, как бы переводящего непродуктивные глаголы в продуктивные (*искаю – у нескольких референциальных детей, *скакаю и т. п.), то у экспрессивных детей не встретилось ни одного примера такого типа. В вышеупомянутом эксперименте с 19 детьми 1;8–2;6 у референциальных детей проявилась склонность к устранению вызванных историческими причинами различий в парадигмах за счет «отказа» от «беглости гласного»: *лефы (мн. ч. от лев, фонетически [л’эф]), за счет сверхгенерализации исторических чередований к/ч: *волчи (вместо волки, ср. с волчий, волчонок и др.), г/ж *не можу (вместо не могу, ср. с не может), за счет образования более системных соотношений основ настоящего/будущего времени и инфинитива: *драются (вместо дерутся, ср. с основой инфинитива драться) или языкового протеста против различия основ ед.ч./мн.ч.: *медвежонки (вместо медвежата, ср. с медвежонок), *поросёнки (вместо поросята, ср. с поросёнок). Интересно, что таких примеров, свидетельствующих о том, что ребенок (в какой мере осознанно или неосознанно – другой вопрос) анализирует язык, у экспрессивных детей в данном эксперименте не встретилось вообще.
2.3.2.2. Склонность к имитации отсутствующих в спонтанной речи грамматических конструкций
Из различий у референциальных/экспрессивных детей в области грамматики Э. Бейтс с соавторами описывают еще одно любопытное явление – склонность/несклонность имитировать грамматические конструкции, которых в активной речи ребенка еще нет. Для зарубежных специалистов в области изучения детской речи это крайне важно, т. к., в соответствии с идущей еще с 60–70-х гг. ХХ в. традицией (классические труды С. Эрвин – в дальнейшем С. Эрвин-Трипп, Д. Слобина и др.), они считают, что все дети склонны имитировать только такие грамматические конструкции, которые уже есть в их собственной спонтанной речи. Труды же последних лет показали, что это свойство детей только референциальных; экспрессивные же дети готовы имитировать «без отбора». Со своей стороны, мы согласны с этим, т. к. проверяли это различие и у русских референциальных/экспрессивных детей, обращаясь к ним с просьбой повторить пассивные конструкции в период, когда в их собственной речи этих конструкций еще не было. Так (повторяя в данном случае эксперименты западных исследователей) мы просили детей воспроизвести несколько фраз типа: Дедушка построил дом, Дедушка дом построил, Построил дедушка дом и т. п. и, наконец, Дом построен дедушкой. Дети легко повторяли предложения с даже не типичным (хотя и не «запретным») для русского языка порядком слов, но совершенно по-разному реагировали на последнее предложение (Дом построен дедушкой): часть детей либо молчала, либо заменяла пассив конструкцией с активным залогом: Дом построил дедушка. Другие же дети либо повторяли последнее предложение (хотя сами они такие конструкции построить еще неспособны), либо даже произносили нечто бессмысленное типа *Дом построил дедушку. Между тем, хотя эти результаты и подтверждают данные зарубежных исследователей, мы считаем прямое соотнесение здесь с референциальными/экспрессивными детьми научно некорректным. Мы специально не употребляли в этом случае термины «референциальные дети»/«экспрессивные дети», поскольку эти данные были получены в ходе опыта (полноценным экспериментом назвать мы это не можем) с детьми существенно старше 3-х лет. Сами же исследователи, создавшие эту «типологию» детей, говорят о том, что она «работает» только до 3-х лет, хотя и не отрицают, что «следы» референциальности/экспрессивности сохраняются у детей и в более позднем возрасте, а частично – и у взрослых.
Впрочем, справедливости ради следует отметить, что настолько «чистые» результаты получаются не всегда. Так, был проведен эксперимент с 12-ю бывшими (если считать, что референциальность/ экспрессивность проявляется только до трех лет) референциальными и 12-ю экспрессивными детьми, определенными как таковые по особенностям речи фонетического и лексико-семантического характера за год до проверки особенностей имитации пассивных конструкций. В числе других предложений для имитации детям были предложены две пассивные конструкции – трехсловная (Картошка почищена мамой) и четырехсловная (Красивый цветочек взят Машей). Таким образом, у 12-и референциальных и у 12-и экспрессивных детей было по 24 попытки воспроизвести пассивные конструкции. Дети находились в возрасте (в среднем около 4,5 лет), когда обычно пассивные конструкции в спонтанной речи появляются еще только у наиболее «продвинутых» детей. Результаты получились следующими. У референциальных детей было зафиксировано 9 верных воспроизведений, и это были дети, которые уже овладели или начали овладевать пассивными конструкциями в спонтанной речи. 2 верных воспроизведения было зафиксировано и у экспрессивных детей, причем в спонтанной речи этих детей мы не обнаружили признаков появления пассивных конструкций. Данные результаты в основном подтверждают то, что речь детей референциальных развивается раньше, чем речь детей экспрессивных, однако также и демонстрирует то, что референциальные дети верно воспризводят пассивные конструкции лишь тогда, когда начинают овладевать ими в спонтанной речи. Что же касается различий у референциальных/экспрессивных детей, то они в основном касались количества и качества повторов с нарушением синтаксических связей. Так, у референциальных детей было зафиксировано 4 воспроизведения с нарушением синтаксических связей (например, Красивый цветочек взял Машей), а у экспрессивных – 10 (например, Картошка почищена мама, Почище мамой картошку). Помимо того, что таких ответов у экспрессивных детей было существенно больше (напомним, что количество референциальных и экспрессивных детей в эксперименте было одинаковым), бросалось в глаза и качественное различие неверных ответов: референциальные дети, даже если и не могли воспроизвести пассивную конструкцию целиком, воспроизводили ее ближе к тексту, чем экспрессивные, верно использовали форму творительного падежа существительного, и только форма страдательного причастия оказывалась для них еще недоступной, почему и заменялась другой глагольной формой. Экспрессивные же дети (кроме двух случаев верного воспроизведения) вообще произносили нечто бессмысленное (Почище мамой картошку – где глагол получает некую странную форму), либо (как ни странно) оказывались способны воспроизвести форму страдательного причастия, которое в своей спонтанной речи они еще не используют, но существительное при этом уже в нужную форму тв. пад. не ставили. Поэтому мы считаем, что этот эксперимент тоже частично подтверждает гипотезу о неспособности референциальных детей, в отличие от экспрессивных, имитировать синтаксические конструкции, которых еще нет в их спонтанной речи, однако оцениваем это подтверждание как неполное, неабсолютное: референциальные дети, действительно, не смогли воспроизвести пассивные конструкции, если не овладели ими в спонтанной речи, однако и экспрессивные дети тоже не продемонстрировали безусловную способность/склонность к такому вопроизведению, поскольку в большинстве случаев, когда пытались такие конструкции воспроизвести, воспроизводили их верно лишь частично. Впрочем, возможно, применительно к русскому языку более правильно учитывать не количество верных воспроизведений синтаксических конструкций, а количество верных воспроизвдений самих глагольных форм с пассивным залоговым значением (почищена и даже такие «недоговоренные до конца» странные формы типа почище)?
Кстати, возникает естественный вопрос: почему же в «классической» американской науке по детской речи столько лет никак не опровергалась аксиома, согласно которой несклонность имитировать не существующие в спонтанной речи конструкции относится ко всем детям? Вывод, очевидно, напрашивается: по всей видимости, в зону внимания исследователей попадали в основном референциальные дети. Почему это так и (главное) какие из этого следуют выводы – еще одна важная проблема (см. об этом далее).
Итак, в области грамматики мы, вслед за Э. Бейтс с соавторами, констатируем более очевидную склонность референциальных детей строго следовать грамматическим правилам. Только если у англоговорящих детей это в основном проявляется в области синтаксиса, то у русскоговорящих – в области морфологии (что естественным образом объясняется особенностями английского и русского языков). Данный вывод приводит к размышлениям более обобщенного свойства. Означает ли сказанное, что референциальные дети в большей мере, чем экспрессивные, конструируют свою языковую систему? Вопрос этот не относится к числу простых. Будучи вслед за западными и отечественными исследователями (Д. Слобином, М. Томазелло, С. Н. Цейтлин и др.) сторонниками теории так называемого конструктивизма, мы всецело согласны с тем, что ребенок сам конструирует для себя систему родного языка, продвигаясь путем создания окказиональных систем от элементарной первичной к все более и более совершенным и, наконец, к соответствующей узусу.
Однако, с нашей точки зрения, – это все-таки лишь «генеральная линия». Степень «конструкторского участия» в этом построении языковой системы у разных детей может быть различна. Некоторые дети (референциальные) сначала создают самый общий «каркас» своего «дома» (первичную простейшую систему), а затем строят его из «кирпичиков», «примеряя» каждый из них, подыскивая для него все более и более подходящее место. Именно поэтому эти дети допускают больше ошибок: общий «каркас» (генерализованная первичная языковая система) заставляет их подчиняться в первую очередь общей идее «строительства» (основным системным правилам), а отделку всяких мелких «строительных деталей» типа «балкончиков» (более мелких, менее системных правил, отступлений от правил) на начальных этапах строительства – игнорировать. Экспрессивные же дети тоже строят свой «дом» (собственную языковую систему). Они тоже не получают его извне, в готовом виде. Однако степень их участия в активном конструировании – несколько иная. Они строят «блочный дом», берут из инпута готовые «блоки». Поэтому и грамматических ошибок у них меньше: готовый «блок» уже содержит в готовом виде и хорошо отделанную строительную деталь, «балкончик» (например, верную падежную форму с соответствующим узуальным предлогом и флексией – на стадии, пока сам ребенок их конструировать еще не умеет). Разумеется, в строительстве этого «блочного дома» применяются и «кирпичики», т. е. в каких-то случаях ребенок пытается применить правило – отсюда и ошибки, формообразовательные и словообразовательные (хотя и нечастые), у экспрессивных детей. Между тем все же в основном эти дети строят из блоков. Возникает вопрос: весь ли «дом» экспрессивные дети строят из взятых из инпута «блоков»? Разумеется, нет. В этом нет необходимости. В любом многоэтажном доме – масса однотипных блоков. Экспрессивным детям нет нужды дожидаться, когда же инпут «поставит» им нужный блок. Они могут сами его воспроизвести, имитировать. При этом имитация (возвращаясь к лингвистическим терминам) совершенно не обязательно должна быть дословной, это может быть и «имитация конструкции», а это и есть основной путь постижения языка экспрессивными детьми: имитация и аналогическое конструирование. Если референциальные дети – в большей мере «генерализаторы», то экспрессивные, как мы полагаем, – в большей мере «имитаторы». Таким образом, возможно, природа позаботилась об этих экспрессивных детях. Они (напомним, обычно поздно заговорившие, однако при этом, подчеркнем, абсолютно нормальные в интеллектуальном плане) должны быстро нагнать своих сверстников с ранним речевым развитием, и в таком случае при конструировании своего «дома» получится быстрее и надежнее, если не возиться с мелкими «кирпичиками», а брать готовые «блоки».
2.3.3. Имя существительное или личное местоимение?
В качестве одного из центральных различий речи референциальных/экспрессивных детей в зарубежной литературе с самого начала упоминалась несклонность референциальных детей к использованию личных местоимений, замена их существительными – в отличие от склонности к личным местоимениям экспрессивных детей, которые с самого начала своей активной речи используют местоимения (почему их иногда называют еще «прономинальными» детьми). Иными словами, для референциальных детей характерны высказывания типа Маша хочет кушать (о себе), а для экспрессивных – Я хочу кушать (с самого начала). Любопытно, что многие взрослые люди, и даже специалисты, убеждены в том, что замена местоимений существительными характерна для всех детей. Забегая вперед, отметим, что в речи некоторых детей (экспрессивных), действительно, местоимения появляются очень рано, а этапа замены местоимений существительными просто нет. Безусловно, такое различие не может быть случайным, что и заставляет задуматься над его причинами.
Итак, самый факт, что многие дети поначалу, говоря о себе, используют не местоимение 1 л., а свое личное имя (не я хочу, а Петя хочет), не подлежит сомнению. Вопрос заключается не в том, действительно ли дети это делают, а в том, почему они это делают. Ответ на этот вопрос представляется на первый взгляд достаточно очевидным: не будучи поначалу в состоянии осознать дейксис, рече-ролевую функцию местоимения (с лингвистической точки зрения), а также не вычленяя еще себя из окружающего мира и воспринимая себя как бы с точки зрения (психологической) других людей, ребенок создает временную защиту, позволяющую обозначать себя понятным для собеседника образом и при этом обходиться без выбора, как себя обозначить: я или ты, – до тех пор, пока этот выбор он еще осуществлять не может. Что же касается взрослых, они интуитивно помогают ребенку создать эту защиту, помогают найти, подсказывают ту речевую форму, при которой ребенок может пока обходиться без решения вопроса о дейктической функции местоимений. На ранних этапах, как известно, взрослые часто говорят ребенку, к примеру, не Ой, как ты хорошо прыгаешь, а Ой, как Петя хорошо прыгает. Взрослые даже изображают перед ребенком нечто типа диалогов, подсказывая ребенку его речевую реакцию: Это кто сломал? – Это Петя сломал.
Вместе с тем, как выясняется, такие замены местоимений существительными характерны не для всех детей (только для референциальных), и, соответственно, в исследовании вариативности речевого онтогенеза обойти эту проблему просто невозможно.
Для того чтобы понять причины этих различий, следует сначала хотя бы коротко (подробнее см. [Доброва 2003; 2005]) обсудить вопрос о том, как вообще дети осваивают личные местоимения, как они «догадываются», что о себе надо говорить я, а о собеседнике ты: ведь они не могут здесь просто имитировать речь собеседника, который использует эти слова релятивной семантики, эти «шифтеры», как бы «наоборот», употребляя я по отношению к себе, взрослому человеку, и ты – по отношению к ребенку.
В начале 1980-х гг. возникли исследования, в которых высказывалась парадоксальная, на первый взгляд, идея – предположение о том, что дети на начальноми этапе могут продуцировать личное местоимение, не понимая его значения. Так, Р. Чарни [Charney 1980], исходя из того, что освоение местоимений неразрывно связано с освоением диалога, пришла к выводу, что использование и понимание местоимений ребенком обусловливается его речевой ролью. Так, по мнению Р. Чарни, на начальном этапе, когда ребенок выполняет речевую роль говорящего, он продуцирует личное местоимение 1-го л., но не понимает его значения. В то же время, выполняя речевую роль слушающего, ребенок понимает местоимение 2-го л., но не использует это местоимение в продуцировании. С точки зрения Р. Чарни, ребенок в усвоении личных местоимений 1 и 2 л. проделывает следующий путь: от незнания – к освоению личных местоимений как привязанных только к определенной личности, затем – к пониманию зависимости личного местоимения от речевой роли, но только по отношению к самому себе, и лишь потом – к нормативному пониманию зависимости выбора местоимения от речевой роли. Что же касается местоимения 3 л., то, по данным Р. Чарни, здесь ребенок не проходит этапа, на котором местоимение привязывается только к определенной личности.
Выводы Р. Чарни были подвегнуты критике в работах С. Чиат [Chiat 1981; 1986]. В своих исследованиях С. Чиат исходит из посылки, что при освоении местоимений дети обязательно должны создать лингвистическую генерализацию. Основной причиной взаимозамен местоимений 1 и 2 л. С. Чиат считает не то обстоятельство, что ребенок не может отличить себя от собеседника концептуально, а то, что ребенок совершает генерализацию, объединяя я и ты в общий концепт участника беседы. Существенное место в работах С. Чиат занимает полемика с вышеизложенными положениями работ Р. Чарни. Так, С. Чиат в принципе не соглашается с положением Р. Чарни, что ребенок может понимать ролевую функцию местоимения, но только применительно к самому себе, т. е., например, что ребенок может осознать: о самом себе он должен говорить я, но в то же время не понимать, когда то же самое по отношению к себе самому делает кто-то другой. Аргументация С. Чиат такова: ребенок должен был откуда-то понять, что о самом себе надо говорить я, а понять это он мог, только совершая генерализацию, наблюдая, как это самое делали другие люди. Разумеется, эта логика выглядит весьма убедительно, однако, забегая вперед, отметим, что мы с нею согласиться не можем по одной причине: материал лонгитюдных наблюдений за речевым поведением русских диад мать-ребенок показывает, что в некоторых случаях прослеживается совсем иной путь постижения ребенком необходимости говорить о себе я (путь, при котором мать обучает этому ребенка, а он это усваивает – без всякой генерализации), что ставит под сомнение данный вывод С. Чиат.
Соответственно, поскольку практический материал показывает, что есть дети, для которых не характерна стадия замен местоимений существительными, возникает вопрос: если дело обстоит подобным образом – так, как это представляется С. Чиат, – то почему тогда не все дети проходят подобную стадию, почему имеются дети, которые с самого начала, как только начинают говорить, называют себя не по имени, а используют личное местоимение я? В упоминавшейся выше научной литературе, посвященной вопросу о существовании детей не только референциальных (номинативных), но и экспрессивных (местоименных), четкого ответа на этот вопрос мы не находим.
Обратимся к имеющимся в нашем распоряжении фактам речи детей, находящихся в указанном отношении на крайних «полюсах» (заметим, что здесь и далее мы опираемся на записи речи детей, произведенные с весьма различной степенью подробности, вследствие чего не всегда можем быть абсолютно уверены в том, что имеющиеся в нашем распоряжении использования местоимений действительно являются первыми у данного ребенка; в особенности это касается речи Поли С. и Тани К; записи же речи других детей, например, Вари П., настолько подробны и тщательны, что на них мы можем полагаться с абсолютной уверенностью). Так, Варя П. с самого начала речевой активности называла себя по имени и только по имени: например, Варенька читать (читает) (Варя П., 1;3.7), Варенька бай-бай (хочет спать и ложится) (Варя П., 1;3) и т. д. Склонность данного ребенка называть себя по имени является настолько сильной и отчетливой, что сохраняется весьма долго: так, даже достигнув возраста 1;7 (сам по себе возраст небольшой, но Варя в этом возрасте говорит уже очень хорошо), она в основном говорит о себе, используя личное имя.
Речевая стратегия других детей в указанном отношении может быть совсем иной. Так, первые же из зафиксированных реплик Иры Л. содержат личное местоимение я: А эту, я эту, эту, эту (тянется к другой книжке) (Ира Л., 1;7.15); Мама: А кто порвал книжку? – Ира: Я (Ира Л., 1;7.15) и т. п. При этом такие дети исключительно последовательны в использовании местоимения 1-го л. по отношению к себе: так, ни в одной имеющейся записи речи Иры Л. от 1;3 до 2;2.6 она ни разу (!) не назвала себя по имени. Разумеется, не все дети могут быть столь бесспорно отнесены к группе называющих себя с помощью имени или же с помощью личного местоимения. Так, в речи Сени Ч. уже две первые конструкции, обозначающие себя как субъект действия, – прямо противоположны в интересующем нас отношении: Сеня какает в горшок (Cеня Ч., 1;7.7) и Я везу (Сеня Ч., 1;7.15). Отметим, что у некоторых детей, когда в речи с самого начала сосуществуют обе формы самореференции, мы обнаруживаем функциональные или коннотативные различия этих форм (подробнее см. [Доброва 2003: 133–139]). Возможно, что для русских детей даже более показательно сравнение детей не по первым употреблениям я или соответствующей формы личного имени (им. пад.), а по тому показателю, какая форма в их речи появляется первой – косвенно-падежная форма местоимения (мне, у меня и др.) или же косвенно-падежная форма имени (Пете, у Пети). Если мы сравним наших информантов по этому показателю, то разделение детей окажется более рельефным: с формы мне, у меня и т. п. явно начинали Женя М., Поля С., Сеня Ч., Ира Л. и Кирилл Б.; с форм типа Пете, у Пети, безусловно, начинали Таня К., Аня С., Варя П. и, вероятно, Ваня П. (неуверенность в последнем случае объясняется малым количеством информации об этом периоде его развития). Только в отношении Фили С. выводы представляются неоднозначными, что мы объясняем несколько специфическим речевым поведением его матери, постоянно побуждавшей ребенка то произносить я (Скажи я…), то произносить личное имя (Скажи Филя…).
Итак, достаточно очевидным можно признать факт, что есть дети, которые с самого начала называют себя по имени, и есть такие, которые, начав говорить, сразу используют личные местоимения (при том, что многие дети представляют собой как бы «смешанный тип»), что согласуется с делением детей на два основных типа. Так, Варя П., действительно, похожа на «классического» референциального ребенка, а Ира Л., напротив, – на экспрессивного.
Итак, почему же одним детям требуется слово-«помощник» (личное имя) для осуществления начальной коммуникации, а другим – не требуется?
Во-первых, мы полагаем, что ответ на этот вопрос, возможно, следует искать в возрасте, когда каждый конкретный ребенок начинает говорить. Обратим внимание на то, что использующие по отношению к себе на ранних стадиях личное имя дети – это дети, рано заговорившие, в то время как с самого начала использующие личное местоимение дети – это обычно дети, заговорившие поздно. Представляется, что картина такова: имеются дети, начинающие говорить рано, в целом их речевое развитие, что называется, «не по возрасту». Однако, по-видимому, существуют какие-то языковые явления, которые ребенок, даже рано развивающийся, до определенного возраста освоить не в состоянии, что предопределяется слишком сложными для данного возраста психическими процессами, которые требуются ребенку для усвоения этих фактов языка. К таким – недоступным с точки зрения психологии на ранней стадии возможностям – относится возможность понять наличие различных точек зрения – как пространственных, так и рече-ролевых, в диалоге. Поэтому-то рано заговорившие дети нуждаются поначалу в использовании личного имени для самореференции (привычку к чему некоторые из них могут сохранять относительно долго). Отметим, что данная субституция, очевидно, как показывают записи, не тормозит речевого развития ребенка в других отношениях, поскольку не препятствует коммуникации, а, напротив, дает ребенку возможность спокойно «оглядеться» и, когда психологически ребенок будет к этому готов, разобраться в дейктической функции местоимений. Если же ребенок начинает говорить относительно поздно, то он к этому моменту психологически уже вполне готов осознать дейктическую функцию местоимений 1-2 л., что он и демонстрирует с самого начала продуктивной речи. Вспомним при этом, что референциальные дети обычно начинают говорить рано, а экспрессивные – позднее (хотя, разумеется, могут быть и какие-то исключения; это вовсе не «жесткий закон»).
Во-вторых, можно предложить и еще одно объяснение. Бесспорно, что часть детей заменяет на начальном этапе местоимения 1-2 л. существительными. Другие дети, казалось бы, этого не делают. Однако нельзя ли предположить, что, используя с самого начала своей речи эти местоимения, дети второго типа (если они не относятся к числу особенно поздно заговоривших) «внутренне» превращают их в существительные, т. е., сохраняя «оболочку» местоимения, превращают их, по сути дела, в существительные (лишают дейктичности, прикрепляя, например, «я» лишь к себе, тем самым превращая его в нечто типа личного имени), избегая необходимости осознания дейксиса таким путем? Иными словами, мы предполагаем, что это местоимение я, так рано появляющееся в речи некоторых (экспрессивных) детей, не является истинным местоимением – в первую очередь, с точки зрения грамматики. Да и как это «местоимение» может быть «грамматическим знаком» на этапе, когда продуктивной грамматики у ребенка еще нет? Дело в том, что на раннем этапе речевого онтогенеза продуктивной (активной) грамматики нет еще ни у референциальных, ни у экспрессивных детей, только проявляется это по-разному: у референциальных детей – в «телеграфном стиле» (см. выше – слова в первоформах, без служебных частей речи), а у экспрессивных детей (наряду с какими-то отдельными проявлениями «телеграфного стиля») – в наличии «готовых», взятых из инпута конструкций, не сконструированных самостоятельно. Если принять это утверждение, становится понятным, как может появиться местоимение в речи экпрессивных детей так рано – на «дограмматической» стадии.
В таком случае получается, что при освоении персонального дейксиса дети в любом случае поначалу избегают дейктических элементов (только у одних детей это находит формальное выражение, а у других «прячется» в форме как будто бы дейктического элемента). Такое предположение соответствует выдвигавшейся нами гипотезе [Доброва 2003; 2005] о следующем пути освоения шифтеров (не только личных местоимений, но и, например, терминов родства) детьми: от «ярлыка» – к эгоцентрическому восприятию и лишь затем – к узуальному восприятию. Правда, в случае с личными местоимениями, возможно, этап «ярлыка» и этап эгоцентрического восприятия местоимения (тоже «ярлыкового» по своей сути) могут существовать или по принципу «либо – либо» или же сосуществовать.
Наконец, можно выдвинуть и еще одно предположение: возможно, это речевая стратегия матери влияет на то, использует ли ребенок на ранеем этапе своего развития местоимения или заменяет их существительными.
Неверно было бы полагать, что существует прямая зависимость между частым/редким использованием местоимений в речи матери и соответствующим их использованием ребенком. Однако характер речи ребенка вообще определяется двумя основными факторами – его собственными предрасположенностями и речевым поведением матери, что, в частности, касается и освоения ребенком системы личных местоимений: последовательности, речевых предпочтений, скорости освоения и др. Мать, наверное, не может принципиально изменить того, что заложено в ребенке, однако ее речевое поведение может способствовать развитию каких-то тенденций или, напротив, препятствовать их развитию. Обратимся, например, к речевой стратегии матери Фили С. Эту мать скорее можно отнести к типу «директивных»: в ее речи отмечено большое количество императивов и других средств социальной регуляции поведения ребенка, она постоянно пытается заставить его произнести то или иное слово, повторить за ней ту или иную конструкцию (Скажи…), подолгу настаивает на своем. Так она добивается, чтобы ребенок говорил о себе я, и в конечном итоге достигает своей цели: Филя начинает произносить я, но на первых порах это всего лишь эхоимитации, которые, казалось бы, мало в чем способствуют продвижению ребенка вперед. Между тем вскоре ребенок начинает использовать местоимение я и самостоятельно: очевидно, постоянно заставляя ребенка повторять за ней местоимение, мать все же способствовала усвоению его в первичной, индексальной функции.
Этот вывод позволяет нам добавить свои аргументы к описанной выше дискуссии между С.Чиат и Р. Чарни: может ли ребенок понимать ролевую функцию местоимения, но только применительно к самому себе, в то же время не понимая, если то же самое делает по отношению к себе самому другой человек (например, говорить о себе я, но не понимать, о ком идет речь, если о себе говорит я другой человек). Может ли ребенок понять, что о себе он должен говорить я, каким-то иным путем, кроме как путем генерализации? Пример с Филей, как нам представляется, показывает, что дети могут в каких-то случаях получать представления о том, что они должны говорить о себе я не только за счет произведенной самостоятельно генерализации, но и «в готовом виде», если мать будет, например, придерживаться такой речевой стратегии: произносить какие-то реплики как бы от имени ребенка, с использованием местоимения я, заставляя его их повторять и тем самым привыкать к использованию этого местоимения по отношению к себе в речи.
Что же касается того, понимает ли при этом ребенок ролевую функцию местоимения я только по отношению к самому себе или же и по отношению к другим, – на этот вопрос ответить может только эксперимент. Такой эксперимент был проведен нами в 1995–1997 гг. с 39 детьми 17–37 месяцев. Он проверял как восприятие детьми местоимений 1 и 2 лица единственного числа, так и способность их к адекватному продуцированию этих местоимений. Например, экспериментатор, мама и ребенок рисовали картинки, после чего ребенок должен быть ответить на вопросы: Какую картинку нарисовал ты? Какую картинку нарисовала я? – проверка адекватности восприятия местоимений. Способность же детей правильно использовать местоимения я/ты проверялась вопросами типа Кто держит в руках зайца?. Обнаружилось, что на стадии, которую мы назвали стадией эгоцентрического восприятия местоимений, дети могут адекватно использовать местоимение я (Кто держит зайчика? – Я – когда держит его сам ребенок), но не уметь соотносить это местоимение с соответствующим денотатом, когда слово я произносит другой человек (например, на вопрос экспериментатора Какую картинку нарисовала я? – указывать на картинку, нарисованную им самим или его мамой). Таким образом, результаты показали, что дети начинают с понимания только местоимения ты, а произносят сначала только местоимение я, что является иллюстрацией детского эгоцентризма и показывает, что на самых начальных стадиях личные местоимения воспринимаются детьми как жесткие десигнаторы, референциально закрепленные только за самим ребенком, а не как дейктические знаки (интересующихся отсылаем к [Доброва 1999: 20–21; 2003: 118–128]).
Таким образом, очевидно, наряду с генерализацией, существует и иной путь постижения семантики слов, даже таких неординарных, как слова с релятивной семантикой. Идущий по этому пути ребенок опирается не столько на логику мышления, сколько на имитацию.
Данный вывод позволяет нам понять причину, почему референциальные дети вынуждены на раннем этапе своего речевого развития заменять личные местоимения существительными, а экспрессивные обходятся без этого, с самого начала используя местоимения. Основным механизмом освоения языка для референциальных детей является генерализация, а для экспрессивных – имитация (а также дифференциация), о чем подробно пойдет речь в Главе 7, посвященной базовым и вспомогательным механизмам освоения языка в аспекте вариативности речевого онтогенеза. Референциальному ребенку, действительно, чтобы начать использовать личные местоимения, требуется (как это отмечает С. Чиат) совершить генерализацию – понять, что говорящий говорит о себе я, а о собеседнике ты, а слушающий должен воспринимать я как обозначение собеседника, а ты – как обозначение слушающего, адресата речи. Разумеется, на самом раннем этапе на такую генерализацию дети (даже «продвинутые» референциальные) неспособны, почему и вынуждены прибегать к субституции личных местоимений существительными. Экспрессивные же дети находятся в другой ситуации. Генерализация – не их сильная сторона, зато их сильная сторона – имитация. Они слышат, что люди говорят о себе я. Правда, одного восприятия недостаточно, чтобы ребенок стал имитировать такое речевое поведение. Однако если к этому добавляется соответствующая стратегия матери, как бы обучащей своего ребенка использовать по отношению к себе я (Скажи: Я хочу…), ребенок начинает использвать личное местоимение – сначала в качестве эхо-имитаций[18 - Упомянутые выше результаты наблюдений за спонтанной речью детей и эксперимента, как можно видеть, привели нас к выводу о возможности для детей имитации без понимания (о чем мы и писали в вышеуказанной монографии еще в 2003 г.). Возможность имитации с пониманием и без понимания обсуждали такие зарубежные исследователи, такие как [Clark 1977; MacWhinney 1982; Snow 1981] и др. В отечественной онтолингвистике также немало сторонников того, что у детей возможна имитация и без понимания. Так, М. Д. Воейкова указывает на то, что на раннем этапе речевого развития ребенка адекватное употребление грамматических конструкций возможно до осознания соответствующих значений, оно не сознательно, осуществляется без понимания, в силу подражания взрослым [Воейкова 2011: 12].], повторяя за матерью, а затем и самостоятельно. Насколько это местоимение на самом деле является местоимением – это другой вопрос (как отмечалось выше, мы полагаем, что оно на самом деле не является таковым, поскольку является жестким десигнатором, привязанным к одному референту – самому ребенку, почему мы и считаем, что оно скорее функционально ближе к существительным, к личным именам – подробнее в [Доброва 2003: 152]), однако формально – это личное местоимение. В этом мы и видим причину ранней возможности для экспрессивных детей использовать личные местоимения.
2.4. Различия в области фонологии
Различия в области фонологии представляются нам очень существенными – как потому, что они действительно очень реальны и ощутимы, так и потому, что их легче и быстрее всего «измерить» в эксперименте.
Одно из бросающихся в глаза различий – это то, что у экспрессивных детей на ранних этапах наблюдается «каша во рту», т. е. не просто сложно разобрать, что именно они сказали, но и сложно соотнести произносимые ими звуки с теми или иными фонемами или их оттенками. Данное различие вовсе не означает, что речь референциальных детей всегда легко понять – просто произносимые ими звуки существенно легче атрибутировать.
В качестве следующего различия Э. Бейтс с соавторами отмечают наличие/отсутствие «фонологического постоянства», т. е. (дословно по Э. Бейтс) «произносит или нет ребенок данный тип слов одинаковым образом». Поскольку более точных указаний на то, что и как в этом отношении измерялось американскими исследователями, мы не обнаружили, то позволили себе разработать собственную систему проверки.
Во-первых, мы измеряли «фонологическое постоянство» в субституции согласных. Проверялось, как на данном синхронном срезе ребенок заменяет трудные для него согласные. Практически субституция согласных наблюдается в речи всех детей, это известное явление (подробнее см., например, в [Доброва 2011б]), однако в данном случае вопрос заключается в том, насколько последовательно ребенок заменяет требующийся звук другим. Естественно, речь идет только о синхронном срезе: на протяжении речевого развития ребенка, разумеется, один субститут может меняться на другой. В данном же случае имеется в виду субституция, например, в пределах одного дня или даже одной десятиминутной видеозаписи, т. е. наличие/отсутствие «единомоментного» постоянства в субституции.
Так, в речи экспрессивных детей один и тот же звук в равноценных фонетических позициях в течение нескольких минут может несколько раз замениться по-разному. К примеру, в одной и той же записи речи Кати С. (2;6 – эксперимент с 36 детьми) звук [ш] заменялся то звуком [с] (*/ку?саит/ – кушает и т. п.), то звуком [с’] (*/с’а?ик/ – шарик и др.), а один раз вообще был произнесен правильно (*/ху?ша/ – хрюша).
В речи же референциальных детей обычно наблюдается постоянство субституции – один и тот же звук последовательно заменяется одним и тем же (на данном синхронном срезе, т. е. в пределах именно данной «промежуточной» фонологической идиосистемы). Например, в том же эксперименте Юля Ч. (2;2) всегда заменяет [ч’] на [т’]: /т’ит’а?т’/ – читать, /т’ипал’и?на/ – Чипполино и даже / маму?н’ит’ка/ – мамулечка, где тот же звук встретился не в изолированном виде, а в составе кластера.
Разумеется, сказанное не означает, что в речи экспрессивных детей никогда не наблюдается постоянства субституции согласных, а в речи референциальных детей оно наблюдается всегда: и в речи экспрессивных детей какие-то звуки могут заменяться последовательно, и в речи детей референциальных в каких-то случаях может встречаться непоследовательность. Поэтому достаточным основанием для определения наличия/отсутствия постоянства в субституции мы считали процентный показатель – наличием постоянства мы считали 70 и более процентов случаев постоянства. Впрочем, чаще всего 70 % «рубеж» был условным, т. к. у большинства детей постоянство наблюдается либо в очевидном большинстве случаев, либо не наблюдается – тоже в очевидном большинстве случаев.
Во-вторых, мы измеряли постоянство в упрощении кластеров – опять же на синхронном срезе. Если для речи взрослых характерно упрощение кластеров, состоящих из 4-х и 3-х согласных, то дети в этом плане идут еще дальше, сокращая также и кластеры из двух согласных. Как показывают данные экспериментов, имеются кластеры, которые все дети упрощают обычно однотипно. Так, в кластерах, содержащих звуки [р], [р’] в сочетании и со щелевыми, и со смычными, на стадии, когда дрожащие еще не артикулируются, выпадает, естественно, дрожащий: */дуго?j/ – другой, */кава?т’/ – кровать, */ папа?л/ – пропал. В сочетании «щелевой + смычный» у большинства детей, если происходит упрощение кластера, то выпадает щелевой (на это указывал еще А. Н. Гвоздев [Гвоздев 2007: 125]): */п’иjо?т/ – вперед, */до?га/ – долго, */тут’и?т/ – стучит, */н’игав’и?к/ – снеговик и т. д. – мы специально привели примеры разных кластеров ([ф’п’], [лг], [ст], [сн’]), содержащих различные щелевые (как серединные, так и латеральные) и различные смычные (как взрывные, так и носовые), находящихся при этом в разных позициях в слове – в абсолютном начале слова и не в абсолютном начале, – чтобы подчеркнуть последовательность тенденции к сокращению кластеров «щелевой + смычный» за счет «выбрасывания» щелевого у различных детей. При этом имеются кластеры, которые дети могут упрощать по-разному. Так, в сочетании двух смычных, в том числе смычных носовых (например [кн’]), может выпадать как первый, так и второй (и /н’и?с’ка/, и /к’и?с’ка/– книжка). В сочетании двух щелевых (например, [хл’]) может также выпадать как первый, так и второй (и */хэ?п/ и */лэ?п/– хлеб). Такие кластеры более интересны для проверки наличия/отсутствия различий у референциальных и экспрессивных детей. Как показали результаты, различия, действительно, имеют место. Например, в сочетании двух смычных у экспрессивного Ярослава Ш. (эксперимент с 19 детьми 1;8–3;0) в одной и той же записи встретились 2 варианта упрощения кластера – и */мога/ и */но?га/ (много). Данный пример интересен тем, что упрощены по-разному не просто однотипные кластеры, а один и тот же кластер ([мн]), причем в одном и том же слове. У референциальной же Ани Ф. (2;7 – эксперимент с 36 детьми) фиксируем: */ба?т’ик/ – бантик, */д’э?/ – где, */ат’э?ка/ – аптека, т. е. наблюдается единообразие в упрощении кластеров «смычный + смычный» ([н’т’], [гд’], [пт’]) (выпадает первый из них), причем, что интересно, кластеры эти в значительной степени различны – они могут содержать только смычные взрывные или также и носовые, могут находиться как в абсолютном начале, так и в середине слова.
2.3.1. Склонность/несклонность к «телеграфному стилю»
Одним из различий референциальных и экспрессивных детей, как отмечает Э. Бейтс, является склонность референциальных детей к так называемому «телеграфному стилю».
Прежде чем говорить о соответствующих различиях, рассмотрим явление, которое в зарубежной литературе принято назвать склонностью к «телеграфному стилю». Обычно под этим подразумевается такой тип речи, при котором слова используются в своих «первоформах» – по своей форме как будто бы начальных формах, но по сути, по функции выполняющих роль самых различных форм. На этом этапе в речи отсутствуют «фукциональные слова» – предлоги, союзы, артикли. «Классический» пример такого высказывания применительно к русской детской речи – это высказывание Жени Гвоздева [Гвоздев 1981] Мама ниська цитать, что может быть «переведено» как «Мама книжку читает». Как видим, слова в этом высказывании находятся в «первоформах»: так существительное книжка стоит в форме как будто бы именительного падежа, а глагол читать – как будто бы в форме инфинитива. На самом деле, это и не именительный падеж, и не инфинитив, поскольку таковыми являются лишь внешние «оболочки» слов, по функции же это – в данном высказывании – винительный падеж и изъявительное наклонение настоящее время 3 лицо единственное число (что отражается в «переводе» этого высказывания). Отметим, кстати, что, применительно к русскому языку, термин «телеграфная речь» – не совсем адекватен. Поскольку многие уже не помнят, как в свое время писались телеграммы, напомним, что в этом «жанре», где за каждое отдельное слово надо было платить деньги, люди экономили и пропускали предлоги и союзы. Например, писали не «Поздравляю с днем рождения!», а «Поздравляю днем рождения». Однако, пропуская функциональные слова, люди, отправлявшие телеграммы по-русски, вовсе не ставили слова в «первоформы» (в как бы именительный падеж и т. п.), поскольку флексии и другие формообразовательные аффиксы не опускали. Русский язык, как понятно, позволяет поставить существительное в форму соответствующего падежа за счет флексии и без предлога, а глагол – в соответствующую личную форму: Поздравляю днем рождения, а не *Поздравлять день рождение. Термин же телеграфная речь широко используется в англоязычной научной литературе и отражает то, как, очевидно, писались телеграммы на английском языке, в котором отсутствие функциональных слов во многих случаях[14 - Разумеется, и в английском языке не во всех случаях, очевидно, «экономия» на функциональных словах приводила при написании телеграмм к использованию слов в первоформах: наверняка такие показатели, как показатель множественного числа существительных, глагольное окончание в Past Indefinite и др., сохранялись.] приводило к тому, что слова «по факту» оказывались как бы в «первоформах». Нам же важно в данном случае не столько признать то, что этот термин не совсем адекватно отражает стиль написания телеграмм по-русски, сколько понять его суть в различных трудах по изучению речи детей (и в других областях науки – например, при описании речи афатиков или речи билингвов), – как термина, обозначающего стиль речи, при котором опускаются функциональные слова и флексии.
Итак, в зарубежных исследованиях детской речи подчеркивается, что телеграфный стиль характерен для речи референциальных детей, в то время как для экспрессивных детей он не столь характерен. Таким образом, получается, что если в целом речь референциальных детей – более совершенна, чем речь экспрессивных, то в отношении грамматического оформления этого сказать нельзя: на данном (очень раннем) этапе речь референциальных детей с ее «телеграфным стилем» уступает речи экспрессивных детей по своей грамматической оформленности. Забегая вперед, отметим, что связано это с тем, что референциальные дети начинают грамматически верно оформлять свои высказывания тогда, когда у них появляется так называемая продуктивная (иначе говоря – активная) морфология, т. е. тогда, когда они самостоятельно начинают конструировать словоформы в соответствии с требуемыми грамматическими категориями; экспрессивные же дети, с их склонностью к имитации, могут использовать верные высказывания, почерпнутые из инпута в готовом виде, как своего рода гештальт.
Интересно и еще одно наблюдение зарубежных исследователей: в упомянутом выше исследовании двух референциальных девочек и двух экспрессивных мальчиков рассмотренные речевые различия наблюдались лишь до тех пор, пока MLU[15 - MLU – введенный Р. Брауном [Brown 1973] очень удобный показатель для определения «количественного» уровня развития речи, применяетый в зарубежных (в первую очередь – англоязычных) исследованиях; это измерение средней длины высказывания в морфемах: высчитывается количество морфем в каждом из высказываний, результаты суммируются и делятся на количество высказываний, в результате чего и получается средний показатель. К сожалению, для русскоязычных детей, в силу особенностей русского языка – типичного флективного языка, – подобный расчет не представляется возможным и – главное – целесообразным, поскольку по-русски говорить «без флексий» невозможно. Даже если русскоязычный ребенок и использует слово в «первоформе», он все равно использует какую-то флексию – пусть неверную или нулевую. Представим себе, что мы решили сопоставить MLU русского и английского ребенка, находящихся на одинаковом этапе речевого развития – в данном случае, на этапе «телеграфной речи». Предположим, русскоязычный ребенок хочет передать то значение, который взрослый передал бы с помощью высказывания Мячик лежит на столе. Он сказал бы нечто типа (без учета фонетических особенностей) Мячик стол. В правильном («взрослом») высказывании – 7 морфем (корень, суффикс и нулевое окончание в существительном мячик, корень и окончание – в глаголе, предлог, корень и окончание в словоформе «на столе»), В детском высказывании в «телеграфном стиле» Мячик стол – 5 морфем (те же 3 морфемы в словоформе мячик и две – в словоформе стол, включая нулевое окончание), т. е. всего лишь на две морфемы меньше – разница не столь и велика. Сравним теперь английские эквиваленты этих двух высказываний – «нормальное»The ball is on the table и «детское» (в «телеграфном стиле») Ball table – 6 морфем против 2-х. Получается, что использующий «телеграфный стиль» русскоязычный ребенок «теряет» всего лишь две морфемы, а англоязычный – уменьшает количество морфем в 3 раза. Разумеется, такие сопоставления нецелесообразны и не могут привести ни к какому ценному результату.] детей не достиг 2,5 морфем. Это, кстати, показывает, сколь важно для исследователя «захватить» ребенка для исследования в совсем раннем возрасте: в дальнейшем различия в речи референциальных/экспрессивных детей «прячутся», становятся неявными, сложными для выявления и оценки.
2.3.2. Последовательность в применении грамматических правил
Вообще в целом о различиях у референциальных/экспрессивных детей в области грамматики, и особенно в области морфологии, Э. Бейтс с соавторами пишут немного, и это вполне объяснимо, если учитывать специфику английской морфологии. Из общих же выводов указанных авторов об усвоении референциальными и экспрессивными детьми грамматики выделим следующий, представляющийся очень важным: референциальные дети более последовательны в применении грамматических правил – в первую очередь? у англоговорящих детей это проявляется в строгости использования порядка слов, а также в склонности к морфологическим сверхгенерализациям.
Естественно, что проверить склонность/несклонность к строгому соблюдению правил расположения слов в высказывании на материале речи исследуемых нами детей мы не могли, поскольку русский язык, в отличие от английского, вообще не является языком с жестким порядком слов. Вместе с тем русский язык, в отличие от английского, дает значительно более богатый материал в области усвоения детьми морфологии. Этот материал действительно подтверждает, что референциальные дети более склонны к морфологическим сверхгенерализациям, чем дети экспрессивные.
2.3.2.1. Склонность к морфологическим сверхгенерализациям
Склонность к морфологическим сверхгенерализациям проверялась нами на материале слово- и формообразовательных инноваций с учетом того, что отдельные инновации могут вовсе не быть следствием обобщения, перенесенного на более широкий круг явлений, чем это принято в узусе. Так, если ребенок при выполнении задания, требовавшего образовать название детеныша лошади, говорит *лошадочка (экспрессивная Ксюша В.)[16 - Здесь и далее в этом абзаце примеры из эксперимента с 35 детьми 2;8–3;5.], то вряд ли эта словообразовательная инновация свидетельствует о наличии морфологической сверхгенерализации, поскольку для маркирования так называемой невзрослости используется не суффикс невзрослости -онок/-ёнок, а диминутивный суффикс -очк, предназначенный скорее для маркирования «ласкательности»[17 - Не думаем, что данная словообразовательная инновация восходит к слову лошадка (и образована за счет прибавления суффикса -к-, поскольку она является непосредственной реакцией на названное экспериментатором слово-стимул лошадь (Это слон, а это его слоненок; это лошадь, а это ее…).]. Ср. данную словообразовательную инновацию с созданной другим ребенком (референциальным Тёмой) – *лошаденок, где верно избранный суффикс невзрослости свидетельствует о наличии сверхгенерализации, о правильном применении словообразовательной модели – правильном в смысле соотнесения с языковой системой, но, естественно, не с языковой нормой, ребенку еще не известной, согласно которой в данном случае требовалось вообще обратиться к другому корню – жеребенок. Также можно считать формообразовательной инновацией употребления так называемой падежной первоформы – базовой формы в другой терминологии (формы, внешне совпадающей с именительным падежом, но полифункциональной, – «псевдоименительный» падеж) типа *Нет яблоки (экспрессивный Тимофей), но нельзя считать это следствием морфологической сверхгенерализации. Ср. это, например, с *Нет грушов (референциальная Полина), где налицо распространение закономерности образования частотной падежной флексии мн. ч. род. пад. на случай, в узусе под эту закономерность не попадающий (из-за шипящего в конце основы).
Таким образом, мы считаем, что не все слово- и формообразовательные инновации являются следствием морфологических сверх-генерализаций, однако полагаем, что большинство. Поэтому считаем существенными следующие результаты одного из экспериментов (19 детей 1;8–2;6), в котором дети должны были назвать детенышей различных животных, образовать форму родительного падежа множественного числа существительных и др.: из всех слово- и формообразовательных инноваций, созданных детьми в ходе эксперимента, 65,6 % приходится на референциальных детей, 24 % – на «промежуточных» и лишь 10,4 % – на экспрессивных детей. Иными словами, референциальные дети почти в 6 с половиной раз более склонны к окказиональному слово- и формообразованию, чем дети экспрессивные. Склонность/несклонность референциальных/экспрессивных детей к словообразовательным инновациям интересным образом проявилась, например, в вышеупомянутом эксперименте с 35 детьми 2;8–3;5 в задании, где требовалось образовать название детеныша животного. Если референциальные дети, не зная верного ответа, смело шли на «словообразовательный поиск» (*лошаденок (Тёма), *зебренок (Ксюша В.) и т. п.), то экспрессивные дети старались обойтись лексическими средствами, не прибегая к «словообразовательному риску» – *лев… дети его (Тимофей), маленький хомяк (Лиза), маленький крокодил (Катя), маленький слон (Сережа), либо (чаще всего) отвечали «не знаю» или молчали.
Если говорить о количественном соотношении ответов референциальных и экспрессивных детей, основанных на склонности/несклонности к самостоятельному словообразовательному конструированию, то можно привести такие цифры. В эксперименте с 40 детьми (по 20 референциальных и экспрессивных детей, т. е. количество референциальных и экспрессивных детей было одинаковым) в задании, где детей провоцировали на создание словообразовательных инноваций типа «лошаденок» («Вот слон, это его слоненок, а вот лошадь, это ее…?»), у референциальных детей было выявлено 10 инноваций типа «лошаденок» и ни одной попытки «обойтись лексическими средствами» (типа маленькая лошадь), в то время как у экспрессивных детей – всего 2 словообразовательные инновации указанного типа, зато – 18 попыток «обойтись лексическими средствами».
Окказионализмы референциальных детей более регулярны и системны. Например, при образовании формы мн. ч. в случаях, где в узусе появляется [j], референциальные дети могут его не использовать (*браты – в отличие от нормативного братья), что, естественно, норме не соответствует, но является более системным для русского языка, т. е. больше соответствует продуктивной модели образования формы мн. ч. Если в упоминавшемся выше эксперименте с 35 детьми у референциальных детей неоднократно встречались примеры окказионального образования глагольных форм, как бы переводящего непродуктивные глаголы в продуктивные (*искаю – у нескольких референциальных детей, *скакаю и т. п.), то у экспрессивных детей не встретилось ни одного примера такого типа. В вышеупомянутом эксперименте с 19 детьми 1;8–2;6 у референциальных детей проявилась склонность к устранению вызванных историческими причинами различий в парадигмах за счет «отказа» от «беглости гласного»: *лефы (мн. ч. от лев, фонетически [л’эф]), за счет сверхгенерализации исторических чередований к/ч: *волчи (вместо волки, ср. с волчий, волчонок и др.), г/ж *не можу (вместо не могу, ср. с не может), за счет образования более системных соотношений основ настоящего/будущего времени и инфинитива: *драются (вместо дерутся, ср. с основой инфинитива драться) или языкового протеста против различия основ ед.ч./мн.ч.: *медвежонки (вместо медвежата, ср. с медвежонок), *поросёнки (вместо поросята, ср. с поросёнок). Интересно, что таких примеров, свидетельствующих о том, что ребенок (в какой мере осознанно или неосознанно – другой вопрос) анализирует язык, у экспрессивных детей в данном эксперименте не встретилось вообще.
2.3.2.2. Склонность к имитации отсутствующих в спонтанной речи грамматических конструкций
Из различий у референциальных/экспрессивных детей в области грамматики Э. Бейтс с соавторами описывают еще одно любопытное явление – склонность/несклонность имитировать грамматические конструкции, которых в активной речи ребенка еще нет. Для зарубежных специалистов в области изучения детской речи это крайне важно, т. к., в соответствии с идущей еще с 60–70-х гг. ХХ в. традицией (классические труды С. Эрвин – в дальнейшем С. Эрвин-Трипп, Д. Слобина и др.), они считают, что все дети склонны имитировать только такие грамматические конструкции, которые уже есть в их собственной спонтанной речи. Труды же последних лет показали, что это свойство детей только референциальных; экспрессивные же дети готовы имитировать «без отбора». Со своей стороны, мы согласны с этим, т. к. проверяли это различие и у русских референциальных/экспрессивных детей, обращаясь к ним с просьбой повторить пассивные конструкции в период, когда в их собственной речи этих конструкций еще не было. Так (повторяя в данном случае эксперименты западных исследователей) мы просили детей воспроизвести несколько фраз типа: Дедушка построил дом, Дедушка дом построил, Построил дедушка дом и т. п. и, наконец, Дом построен дедушкой. Дети легко повторяли предложения с даже не типичным (хотя и не «запретным») для русского языка порядком слов, но совершенно по-разному реагировали на последнее предложение (Дом построен дедушкой): часть детей либо молчала, либо заменяла пассив конструкцией с активным залогом: Дом построил дедушка. Другие же дети либо повторяли последнее предложение (хотя сами они такие конструкции построить еще неспособны), либо даже произносили нечто бессмысленное типа *Дом построил дедушку. Между тем, хотя эти результаты и подтверждают данные зарубежных исследователей, мы считаем прямое соотнесение здесь с референциальными/экспрессивными детьми научно некорректным. Мы специально не употребляли в этом случае термины «референциальные дети»/«экспрессивные дети», поскольку эти данные были получены в ходе опыта (полноценным экспериментом назвать мы это не можем) с детьми существенно старше 3-х лет. Сами же исследователи, создавшие эту «типологию» детей, говорят о том, что она «работает» только до 3-х лет, хотя и не отрицают, что «следы» референциальности/экспрессивности сохраняются у детей и в более позднем возрасте, а частично – и у взрослых.
Впрочем, справедливости ради следует отметить, что настолько «чистые» результаты получаются не всегда. Так, был проведен эксперимент с 12-ю бывшими (если считать, что референциальность/ экспрессивность проявляется только до трех лет) референциальными и 12-ю экспрессивными детьми, определенными как таковые по особенностям речи фонетического и лексико-семантического характера за год до проверки особенностей имитации пассивных конструкций. В числе других предложений для имитации детям были предложены две пассивные конструкции – трехсловная (Картошка почищена мамой) и четырехсловная (Красивый цветочек взят Машей). Таким образом, у 12-и референциальных и у 12-и экспрессивных детей было по 24 попытки воспроизвести пассивные конструкции. Дети находились в возрасте (в среднем около 4,5 лет), когда обычно пассивные конструкции в спонтанной речи появляются еще только у наиболее «продвинутых» детей. Результаты получились следующими. У референциальных детей было зафиксировано 9 верных воспроизведений, и это были дети, которые уже овладели или начали овладевать пассивными конструкциями в спонтанной речи. 2 верных воспроизведения было зафиксировано и у экспрессивных детей, причем в спонтанной речи этих детей мы не обнаружили признаков появления пассивных конструкций. Данные результаты в основном подтверждают то, что речь детей референциальных развивается раньше, чем речь детей экспрессивных, однако также и демонстрирует то, что референциальные дети верно воспризводят пассивные конструкции лишь тогда, когда начинают овладевать ими в спонтанной речи. Что же касается различий у референциальных/экспрессивных детей, то они в основном касались количества и качества повторов с нарушением синтаксических связей. Так, у референциальных детей было зафиксировано 4 воспроизведения с нарушением синтаксических связей (например, Красивый цветочек взял Машей), а у экспрессивных – 10 (например, Картошка почищена мама, Почище мамой картошку). Помимо того, что таких ответов у экспрессивных детей было существенно больше (напомним, что количество референциальных и экспрессивных детей в эксперименте было одинаковым), бросалось в глаза и качественное различие неверных ответов: референциальные дети, даже если и не могли воспроизвести пассивную конструкцию целиком, воспроизводили ее ближе к тексту, чем экспрессивные, верно использовали форму творительного падежа существительного, и только форма страдательного причастия оказывалась для них еще недоступной, почему и заменялась другой глагольной формой. Экспрессивные же дети (кроме двух случаев верного воспроизведения) вообще произносили нечто бессмысленное (Почище мамой картошку – где глагол получает некую странную форму), либо (как ни странно) оказывались способны воспроизвести форму страдательного причастия, которое в своей спонтанной речи они еще не используют, но существительное при этом уже в нужную форму тв. пад. не ставили. Поэтому мы считаем, что этот эксперимент тоже частично подтверждает гипотезу о неспособности референциальных детей, в отличие от экспрессивных, имитировать синтаксические конструкции, которых еще нет в их спонтанной речи, однако оцениваем это подтверждание как неполное, неабсолютное: референциальные дети, действительно, не смогли воспроизвести пассивные конструкции, если не овладели ими в спонтанной речи, однако и экспрессивные дети тоже не продемонстрировали безусловную способность/склонность к такому вопроизведению, поскольку в большинстве случаев, когда пытались такие конструкции воспроизвести, воспроизводили их верно лишь частично. Впрочем, возможно, применительно к русскому языку более правильно учитывать не количество верных воспроизведений синтаксических конструкций, а количество верных воспроизвдений самих глагольных форм с пассивным залоговым значением (почищена и даже такие «недоговоренные до конца» странные формы типа почище)?
Кстати, возникает естественный вопрос: почему же в «классической» американской науке по детской речи столько лет никак не опровергалась аксиома, согласно которой несклонность имитировать не существующие в спонтанной речи конструкции относится ко всем детям? Вывод, очевидно, напрашивается: по всей видимости, в зону внимания исследователей попадали в основном референциальные дети. Почему это так и (главное) какие из этого следуют выводы – еще одна важная проблема (см. об этом далее).
Итак, в области грамматики мы, вслед за Э. Бейтс с соавторами, констатируем более очевидную склонность референциальных детей строго следовать грамматическим правилам. Только если у англоговорящих детей это в основном проявляется в области синтаксиса, то у русскоговорящих – в области морфологии (что естественным образом объясняется особенностями английского и русского языков). Данный вывод приводит к размышлениям более обобщенного свойства. Означает ли сказанное, что референциальные дети в большей мере, чем экспрессивные, конструируют свою языковую систему? Вопрос этот не относится к числу простых. Будучи вслед за западными и отечественными исследователями (Д. Слобином, М. Томазелло, С. Н. Цейтлин и др.) сторонниками теории так называемого конструктивизма, мы всецело согласны с тем, что ребенок сам конструирует для себя систему родного языка, продвигаясь путем создания окказиональных систем от элементарной первичной к все более и более совершенным и, наконец, к соответствующей узусу.
Однако, с нашей точки зрения, – это все-таки лишь «генеральная линия». Степень «конструкторского участия» в этом построении языковой системы у разных детей может быть различна. Некоторые дети (референциальные) сначала создают самый общий «каркас» своего «дома» (первичную простейшую систему), а затем строят его из «кирпичиков», «примеряя» каждый из них, подыскивая для него все более и более подходящее место. Именно поэтому эти дети допускают больше ошибок: общий «каркас» (генерализованная первичная языковая система) заставляет их подчиняться в первую очередь общей идее «строительства» (основным системным правилам), а отделку всяких мелких «строительных деталей» типа «балкончиков» (более мелких, менее системных правил, отступлений от правил) на начальных этапах строительства – игнорировать. Экспрессивные же дети тоже строят свой «дом» (собственную языковую систему). Они тоже не получают его извне, в готовом виде. Однако степень их участия в активном конструировании – несколько иная. Они строят «блочный дом», берут из инпута готовые «блоки». Поэтому и грамматических ошибок у них меньше: готовый «блок» уже содержит в готовом виде и хорошо отделанную строительную деталь, «балкончик» (например, верную падежную форму с соответствующим узуальным предлогом и флексией – на стадии, пока сам ребенок их конструировать еще не умеет). Разумеется, в строительстве этого «блочного дома» применяются и «кирпичики», т. е. в каких-то случаях ребенок пытается применить правило – отсюда и ошибки, формообразовательные и словообразовательные (хотя и нечастые), у экспрессивных детей. Между тем все же в основном эти дети строят из блоков. Возникает вопрос: весь ли «дом» экспрессивные дети строят из взятых из инпута «блоков»? Разумеется, нет. В этом нет необходимости. В любом многоэтажном доме – масса однотипных блоков. Экспрессивным детям нет нужды дожидаться, когда же инпут «поставит» им нужный блок. Они могут сами его воспроизвести, имитировать. При этом имитация (возвращаясь к лингвистическим терминам) совершенно не обязательно должна быть дословной, это может быть и «имитация конструкции», а это и есть основной путь постижения языка экспрессивными детьми: имитация и аналогическое конструирование. Если референциальные дети – в большей мере «генерализаторы», то экспрессивные, как мы полагаем, – в большей мере «имитаторы». Таким образом, возможно, природа позаботилась об этих экспрессивных детях. Они (напомним, обычно поздно заговорившие, однако при этом, подчеркнем, абсолютно нормальные в интеллектуальном плане) должны быстро нагнать своих сверстников с ранним речевым развитием, и в таком случае при конструировании своего «дома» получится быстрее и надежнее, если не возиться с мелкими «кирпичиками», а брать готовые «блоки».
2.3.3. Имя существительное или личное местоимение?
В качестве одного из центральных различий речи референциальных/экспрессивных детей в зарубежной литературе с самого начала упоминалась несклонность референциальных детей к использованию личных местоимений, замена их существительными – в отличие от склонности к личным местоимениям экспрессивных детей, которые с самого начала своей активной речи используют местоимения (почему их иногда называют еще «прономинальными» детьми). Иными словами, для референциальных детей характерны высказывания типа Маша хочет кушать (о себе), а для экспрессивных – Я хочу кушать (с самого начала). Любопытно, что многие взрослые люди, и даже специалисты, убеждены в том, что замена местоимений существительными характерна для всех детей. Забегая вперед, отметим, что в речи некоторых детей (экспрессивных), действительно, местоимения появляются очень рано, а этапа замены местоимений существительными просто нет. Безусловно, такое различие не может быть случайным, что и заставляет задуматься над его причинами.
Итак, самый факт, что многие дети поначалу, говоря о себе, используют не местоимение 1 л., а свое личное имя (не я хочу, а Петя хочет), не подлежит сомнению. Вопрос заключается не в том, действительно ли дети это делают, а в том, почему они это делают. Ответ на этот вопрос представляется на первый взгляд достаточно очевидным: не будучи поначалу в состоянии осознать дейксис, рече-ролевую функцию местоимения (с лингвистической точки зрения), а также не вычленяя еще себя из окружающего мира и воспринимая себя как бы с точки зрения (психологической) других людей, ребенок создает временную защиту, позволяющую обозначать себя понятным для собеседника образом и при этом обходиться без выбора, как себя обозначить: я или ты, – до тех пор, пока этот выбор он еще осуществлять не может. Что же касается взрослых, они интуитивно помогают ребенку создать эту защиту, помогают найти, подсказывают ту речевую форму, при которой ребенок может пока обходиться без решения вопроса о дейктической функции местоимений. На ранних этапах, как известно, взрослые часто говорят ребенку, к примеру, не Ой, как ты хорошо прыгаешь, а Ой, как Петя хорошо прыгает. Взрослые даже изображают перед ребенком нечто типа диалогов, подсказывая ребенку его речевую реакцию: Это кто сломал? – Это Петя сломал.
Вместе с тем, как выясняется, такие замены местоимений существительными характерны не для всех детей (только для референциальных), и, соответственно, в исследовании вариативности речевого онтогенеза обойти эту проблему просто невозможно.
Для того чтобы понять причины этих различий, следует сначала хотя бы коротко (подробнее см. [Доброва 2003; 2005]) обсудить вопрос о том, как вообще дети осваивают личные местоимения, как они «догадываются», что о себе надо говорить я, а о собеседнике ты: ведь они не могут здесь просто имитировать речь собеседника, который использует эти слова релятивной семантики, эти «шифтеры», как бы «наоборот», употребляя я по отношению к себе, взрослому человеку, и ты – по отношению к ребенку.
В начале 1980-х гг. возникли исследования, в которых высказывалась парадоксальная, на первый взгляд, идея – предположение о том, что дети на начальноми этапе могут продуцировать личное местоимение, не понимая его значения. Так, Р. Чарни [Charney 1980], исходя из того, что освоение местоимений неразрывно связано с освоением диалога, пришла к выводу, что использование и понимание местоимений ребенком обусловливается его речевой ролью. Так, по мнению Р. Чарни, на начальном этапе, когда ребенок выполняет речевую роль говорящего, он продуцирует личное местоимение 1-го л., но не понимает его значения. В то же время, выполняя речевую роль слушающего, ребенок понимает местоимение 2-го л., но не использует это местоимение в продуцировании. С точки зрения Р. Чарни, ребенок в усвоении личных местоимений 1 и 2 л. проделывает следующий путь: от незнания – к освоению личных местоимений как привязанных только к определенной личности, затем – к пониманию зависимости личного местоимения от речевой роли, но только по отношению к самому себе, и лишь потом – к нормативному пониманию зависимости выбора местоимения от речевой роли. Что же касается местоимения 3 л., то, по данным Р. Чарни, здесь ребенок не проходит этапа, на котором местоимение привязывается только к определенной личности.
Выводы Р. Чарни были подвегнуты критике в работах С. Чиат [Chiat 1981; 1986]. В своих исследованиях С. Чиат исходит из посылки, что при освоении местоимений дети обязательно должны создать лингвистическую генерализацию. Основной причиной взаимозамен местоимений 1 и 2 л. С. Чиат считает не то обстоятельство, что ребенок не может отличить себя от собеседника концептуально, а то, что ребенок совершает генерализацию, объединяя я и ты в общий концепт участника беседы. Существенное место в работах С. Чиат занимает полемика с вышеизложенными положениями работ Р. Чарни. Так, С. Чиат в принципе не соглашается с положением Р. Чарни, что ребенок может понимать ролевую функцию местоимения, но только применительно к самому себе, т. е., например, что ребенок может осознать: о самом себе он должен говорить я, но в то же время не понимать, когда то же самое по отношению к себе самому делает кто-то другой. Аргументация С. Чиат такова: ребенок должен был откуда-то понять, что о самом себе надо говорить я, а понять это он мог, только совершая генерализацию, наблюдая, как это самое делали другие люди. Разумеется, эта логика выглядит весьма убедительно, однако, забегая вперед, отметим, что мы с нею согласиться не можем по одной причине: материал лонгитюдных наблюдений за речевым поведением русских диад мать-ребенок показывает, что в некоторых случаях прослеживается совсем иной путь постижения ребенком необходимости говорить о себе я (путь, при котором мать обучает этому ребенка, а он это усваивает – без всякой генерализации), что ставит под сомнение данный вывод С. Чиат.
Соответственно, поскольку практический материал показывает, что есть дети, для которых не характерна стадия замен местоимений существительными, возникает вопрос: если дело обстоит подобным образом – так, как это представляется С. Чиат, – то почему тогда не все дети проходят подобную стадию, почему имеются дети, которые с самого начала, как только начинают говорить, называют себя не по имени, а используют личное местоимение я? В упоминавшейся выше научной литературе, посвященной вопросу о существовании детей не только референциальных (номинативных), но и экспрессивных (местоименных), четкого ответа на этот вопрос мы не находим.
Обратимся к имеющимся в нашем распоряжении фактам речи детей, находящихся в указанном отношении на крайних «полюсах» (заметим, что здесь и далее мы опираемся на записи речи детей, произведенные с весьма различной степенью подробности, вследствие чего не всегда можем быть абсолютно уверены в том, что имеющиеся в нашем распоряжении использования местоимений действительно являются первыми у данного ребенка; в особенности это касается речи Поли С. и Тани К; записи же речи других детей, например, Вари П., настолько подробны и тщательны, что на них мы можем полагаться с абсолютной уверенностью). Так, Варя П. с самого начала речевой активности называла себя по имени и только по имени: например, Варенька читать (читает) (Варя П., 1;3.7), Варенька бай-бай (хочет спать и ложится) (Варя П., 1;3) и т. д. Склонность данного ребенка называть себя по имени является настолько сильной и отчетливой, что сохраняется весьма долго: так, даже достигнув возраста 1;7 (сам по себе возраст небольшой, но Варя в этом возрасте говорит уже очень хорошо), она в основном говорит о себе, используя личное имя.
Речевая стратегия других детей в указанном отношении может быть совсем иной. Так, первые же из зафиксированных реплик Иры Л. содержат личное местоимение я: А эту, я эту, эту, эту (тянется к другой книжке) (Ира Л., 1;7.15); Мама: А кто порвал книжку? – Ира: Я (Ира Л., 1;7.15) и т. п. При этом такие дети исключительно последовательны в использовании местоимения 1-го л. по отношению к себе: так, ни в одной имеющейся записи речи Иры Л. от 1;3 до 2;2.6 она ни разу (!) не назвала себя по имени. Разумеется, не все дети могут быть столь бесспорно отнесены к группе называющих себя с помощью имени или же с помощью личного местоимения. Так, в речи Сени Ч. уже две первые конструкции, обозначающие себя как субъект действия, – прямо противоположны в интересующем нас отношении: Сеня какает в горшок (Cеня Ч., 1;7.7) и Я везу (Сеня Ч., 1;7.15). Отметим, что у некоторых детей, когда в речи с самого начала сосуществуют обе формы самореференции, мы обнаруживаем функциональные или коннотативные различия этих форм (подробнее см. [Доброва 2003: 133–139]). Возможно, что для русских детей даже более показательно сравнение детей не по первым употреблениям я или соответствующей формы личного имени (им. пад.), а по тому показателю, какая форма в их речи появляется первой – косвенно-падежная форма местоимения (мне, у меня и др.) или же косвенно-падежная форма имени (Пете, у Пети). Если мы сравним наших информантов по этому показателю, то разделение детей окажется более рельефным: с формы мне, у меня и т. п. явно начинали Женя М., Поля С., Сеня Ч., Ира Л. и Кирилл Б.; с форм типа Пете, у Пети, безусловно, начинали Таня К., Аня С., Варя П. и, вероятно, Ваня П. (неуверенность в последнем случае объясняется малым количеством информации об этом периоде его развития). Только в отношении Фили С. выводы представляются неоднозначными, что мы объясняем несколько специфическим речевым поведением его матери, постоянно побуждавшей ребенка то произносить я (Скажи я…), то произносить личное имя (Скажи Филя…).
Итак, достаточно очевидным можно признать факт, что есть дети, которые с самого начала называют себя по имени, и есть такие, которые, начав говорить, сразу используют личные местоимения (при том, что многие дети представляют собой как бы «смешанный тип»), что согласуется с делением детей на два основных типа. Так, Варя П., действительно, похожа на «классического» референциального ребенка, а Ира Л., напротив, – на экспрессивного.
Итак, почему же одним детям требуется слово-«помощник» (личное имя) для осуществления начальной коммуникации, а другим – не требуется?
Во-первых, мы полагаем, что ответ на этот вопрос, возможно, следует искать в возрасте, когда каждый конкретный ребенок начинает говорить. Обратим внимание на то, что использующие по отношению к себе на ранних стадиях личное имя дети – это дети, рано заговорившие, в то время как с самого начала использующие личное местоимение дети – это обычно дети, заговорившие поздно. Представляется, что картина такова: имеются дети, начинающие говорить рано, в целом их речевое развитие, что называется, «не по возрасту». Однако, по-видимому, существуют какие-то языковые явления, которые ребенок, даже рано развивающийся, до определенного возраста освоить не в состоянии, что предопределяется слишком сложными для данного возраста психическими процессами, которые требуются ребенку для усвоения этих фактов языка. К таким – недоступным с точки зрения психологии на ранней стадии возможностям – относится возможность понять наличие различных точек зрения – как пространственных, так и рече-ролевых, в диалоге. Поэтому-то рано заговорившие дети нуждаются поначалу в использовании личного имени для самореференции (привычку к чему некоторые из них могут сохранять относительно долго). Отметим, что данная субституция, очевидно, как показывают записи, не тормозит речевого развития ребенка в других отношениях, поскольку не препятствует коммуникации, а, напротив, дает ребенку возможность спокойно «оглядеться» и, когда психологически ребенок будет к этому готов, разобраться в дейктической функции местоимений. Если же ребенок начинает говорить относительно поздно, то он к этому моменту психологически уже вполне готов осознать дейктическую функцию местоимений 1-2 л., что он и демонстрирует с самого начала продуктивной речи. Вспомним при этом, что референциальные дети обычно начинают говорить рано, а экспрессивные – позднее (хотя, разумеется, могут быть и какие-то исключения; это вовсе не «жесткий закон»).
Во-вторых, можно предложить и еще одно объяснение. Бесспорно, что часть детей заменяет на начальном этапе местоимения 1-2 л. существительными. Другие дети, казалось бы, этого не делают. Однако нельзя ли предположить, что, используя с самого начала своей речи эти местоимения, дети второго типа (если они не относятся к числу особенно поздно заговоривших) «внутренне» превращают их в существительные, т. е., сохраняя «оболочку» местоимения, превращают их, по сути дела, в существительные (лишают дейктичности, прикрепляя, например, «я» лишь к себе, тем самым превращая его в нечто типа личного имени), избегая необходимости осознания дейксиса таким путем? Иными словами, мы предполагаем, что это местоимение я, так рано появляющееся в речи некоторых (экспрессивных) детей, не является истинным местоимением – в первую очередь, с точки зрения грамматики. Да и как это «местоимение» может быть «грамматическим знаком» на этапе, когда продуктивной грамматики у ребенка еще нет? Дело в том, что на раннем этапе речевого онтогенеза продуктивной (активной) грамматики нет еще ни у референциальных, ни у экспрессивных детей, только проявляется это по-разному: у референциальных детей – в «телеграфном стиле» (см. выше – слова в первоформах, без служебных частей речи), а у экспрессивных детей (наряду с какими-то отдельными проявлениями «телеграфного стиля») – в наличии «готовых», взятых из инпута конструкций, не сконструированных самостоятельно. Если принять это утверждение, становится понятным, как может появиться местоимение в речи экпрессивных детей так рано – на «дограмматической» стадии.
В таком случае получается, что при освоении персонального дейксиса дети в любом случае поначалу избегают дейктических элементов (только у одних детей это находит формальное выражение, а у других «прячется» в форме как будто бы дейктического элемента). Такое предположение соответствует выдвигавшейся нами гипотезе [Доброва 2003; 2005] о следующем пути освоения шифтеров (не только личных местоимений, но и, например, терминов родства) детьми: от «ярлыка» – к эгоцентрическому восприятию и лишь затем – к узуальному восприятию. Правда, в случае с личными местоимениями, возможно, этап «ярлыка» и этап эгоцентрического восприятия местоимения (тоже «ярлыкового» по своей сути) могут существовать или по принципу «либо – либо» или же сосуществовать.
Наконец, можно выдвинуть и еще одно предположение: возможно, это речевая стратегия матери влияет на то, использует ли ребенок на ранеем этапе своего развития местоимения или заменяет их существительными.
Неверно было бы полагать, что существует прямая зависимость между частым/редким использованием местоимений в речи матери и соответствующим их использованием ребенком. Однако характер речи ребенка вообще определяется двумя основными факторами – его собственными предрасположенностями и речевым поведением матери, что, в частности, касается и освоения ребенком системы личных местоимений: последовательности, речевых предпочтений, скорости освоения и др. Мать, наверное, не может принципиально изменить того, что заложено в ребенке, однако ее речевое поведение может способствовать развитию каких-то тенденций или, напротив, препятствовать их развитию. Обратимся, например, к речевой стратегии матери Фили С. Эту мать скорее можно отнести к типу «директивных»: в ее речи отмечено большое количество императивов и других средств социальной регуляции поведения ребенка, она постоянно пытается заставить его произнести то или иное слово, повторить за ней ту или иную конструкцию (Скажи…), подолгу настаивает на своем. Так она добивается, чтобы ребенок говорил о себе я, и в конечном итоге достигает своей цели: Филя начинает произносить я, но на первых порах это всего лишь эхоимитации, которые, казалось бы, мало в чем способствуют продвижению ребенка вперед. Между тем вскоре ребенок начинает использовать местоимение я и самостоятельно: очевидно, постоянно заставляя ребенка повторять за ней местоимение, мать все же способствовала усвоению его в первичной, индексальной функции.
Этот вывод позволяет нам добавить свои аргументы к описанной выше дискуссии между С.Чиат и Р. Чарни: может ли ребенок понимать ролевую функцию местоимения, но только применительно к самому себе, в то же время не понимая, если то же самое делает по отношению к себе самому другой человек (например, говорить о себе я, но не понимать, о ком идет речь, если о себе говорит я другой человек). Может ли ребенок понять, что о себе он должен говорить я, каким-то иным путем, кроме как путем генерализации? Пример с Филей, как нам представляется, показывает, что дети могут в каких-то случаях получать представления о том, что они должны говорить о себе я не только за счет произведенной самостоятельно генерализации, но и «в готовом виде», если мать будет, например, придерживаться такой речевой стратегии: произносить какие-то реплики как бы от имени ребенка, с использованием местоимения я, заставляя его их повторять и тем самым привыкать к использованию этого местоимения по отношению к себе в речи.
Что же касается того, понимает ли при этом ребенок ролевую функцию местоимения я только по отношению к самому себе или же и по отношению к другим, – на этот вопрос ответить может только эксперимент. Такой эксперимент был проведен нами в 1995–1997 гг. с 39 детьми 17–37 месяцев. Он проверял как восприятие детьми местоимений 1 и 2 лица единственного числа, так и способность их к адекватному продуцированию этих местоимений. Например, экспериментатор, мама и ребенок рисовали картинки, после чего ребенок должен быть ответить на вопросы: Какую картинку нарисовал ты? Какую картинку нарисовала я? – проверка адекватности восприятия местоимений. Способность же детей правильно использовать местоимения я/ты проверялась вопросами типа Кто держит в руках зайца?. Обнаружилось, что на стадии, которую мы назвали стадией эгоцентрического восприятия местоимений, дети могут адекватно использовать местоимение я (Кто держит зайчика? – Я – когда держит его сам ребенок), но не уметь соотносить это местоимение с соответствующим денотатом, когда слово я произносит другой человек (например, на вопрос экспериментатора Какую картинку нарисовала я? – указывать на картинку, нарисованную им самим или его мамой). Таким образом, результаты показали, что дети начинают с понимания только местоимения ты, а произносят сначала только местоимение я, что является иллюстрацией детского эгоцентризма и показывает, что на самых начальных стадиях личные местоимения воспринимаются детьми как жесткие десигнаторы, референциально закрепленные только за самим ребенком, а не как дейктические знаки (интересующихся отсылаем к [Доброва 1999: 20–21; 2003: 118–128]).
Таким образом, очевидно, наряду с генерализацией, существует и иной путь постижения семантики слов, даже таких неординарных, как слова с релятивной семантикой. Идущий по этому пути ребенок опирается не столько на логику мышления, сколько на имитацию.
Данный вывод позволяет нам понять причину, почему референциальные дети вынуждены на раннем этапе своего речевого развития заменять личные местоимения существительными, а экспрессивные обходятся без этого, с самого начала используя местоимения. Основным механизмом освоения языка для референциальных детей является генерализация, а для экспрессивных – имитация (а также дифференциация), о чем подробно пойдет речь в Главе 7, посвященной базовым и вспомогательным механизмам освоения языка в аспекте вариативности речевого онтогенеза. Референциальному ребенку, действительно, чтобы начать использовать личные местоимения, требуется (как это отмечает С. Чиат) совершить генерализацию – понять, что говорящий говорит о себе я, а о собеседнике ты, а слушающий должен воспринимать я как обозначение собеседника, а ты – как обозначение слушающего, адресата речи. Разумеется, на самом раннем этапе на такую генерализацию дети (даже «продвинутые» референциальные) неспособны, почему и вынуждены прибегать к субституции личных местоимений существительными. Экспрессивные же дети находятся в другой ситуации. Генерализация – не их сильная сторона, зато их сильная сторона – имитация. Они слышат, что люди говорят о себе я. Правда, одного восприятия недостаточно, чтобы ребенок стал имитировать такое речевое поведение. Однако если к этому добавляется соответствующая стратегия матери, как бы обучащей своего ребенка использовать по отношению к себе я (Скажи: Я хочу…), ребенок начинает использвать личное местоимение – сначала в качестве эхо-имитаций[18 - Упомянутые выше результаты наблюдений за спонтанной речью детей и эксперимента, как можно видеть, привели нас к выводу о возможности для детей имитации без понимания (о чем мы и писали в вышеуказанной монографии еще в 2003 г.). Возможность имитации с пониманием и без понимания обсуждали такие зарубежные исследователи, такие как [Clark 1977; MacWhinney 1982; Snow 1981] и др. В отечественной онтолингвистике также немало сторонников того, что у детей возможна имитация и без понимания. Так, М. Д. Воейкова указывает на то, что на раннем этапе речевого развития ребенка адекватное употребление грамматических конструкций возможно до осознания соответствующих значений, оно не сознательно, осуществляется без понимания, в силу подражания взрослым [Воейкова 2011: 12].], повторяя за матерью, а затем и самостоятельно. Насколько это местоимение на самом деле является местоимением – это другой вопрос (как отмечалось выше, мы полагаем, что оно на самом деле не является таковым, поскольку является жестким десигнатором, привязанным к одному референту – самому ребенку, почему мы и считаем, что оно скорее функционально ближе к существительным, к личным именам – подробнее в [Доброва 2003: 152]), однако формально – это личное местоимение. В этом мы и видим причину ранней возможности для экспрессивных детей использовать личные местоимения.
2.4. Различия в области фонологии
Различия в области фонологии представляются нам очень существенными – как потому, что они действительно очень реальны и ощутимы, так и потому, что их легче и быстрее всего «измерить» в эксперименте.
Одно из бросающихся в глаза различий – это то, что у экспрессивных детей на ранних этапах наблюдается «каша во рту», т. е. не просто сложно разобрать, что именно они сказали, но и сложно соотнести произносимые ими звуки с теми или иными фонемами или их оттенками. Данное различие вовсе не означает, что речь референциальных детей всегда легко понять – просто произносимые ими звуки существенно легче атрибутировать.
В качестве следующего различия Э. Бейтс с соавторами отмечают наличие/отсутствие «фонологического постоянства», т. е. (дословно по Э. Бейтс) «произносит или нет ребенок данный тип слов одинаковым образом». Поскольку более точных указаний на то, что и как в этом отношении измерялось американскими исследователями, мы не обнаружили, то позволили себе разработать собственную систему проверки.
Во-первых, мы измеряли «фонологическое постоянство» в субституции согласных. Проверялось, как на данном синхронном срезе ребенок заменяет трудные для него согласные. Практически субституция согласных наблюдается в речи всех детей, это известное явление (подробнее см., например, в [Доброва 2011б]), однако в данном случае вопрос заключается в том, насколько последовательно ребенок заменяет требующийся звук другим. Естественно, речь идет только о синхронном срезе: на протяжении речевого развития ребенка, разумеется, один субститут может меняться на другой. В данном же случае имеется в виду субституция, например, в пределах одного дня или даже одной десятиминутной видеозаписи, т. е. наличие/отсутствие «единомоментного» постоянства в субституции.
Так, в речи экспрессивных детей один и тот же звук в равноценных фонетических позициях в течение нескольких минут может несколько раз замениться по-разному. К примеру, в одной и той же записи речи Кати С. (2;6 – эксперимент с 36 детьми) звук [ш] заменялся то звуком [с] (*/ку?саит/ – кушает и т. п.), то звуком [с’] (*/с’а?ик/ – шарик и др.), а один раз вообще был произнесен правильно (*/ху?ша/ – хрюша).
В речи же референциальных детей обычно наблюдается постоянство субституции – один и тот же звук последовательно заменяется одним и тем же (на данном синхронном срезе, т. е. в пределах именно данной «промежуточной» фонологической идиосистемы). Например, в том же эксперименте Юля Ч. (2;2) всегда заменяет [ч’] на [т’]: /т’ит’а?т’/ – читать, /т’ипал’и?на/ – Чипполино и даже / маму?н’ит’ка/ – мамулечка, где тот же звук встретился не в изолированном виде, а в составе кластера.
Разумеется, сказанное не означает, что в речи экспрессивных детей никогда не наблюдается постоянства субституции согласных, а в речи референциальных детей оно наблюдается всегда: и в речи экспрессивных детей какие-то звуки могут заменяться последовательно, и в речи детей референциальных в каких-то случаях может встречаться непоследовательность. Поэтому достаточным основанием для определения наличия/отсутствия постоянства в субституции мы считали процентный показатель – наличием постоянства мы считали 70 и более процентов случаев постоянства. Впрочем, чаще всего 70 % «рубеж» был условным, т. к. у большинства детей постоянство наблюдается либо в очевидном большинстве случаев, либо не наблюдается – тоже в очевидном большинстве случаев.
Во-вторых, мы измеряли постоянство в упрощении кластеров – опять же на синхронном срезе. Если для речи взрослых характерно упрощение кластеров, состоящих из 4-х и 3-х согласных, то дети в этом плане идут еще дальше, сокращая также и кластеры из двух согласных. Как показывают данные экспериментов, имеются кластеры, которые все дети упрощают обычно однотипно. Так, в кластерах, содержащих звуки [р], [р’] в сочетании и со щелевыми, и со смычными, на стадии, когда дрожащие еще не артикулируются, выпадает, естественно, дрожащий: */дуго?j/ – другой, */кава?т’/ – кровать, */ папа?л/ – пропал. В сочетании «щелевой + смычный» у большинства детей, если происходит упрощение кластера, то выпадает щелевой (на это указывал еще А. Н. Гвоздев [Гвоздев 2007: 125]): */п’иjо?т/ – вперед, */до?га/ – долго, */тут’и?т/ – стучит, */н’игав’и?к/ – снеговик и т. д. – мы специально привели примеры разных кластеров ([ф’п’], [лг], [ст], [сн’]), содержащих различные щелевые (как серединные, так и латеральные) и различные смычные (как взрывные, так и носовые), находящихся при этом в разных позициях в слове – в абсолютном начале слова и не в абсолютном начале, – чтобы подчеркнуть последовательность тенденции к сокращению кластеров «щелевой + смычный» за счет «выбрасывания» щелевого у различных детей. При этом имеются кластеры, которые дети могут упрощать по-разному. Так, в сочетании двух смычных, в том числе смычных носовых (например [кн’]), может выпадать как первый, так и второй (и /н’и?с’ка/, и /к’и?с’ка/– книжка). В сочетании двух щелевых (например, [хл’]) может также выпадать как первый, так и второй (и */хэ?п/ и */лэ?п/– хлеб). Такие кластеры более интересны для проверки наличия/отсутствия различий у референциальных и экспрессивных детей. Как показали результаты, различия, действительно, имеют место. Например, в сочетании двух смычных у экспрессивного Ярослава Ш. (эксперимент с 19 детьми 1;8–3;0) в одной и той же записи встретились 2 варианта упрощения кластера – и */мога/ и */но?га/ (много). Данный пример интересен тем, что упрощены по-разному не просто однотипные кластеры, а один и тот же кластер ([мн]), причем в одном и том же слове. У референциальной же Ани Ф. (2;7 – эксперимент с 36 детьми) фиксируем: */ба?т’ик/ – бантик, */д’э?/ – где, */ат’э?ка/ – аптека, т. е. наблюдается единообразие в упрощении кластеров «смычный + смычный» ([н’т’], [гд’], [пт’]) (выпадает первый из них), причем, что интересно, кластеры эти в значительной степени различны – они могут содержать только смычные взрывные или также и носовые, могут находиться как в абсолютном начале, так и в середине слова.