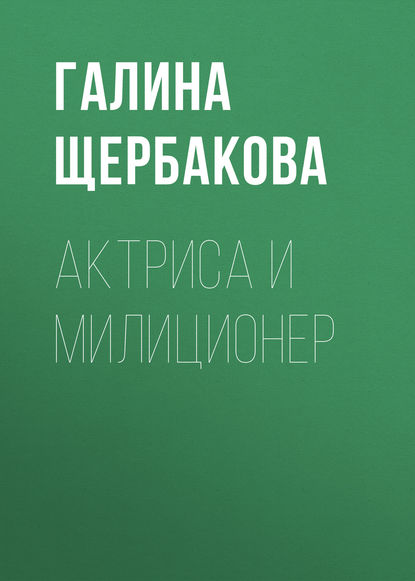По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Актриса и милиционер
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– У него на чердаке было место. Матрац и даже столик… Вот несчастные люди с девятого этажа, вот несчастные. Мог ведь их поубивать! – Люсе нравилась грозящая другим опасность. Даже жаль, что «разбойника» нет, хорошо бы он попугал девятиэтажников, как ее пугает улица. Хорошо, чтобы что-то случилось с другими. Ужас вокруг странным образом успокаивал Люсю, придавая этим как бы большую крепость ее замкам и решеткам. Но так мгновенно кончилась замечательная история. Человек разбился, а милиция тут же нашла, откуда он выпал…
Люся смотрела на Нору и думала, что хорошо бы и с этой артисткой что-нибудь случилось – нет, она к ней, можно сказать, даже хорошо относится, но если выбирать, то пусть убьют артистку. Какой от них прок людям? Не сеют, не пашут, не пробивают в кассе лекарства. Люся смотрит на Нору, Нора смотрит на Люсю.
«Какая сука! – думает Нора. – Такая сука!»
И разошлись. В тот вечер Нора играла Наталью в «Трех сестрах». Она всегда не любила эту роль, хотя ей говорили, что она у нее лучшая. Ну да! Ну да! Наталья – фальшивая обезьяна. Обезьянство обезьянски обезьянное. «Бобик!», «Софочка!» Фу…
В финале, говоря последние по пьесе Натальины слова: «Велю срубить эту еловую аллею… Потом этот клен… Велю понасажать цветочков, цветочков, и будет запах…», – увидела глаза актера, игравшего Кулыгина, и так закричала «Молчать!», что тот реплику «Разошлась!» сказал как бы не по пьесе, а по жизни. Это она, Нора, разошлась, тут финал, тут сестры сейчас будут высевать во все стороны разумное, доброе, вечное, а она Нора-Наталья как будто забыла, что она тут не главная. Натянула на себя одеяло и закончила пьесу тем, что сказала всем: «Молчать!», – хотя столько-то других слов и такие туда-сюда мизансцены.
Но теперь все так торопятся, что никто, кроме напарника, не заметил ее разрушений. Не пришлось, оправдываясь, объяснять, что с ее балкона разбился человек, что никто про это ничего не знает, хотя у милиции есть улика – ярко-оранжево-зелено-желтое ее, Норино, полотенце.
Она рассказала все Еремину (Кулыгину), с которым не то дружила, не то крутила роман – одним словом, имела отношения, в которых можно рассказать то, что не всем скажешь.
– Знаешь, – сказал Еремин, – перво-наперво почини перила, а потом сразу забудь. В милицию не ходи ни в коем разе. Это последнее место на земле, куда надлежит идти человеку. Даже при несчастье, даже при горе… Вернее, при них – тем более. Сию организацию обойди другой улицей.
– Но он был на моем балконе!
– А тебя при этом не было дома. Тебя, как говорится, там не стояло.
– Если так подходить… – возмутилась Нора.
Но Еремин перебил:
– Не взвывай! Только так и подходить. Заруби на носу. Милиция. ФСБ. ОМОН. Армия. Прокуратура. Адвокатура. Суд. Что там еще? Беги их! Они – враги. По определению. По назначению. По памяти крови и сути своей.
– Окстись, – сказала Нора. – Я без иллюзий, но не до такой же степени!
– До бесконечности степеней, – ответил Еремин. – Пока не умрет тот последний из них, кто уверен, что имеет над тобой право.
– Ванька! – засмеялась Нора. – Так тебя ж надо выдвигать в Думу.
– Я чистоплотный, – сказал Еремин. – А ты, Лаубе, теряешь свой знак качества. Ты, Норка, читаешь советские детективы.
– Нет, нет и нет… Неграмотная я…
Но всю дорогу из театра она продолжала этот разговор с Ереминым, а когда пришла, то, несмотря на ночь, позвонила в милицию, что хочет завтра видеть участкового по поводу… Тут она запуталась в определении, замекала и положила трубку.
Ночью ей снился сон. Она меняется квартирой с Люсей, и та требует приплату, что с ее второго этажа лучше виден упавший. «Смотри! Смотри!» Люся тащит ее на свой балкон, и Нора хорошо видит затылок мужчины, заросший густо, по-женски. «Бомжи не ходят в парикмахерскую», – думает она. «Отсюда и вши, – читает ее мысли Люся. – Но до второго этажа они не дойдут. У вшей слабые конечности».
На этом она проснулась. «Затылок, – подумала. – Я его почему-то знаю». «Дура, – ответила себе же. – Такую кудлатую голову носит, например, наша прима. Вечные неприятности с париком. Он ей мал, и прима по-крестьянски натягивает парик на уши. И делается похожа на мороженщицу у театра. Та тоже тянет на уши шапку из песцовых хвостов… А потом делает этот странный дерг бедрами – туда-сюда… И вороватый взгляд во все стороны – видели? Не видели? Что я крутанулась вокруг оси?» Нора не раз приспосабливала жесты мороженщицы к своим ролям. Очень годилось, очень… Пластика времени… Подергивание и растягивание. Загнанный в неудобные одежки совок. Человек не в своем размере. Совершенство уродства. Господи, сколько про это думалось! «Эта Лаубе свихнется мозгами!»
Так вот… Затылок… «Я знаю этот затылок в лицо», – подумала она снова.
18 октября
Милиционер пришел сам. Надо же! Именно накануне у них в участке опробовали телефон-определитель, он срабатывал через два раза на третий, но ее звонок был как раз третьим. Участковый пришел в их подъезд по вызову: семейная драка в квартире шестнадцать. Звонили из семнадцатой – у них от шума вырубился свет. Участкового звали Витей – нет, конечно, он был Виктор Иванович Кравченко, но на самом деле все-таки Витя, даже скорей Витёк. Он приехал из Ярославской деревни, где работал механиком. Но тут механизмы кончились, председатель все спустил по миру, а то, что осталось, «уже не подлежало ремонту». Эти слова Витя прочитал в акте по списанию механизмов, и они вошли в него одним словом: «неподлежалоремонту». Теперь Витёк работал в милиции, жил в общежитии и не переставал удивляться разности жизней там – в деревне – и тут – в столице. Конечно, он бывал в Москве, и не раз, в Мавзолее бывал, на ВДНХ, ездил туда-сюда на водном трамвае, в метро познакомился с девушкой из Белоруссии, тоже деревенской, они стали писать друг другу письма, а потом почта «накрылась медным тазом». Жаль девушку. Такая беленькая-беленькая. Ресницы такие редкие-редкие, но длинные-длинные. Существующая по отдельности ресница (один волос) очень волновала Витю, ему были еще плохо известны эти беспокойные толчки внутри себя, и он старался положить этому конец, так как не любил, когда в душе что-то тянет, а отдается в другом месте… И он даже написал ей, что «нашу дружбу нельзя считать действительной, ибо никак…» Последние два слова повергли его в такое сердцебиение, что письмо пришлось порвать, но «ибоникак» (тоже пишется и звучит вместе) почему-то в нем осело на дно и стало там (где? где осело?) укореняться.
Но это когда было! Он тогда приезжал в Москву гостем, а сейчас он тут замечательно работал, жил в хорошей теплой комнате с таким же, как он, милиционером из Тамбова. Ничего парень, только очень тяжел духом ног. Витя старался держать форточку открытой – ибоникак.
Так вот… Он позвонил Норе в девять утра, откуда ему было знать, что в такое время артистки еще не встают, это не их час. Но он ведь понятия не имел, что она артистка. Знал бы – сроду не пришел.
Нора едва запахнула халат и впустила Витька. Пока поворачивался ключ, он громко сглотнул сопли и сделал выражение приветливости при помощи растягивания губ. «Улыбайте свое лицо», – учил их капитан-психолог на краткосрочных курсах. Москва тогда напрягалась к юбилею, и это было важно – не отпугивать лицом милиции страну людей.
Дальше все полетело к чертовой матери. Нора открыла дверь. А когда она это делала, то всегда рисовалась на фоне афиши кино, где еще в младые годы сыграла маленькую, но пикантную роль легконравной женщины, которая во времена строгие позволяла себе, заголив ногу, застегивать чулок (дело происходило до войны и до колготок) в самой что ни на есть близости к табуированному месту. Длинные Норины ноги толкали сюжет кино в опасном направлении, и тем не менее это было снято и показано! И в чем и есть главный ужас искусства – осталось навсегда. Недавно фильм демонстрировали по телевизору, и, конечно, никто ничего не заметил, тоже мне новость: три секунды паха и кромки трусов. Даже детям это уже давно можно смотреть. Но Витя, человек по природе здоровый и не испорченный душевно, был – по кино – очень на стороне мужчины, которого эта женщина без понятий волокла к себе грубо и без всяких яких. Он остро пережил этот момент насилия над мужским полом и момент его потрясения нечеловечески красивой ногой, ведущей простого человека в самую глубь порока.
А тут возьми и откройся дверь, и Нора стоит в халате, по скорости одевания не тщательно запахнутом, и даже где-то чуть выше колена белеется то самое тело, и можно всякое подумать, опять же афиша не оставляет сомнения, что он видит то, что видит, а потом Витёк наконец подымает глаза на Нору.
«Надо убрать эту чертову афишу», – думает Нора, глядя, как странно меняется лицо парня. От обалдения до еще раз обалдения. «Да, милый, да! У тебя есть другой способ жизни, кроме как старение?» Норе думалось, что это его потрясло. Ее сегодняшний возраст.
– Участковый уполномоченный Виктор Иванович Кравченко, – прохрипел Витя.
– Заходи, Иванович, гостем будешь, – насмешливо сказала Нора.
Был момент приседания милиционера от еще одного крайнего потрясения. На диване лежало постельное белье, и было оно в шахматную клетку. На квадратиках были изображены фигуры, и они как бы лежа играли партию. Вите даже показалось, что королю шах – для точности знания надо было бы распрямить простыню, примятую телом женщины. Вот на этом он слегка и присел, чудак-милиционер, выпускник самых краткосрочных в мире курсов. «Улыбайте свое лицо!»
– В кухню! – сказала Нора, закрывая дверь в комнату. – Вы пришли очень рано. Да… Рано… Это по поводу случая в подъезде?
– Я по поводу вашего звонка, – строго сказал Витя.
– А! – засмеялась Нора. – Вычислили…
Витя не понял. Ему сказали: «Был сигнал с такого-то номера. Будешь в доме – проверь». Лично он ничего не вычислял.
– Дело в том, – сказала Нора, – что тот человек сломал мне балкон и под ним было мое полотенце. Это можно как-то объяснить?
– Можно, – ответил Витя. – Произошло задевание ногой.
Нора смотрела на молодое, плохо выбритое лицо. Угри на лбу и на крыльях носа. Дурацки выстриженные виски. След тугого воротничка на молодой белой шее. Странно нежной. Разве милиционеру гоже иметь нежную шею? Гость же тщательно скрывал несогласие с миром вокруг, то есть с кухней, ее, Нориной, кухней. «Несогласие побеждает в нем интерес, – думает Нора. – Очень смешной».
– Вы из каких краев? – спросила она.
– Мы ярославские, – ответил Витя.
«Правильный ответ, – подумала Нора. – Если бы я спросила: „Ты из каких краев?“, он бы ответил: „Я ярославский“. Единственное и множественное числа у него не путаются.
– Так вот… – сказала она. – Он не мог задеть ногой полотенце.
– Кто? – спросил Витя. Он не поспевал за Нориной мыслью. Ей интересно то одно, то другое, но ведь сам он думает о третьем. Вот он сейчас был в шестнадцатой квартире, там не было никакой разницы с тем, что он знает про квартиры вообще. Диван. Стенка. Табуретки в кухне. Половик. Еще зеркало. В семнадцатой, правда, у него немного завернулись мозги. Трехэтажная кровать. Купе, одним словом. Он ехал из Ярославля на третьей полке. Противно. На спине – как в гробу, на боку – как в блиндаже. Семнадцатая ему не понравилась отношением к соседям. Если на каждый вскрик звать милицию…
«Есть люди отрицательного ума, – объяснял им капитан-психолог, – им все не нравится. Они желают жить на земном шаре в одиночестве. Только они и земной шар. С ними надо по жесткому закону. Есть и заблужденцы. Вот тут нужна чуткость сердца. Это контингент нашего поля зрения».
Витя не знает, что думать об этой кухне. Он не знает, как быть с женщиной, которая со стороны лица, тихо говоря, старая, а со стороны ноги, а также виденного кино вызывает в нем некоторое дрожание сосудов. А он этого не любит. (См. историю с девушкой из Белоруссии, которая отрастила каждую ресничку по отдельности, как будто нарочно, чтоб смущать людей. Капитан-психолог говорил: «Надо всегда идти от правила нормы».)
– Меня зовут Нора, – сказала Нора, и Витя подпрыгнул на стуле, потому как два слова сошлись и ударили лоб в лоб.
Норма и Нора.
Что за имя? Он не слышал никогда. Он путался в буквах, не имеющих для него смысла. И он разгневался. Но так сказать, это все равно что назвать па-де-де из всемирно известного балета Минкуса «Дон Кихот» словами «два притопа – три прихлопа». Гнев Вити был пупырчато-розовым и начинал взбухать над левой бровью. Мама, не ведая про рождение гнева, говорила: «Что-то тебя укусило, сынок. Потри солью». Одновременно… Одновременно ему хотелось что-то заломати. В детстве он ломал карандаши, на краткосрочной учебе – шариковые ручки. Капитан-психолог говорил, что это «нормальная разрядка электрического тока в нервах. Такой способ лучше, чем в глаз».