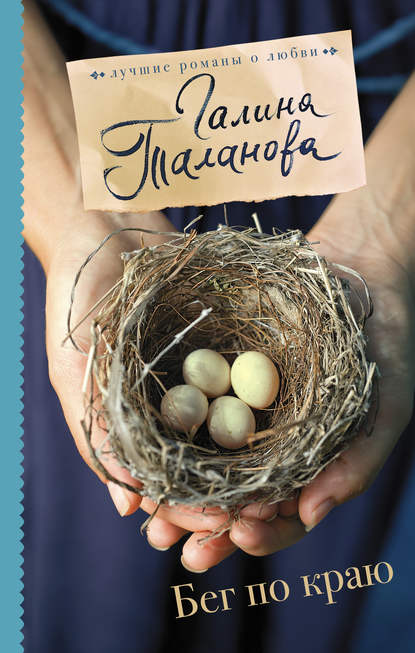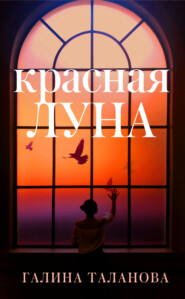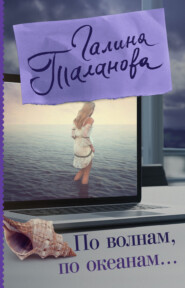По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бег по краю
Автор
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Снов в эту ночь ей не снилось. Сквозь рваное забытье она слышала, как муж лег спать, потушив свет. Темная ночь, в которой изредка возникали огненные вспышки огней, стала еще беспросветней. Яркие пятна фонарей слезились и удалялись, будто огни теплохода, идущего через ночь по темной реке. Только вот рыжие искры костра теплились где-то на том берегу, словно огоньки от сигареты в ночи.
Утром ее по-прежнему мутило. Лида была уже почти уверена, что беременна. Седая верткая врачиха, к которой она так не любила ходить, не рассеяла ее догадку. Значит, все. Петля затянулась. Не выпрыгнешь, прикована за ногу к опоре. Но это же хорошо! Значит, теперь она сможет хоть чуточку настаивать на своем, дергать мужа за веревочки, как куклу на шарнирах. Она же этого хотела. Теперь она точно останется в этом большом доме. У нее есть будущее. И она теперь никогда не будет одна, потому что ребенок – это ведь часть тебя, твоя кровинка. Она сможет его воспитать таким, чтобы было на кого опираться в жалкую старость и чтобы можно было им гордиться, а не опускать глаза. Она знает, что сможет. Но для этого ей придется запрятать свои амбиции и норов подальше. Ребенок не должен расти в доме, где живут в скандалах…
Она шла по осенней улице, улыбаясь внезапно вернувшемуся лету. Ягоды рябины уже поджигали сухие листья. Часть листочков свернулась черными огарками, другие, подхватив огонь, колыхались на ветру ровным, спокойным пламенем, напоминающим о том, что все в этой жизни конечно. Корявые тополя, стоявшие, как нищие, вдоль тротуара, – с обрубленными и скрюченными ветками, что все были изуродованы узлами от наплывающих опухолей в травмированных местах и напоминали скрюченные руки стариков, роняли заржавевшие листья на серый асфальт – и они летели, подхваченные легким дуновением ветра, мешаясь с самолетиками от кленов, объятые прощальным огнем…
Лида насилу пришла домой. Ноги стали свинцовыми – и она их с трудом переставляла, еле-еле отрывая от земли. В голове гудело, и снова в глазах серебрились блестки новогодней мишуры, и вновь к горлу подступала дурнота. Она тотчас легла, даже не раздеваясь, так как вся комната опять вращалась, стены наезжали на Лиду, грозя обрушиться, и ее нынешняя жизнь казалась ей нереальностью.
Она, опять вжимаясь в подушку и боясь пошевелить головой, постаралась провалиться в спасительное забытье. И снова сноп светящихся новогодних огней бил в глаза, но огни постепенно заволакивало каким-то то ли туманом, то ли дымом, полупрозрачным, размывающим фонари до гигантских размеров.
Она проснулась от шагов мужа по комнате, играющих на дощечках паркета. Открыла глаза, вспоминая, что же с ней произошло.
– Андрюша, – выговорила она откуда-то из глубины нутра, стараясь не двигать головой и не раздвигать губ. У нас ребенок будет, наверное. Я очень плохо себя чувствую. Андрей с минуту стоял в звенящей тишине, потом медленно опустился на кровать.
– Ты уверена?
– Да, мне и врач сказал.
Муж посидел еще несколько минут в обступившей их со всех сторон тишине спальни и вышел, беззвучно притворив за собой дверь.
Сквозь забытье до нее доносились голоса из соседней комнаты и кухни. Говорили тихо, но о чем не понять… Как на иностранном языке. Слов не разобрать, только слышна чужая речь, и можно лишь догадываться по интонации голоса о настроении говорящих.
9
Первым чувством, когда Лида поняла, что беременна, было чувство растерянности. Она совсем не готова была становиться матерью. Ее юность еще не кончилась, ей еще хотелось самой побыть ребенком, любимым и лелеемым. Она плохо понимала, что ей предстоит. Вслушивалась в себя – и ничего не ощущала. Ей нравилось, что ее окружили двойной заботой, но расстроило, что муж будто и не хотел этого ребенка. Сказал, что ребенок может их разъединить. Они собирались на юг в это лето. Она никогда не видела море, а теперь ее поездка накрылась медным тазом. И она никогда уже, может быть, никогда не увидит того, что видела в кино: лазурного, бескрайнего, будто отпущенные возможности, моря. Море снилось ей по ночам – волнующееся, выбрасывающее на берег медуз, которые мгновенно исчезали на солнце, как ее не реализовавшиеся планы. Ее мучила тошнота – будто жестокая морская болезнь. Качалась на волнах жизни в искусственном море, где русло реки перегородили большой плотиной. Уровень воды все поднимался, а ветер потихоньку раскачивал образовавшееся море. Она совсем не могла смотреть на еду: всю выворачивало. Иногда ей было настолько плохо, что она начинала ненавидеть и будущего ребенка, и свою семейную жизнь. Чем больше становился срок, тем сильнее накапливалось раздражение, что вот теперь вся ее жизнь дарована маленькому с каждым днем все растущему головастику, отнимающему у нее все силы. Отныне она себе совсем не принадлежит. Иногда она чувствовала необъяснимую нежность к этому головастику. Нежность накатывала внезапно, прыгала на колени котенком, терлась о росший живот и сворачивалась клубочком. Лидочка уже представляла, как будет малыша пеленать, завязывая белый конверт бантиком, целовать ручки и ножки в перевязочках, когда просовывает их в рукава распашонки или ползунки, качать в коляске под ажурным кленом, пускающим свои самолетики, и учить становиться человеком. Живот делался все больше похожим на надувной мячик, который они с визгом бросали в детстве в деревенском пруду друг дружке. Вся она пошла какими-то коричневыми пятнами, напоминающими гниль на опавших листьях. Она стала переваливаться, как уточка, и ей все труднее было передвигаться: волочила отекшие ноги-бутылки, будто тромбофлебитная старушка.
Токсикоз не проходил, она бежала на негнущихся ногах после каждой еды к унитазу, зажимая рот ладошкой, потом ложилась на кровать и смотрела в потолок, что начинал вращаться, точно она скачет на карусельной лошадке. Лошадка кивала головой, Лидочка пригибалась к ее гриве – и крутящийся потолок то приближался, то удалялся. По кочкам, по кочкам, вцепившись в гриву, сжимая костяшками пальцев поводья – пододеяльник, лишь бы лошадка не взбрыкнула – и не скинула ее на землю.
Иногда ей было настолько плохо, что хотелось, чтобы все кончилось – и она снова бы стала стройной живой девушкой, на которую оборачиваются на улице. Она чувствовала себя иногда маленькой серой мышкой, что сунулась за кусочком сыра в мышеловку, да в последний момент почему-то отпрянула, но мышеловка успела прищемить ей лапку: и теперь она сидела в растерянности, не зная, как вырваться.
Уже знали, что будет девочка. Андрей предложил назвать ее Василисой, в смысле, что Василиса прекрасная. Свекровь сказала: «Пусть лучше будет премудрая». А Лида хотела, чтобы была и прекрасная, и премудрая.
Андрюша не был готов стать отцом совершенно. И если Лида начинала как-то готовиться к появлению малышки: покупала розовые ползунки и распашонки, строчила на машинке пеленки из батиста, что лежал у мамы в сундуке, – еще мамино приданое, то Андрюша мог часами вертеть в руках пластмассовую головоломку, из которой нужно было собрать единственную верную конструкцию так, чтобы не осталось ни одной лишней детальки. Конструкция никак не складывалась, это раздражало Андрюшу, и он ужасно злился, что мать заставляла его идти мыть посуду или в магазин. Лида почему-то подумала, что и ее семейная жизнь – вот это составление правильной конструкции, что они очень стараются ее сложить, но все время или не хватает одной детальки, или остается одна лишняя. Конструкция эта была никому не нужна, и совсем не стоило тратить столько сил и времени, чтобы все увязать так, как положено, но что-то неодолимое заставляло снова и снова все расставлять по нужным местам.
Иногда Андрюша просто сидел на постели рядом с ней и смотрел на зеленое, цвета кабачков, искаженное мукой лицо жены, страдальчески сжимающей губы, и у него просыпалось странное чувство жалости и брезгливости одновременно. Ему казалось, что он тоже попал в какой-то если не в капкан, то в клетку, где позволено ходить, как загнанному, по периметру. Рождение ребенка не пугало его, но ему казалось, что ребенок отдалит их с женой друг от друга. Уже отдалил. Его жена, им самим посаженная в лодку на корму, случайно оттолкнулась веслом от берега, пока он мешкал, и медленно удаляется, растерянно улыбаясь, подхваченная попутным ветром и шустрым течением воды.
То, что она скоро станет мамой, Лида воспринимала как какую-то нереальность. У нее не было никакого желания рожать, вскармливать, тискать и прижимать к себе маленькое тельце. Дети не вызывали в ней того умиления, какое она наблюдала у многих своих подруг, когда те, увидев в коляске новорожденного малыша, начинали сюсюкать, склоняясь над гордо распахнутой для обозрения коляской, таящей в себе визжащее сокровище. Она отходила в сторону и спокойно пережидала всеобщий щенячий восторг, как перед сахарной косточкой.
10
Рожала она тяжело. Сначала страшно боялась. Хотелось заснуть – и проснуться сразу без живота. Если бы можно было у себя в деревне рожать, то рожала бы там. Там была мама, там она дома была, там бы ее в беде не оставили никогда. А тут… Ей казалось все время, что она живет в какой-то чужой стране. Вроде, все вежливы, приветливы, достаток и красивые витрины магазинов, а только ничего не понимаешь, не можешь ни спросить, ни рассказать о себе, душу выплеснуть некому, чтобы стресс снять, хотя, наверное, упади она на улице, ей помогут… А коли душу вывернуть не можешь, чтобы вытряхнуть все накопившееся и тревожащее, будто муравья, забравшегося под рубашку, то и бродишь неприкаянная, расчесывая себя в кровь. Она была по жизни неуверенным человеком, не победителем, не то, что нынешние молодые, которым палец в рот ни клади… А она – дрожь и обморок. И откуда у нее, у деревенской девицы, эти опущенные долу глаза тургеневских барышень? Но хороших акушеров там не было. Когда уходила в палату, бросила на Андрея прощальный взгляд ребенка, оставляемого впервые в детском саду.
Чувствовала себя в роддоме, словно в казарме. Желтое солдатское белье, злобный взгляд акушерки, которая, казалось, ненавидела всех молодых. «Чего орешь? Много вас тут, если все орать будут…» А она и не кричала вовсе, кусала до крови посиневшие губы и радовалась, что врачиха отвалила и матом не ругается. А пока врача не было, отошли воды… Она не помнит ничего почти, даже время не заметила, когда Василиса родилась. Что долго зашивали – помнит, после родов она месяц не могла сидеть совсем. Кормила дочку лежа, пока было молоко. У нее скоро грудница началась. Ее снова резали и зашивали. Сделали какой-то укол обезболивающий, а у нее непереносимость. Она помнит, как тогда медленно открылись ворота в туннель, лязгая дверями проходящего за окном трамвая, – и она почувствовала, что ее будто омутом затягивает в этот туннель, светящийся равнодушным светом люминесцентных ламп операционной. Этот свет слепил, точно южное солнце, отражавшееся в горах от белоснежного девственного снега.
Она решила тогда, что больше никогда рожать не будет. Ни за что. Но мудрая природа все стерла из памяти, точно волна следы на песке… Так, видимо, устроена жизнь, что мы все забываем. И боль тоже…
Наутро привезли перепеленатые надрывающиеся свертки, лежавшие, будто рассыпанная вязанка дров. Когда первый раз ей подали дочь, чтобы покормить, и она смотрела на этот почмокивающий комочек – в ней вдруг медленно начала просыпаться такая нежность… Нежность была еще в полусне. Нежность еще плохо понимала, где она, внезапно очнувшись от забытья. Нежность прибила звякнувший будильник и подумала: «Еще успею, еще полежу чуток, сладко потягиваясь спросонья». Сон медленно уходил. На нее смотрело маленькое существо своими серыми серьезными глазами, волнующимися, как море в непогожий день. Лида еще не чувствовала себя мамой, ей самой хотелось к маме и пожаловаться, что у нее все разорвано, но это красное сморщенное существо вызывало удивление: «Неужели это мое?» Отечный и маленький, будто котенок, младенец терпеливо позволил взять себя в руки, неловко пристроился к шершавому коричневому соску, похожему на промороженное пятно на румяном яблоке, – и принялся сосать. Отдуваясь от первой трапезы, удивленно разглядывал мутными щелочками глаз нависшую над ним белую грудь, сквозь нежную кожу которой просвечивали голубые ручейки прожилок, с которыми совсем недавно его сосудики имели общее русло.
11
Первые месяцы были настоящей каруселью. Лида летела в этой карусели в каком-то полусне, плохо понимая, где кончалась явь – и она проваливается в забытье. Ребенок все время плакал.
Она буквально падала от усталости. Просто закрывала глаза и мгновенно засыпала в том месте, где она оказывалась. Это могло быть и кресло, и стул, и за письменным столом, и за обеденным. Она даже не роняла голову на сложенные руки. Просто прямо сидя проваливалась куда-то в другую жизнь, полную разноцветных огней ночного города или солнечного света, рвущегося в прорези тяжелых занавесок. Она спала очень недолго. Через несколько минут вздрагивала, будто от испуга, от истошного детского плача. Пока Василиса была крошечная, Андрей почти не помогал ей. Но зато ее пытался укачивать свекор. Вася за несколько минут на его руках затихала, но, как только ее возвращали назад, начинала блажить. Вся ее жизнь была подчинена этому маленькому сопящему существу, у которого она находила все больше своих черт.
Она очень долго тогда никак не могла отойти от родов. Молока не было. Начался мастит. Лида лежала на их супружеской кровати. Потолок и стены менялись местами, как в цирке у гонщика по отвесной стене. Грудь горела, будто печка, и была красная, как вываренная свекла. Она представляла себя гусеницей, передвигающейся то по стене, то по потолку, лишь бы не сорваться на пол, где рискуешь быть раздавленной чьими-нибудь ботинками. Она думала о том, что скоро она окуклится и заснет, а потом проснется, как новая, вспорхнет шелкокрылой бабочкой, вылетит в окно, подхваченная легким сквозняком, будет порхать с цветка на цветок, но в конце концов обязана будет отложить яички. И так по кругу… От вращения потолка ее начинало мутить, и она попыталась зажмурить глаза. Боль жадными челюстями вгрызалась в тело, и ей бредилось, что большая черная собака, похожая на матерого волка с седым брюхом, склонилась над ней и, вцепившись своими зубами в сосок, стала играть грудью, как щенок, у которого режутся зубы, будто детским мячиком. Укусит, отшвырнет лапой, откатит, потом радостно подбежит, виляя хвостом от восторга, и снова вцепится, и снова выпустит…
Приехала «скорая». Сделали новокаиновую блокаду. И все – собака вдруг развернулась и побежала, опустив и свой хвост с насаженными на него репьями, и голову с прижавшимися к макушке ушами. Лида опять увидела длинный туннель, весь залитый светом. Стены туннеля, видимо, состояли из маленьких зеркал. Она везде видела свое отражение. Она попыталась войти в коридор, но натолкнулась на гладкую холодную стену. Увидела следующий вход – и пошла к нему, но снова наскочила на зеркальную поверхность. Она уже боялась шагать – вытягивала руку, чувствуя лед стеклянного отражения. Она металась загнанным зайцем по лабиринту, то тут, то там маячил вход в залитый загадочным светом туннель, похожий на театральные декорации из сказки, что когда-то видела в своем детстве. Снова и снова грудью натыкалась на зеркальную стынь. У нее закружилась голова – и ей стало страшно. «Выведите меня отсюда!» – хотела закричать она, но вдруг почувствовала, что совсем потеряла голос и может только разевать рот, как холодная скользкая рыбина, покрытая чешуей из маленьких зеркал.
Когда она очнулась, то увидела над собой врача, что держал ее за запястье, пытаясь нащупать пульс в синеньком ручейке, просвечивающем сквозь корку льда.
12
Она часто спрашивала себя: ради чего она тратит столько сил и нервов у себя на работе? Стоит ли это того, чтобы не додавать своим близким? Да, с одной стороны, дом – это рутина, засасывающая тебя, будто маленькое болотце, образованное родниковой водой, петляющей и растекающейся между кочек, – утонуть не утонешь, а сухим никак не пройти даже в насквозь пропитанные летним солнцем дни. С другой стороны, это – залог твоего будущего. А работа… Ну, что работа? Добыча средств к существованию. Она вспоминала себя двадцатилетнюю. Ей тогда на самом деле было все ново и любопытно. Тогда она дрожала от радости и неослабевающего интереса, когда получала какой-нибудь новый результат, будто маленький котенок, увидевший шуршащий и передвигающийся за длинной ниткой яркий комок из обертки от съеденной кем-то шоколадки, свернутый забавы ради. Шла работать она по любимой специальности и хотела еще кем-то обязательно стать и что-то успеть. Пока не появились дети, она работала зачастую взахлеб, будто квас в жару жадно глотала, радуясь каким-нибудь своим маленьким открытиям и изобретениям. По мере того, как она приобретала опыт, интерес утрачивался. Работа постепенно превращалась в переполненный трамвайный вагончик, в котором она медленно ехала по городскому кольцу, делая плановые остановки. За окном была жизнь, но у нее совсем не было сил и времени выйти на улицу, чтобы почувствовать дыхание весеннего ветра… Всей посеревшей за зиму кожей ощутить, как майский ветер, будто теплый морской бриз, омывает все больше изменяющееся лицо, которое оплетала, точно паутина, сеть сначала еле заметных морщин, высвечиваемых лишь ярким солнцем, но с каждым годом становящихся все глубже, кустистей и уже давно видимых даже в несолнечный день. Иногда она думала о том, что она слишком мало времени проводит с семьей. Главное для нее было – успеть всех накормить и то, чтобы дети не попали под дурное влияние.
Пока была жива свекровь, она знала, что дети будут под ее опекой и пристальным оком, и она может не занимать служебный телефон для их проверки, может спокойно после работы стоять в очереди в магазине или даже задержаться на службе, что происходило у них частенько. Да, она чувствовала себя маленькой шестеренкой в четко отлаженном и смазанном механизме, хотя и одной из главных, без которой устройство не могло функционировать… Ее жизнь давно не принадлежала ей. Она не помнит уже, когда она имела право на свои вкусы, мнения и привычки, но зато у нее было ощущение уверенности в завтрашнем дне, бесполезности ее жизни и осмысленности существования, к коим примешивалось чувство удовлетворения от комфортного благополучия. Ее жизнь удалась, а значит, и старость ее будет спокойна и философски смиренна.
13
После смерти свекрови Лидочка как-то растерялась. Нет, она, стыдно себе признаться, даже была счастлива, что ей не надо ни с кем делить Андрюшу и что она теперь вольна делать в их большом доме все, что душе угодно – и никто даже не посмотрит на нее тяжелым взглядом, припечатывающим ее к полу, будто пудовая гиря, взваленная на плечо, ровно кувшин у женщин Востока. Никто не оборвет ее властным голосом командира полка. Ей не надо больше, как страусу, втягивать голову в плечи, балансируя на одной ноге… Она теперь, не боясь резкой реакции (замешанной на зависти?) могла приобрести очередное новое платье и открыто повесить его на плечики в шкаф, а не заворачивать в старый рваный халат, который паковала в два непрозрачных пластиковых пакета, прежде чем убрать в шифоньер.
Но неожиданно для себя она поняла, что вдруг утратила ощущение какой-никакой стены, за которой было удобно прятаться и от ветров жизни, и от нещадного солнца. Это было для нее удивительно! Оказывается, что она жила не за мужем… Ей теперь совершенно не с кем было посоветоваться, что и как переставить в доме, чем лечить детей, куда отправить их на каникулы, некому пожаловаться, что Андрей опять засиживается в компании друзей за бутылочкой горячительного. Лидочка с удивлением для себя обнаружила, что она будто все время со свекровью разговаривает, советуется с ней и жалуется. Она словно слышала твердый властный голос матери мужа, указывающий ей, что же делать во вверенном ей доме. Голос звучал так явственно, что ей казалось, что это сон. Но, нет… Она ходила по их просторной квартире, отдавала команды мужчинам, что и как переставить, с усмешкой про себя сознавая, что в ее голосе все отчетливей проявляются безапелляционные нотки свекрови, которые она люто ненавидела, такие же жесткие, будто скрученная проволока в металлической мочалке для отдраивания кастрюль. Она даже теперь про себя пересказывала матери мужа прошедший день, и ей казалось, что свекровь слышит ее оттуда и, как может, помогает ей. Когда она чувствовала, что делает что-то не так, она будто видела осуждающий взгляд свекрови – и ей хотелось, как в молодости, закрыться в спальне на дверную задвижку. Неожиданно для себя она обнаружила, что свекровь стала для нее родным человеком. Теперь она скучала по ее властному голосу, не требующему возражений. Не раз она c раздражением выговаривала мужу, что была бы жива его мать, она бы уж не позволила сделать то-то и то-то…
Она удивлялась, что дети почти не вспоминали бабушку… А ведь свекровь, по сути дела, их вырастила. Или вспоминали, да только не говорили ей об этом, интуитивно чувствуя всю свою жизнь наэлектризованное поле, что всегда лежало между ними, и боялись своего резкого движения по этому полю, думая, что от их быстрого шага полетят искры, а там и до очередного пожара – рукой подать? Неужели и сейчас они ушли со своей печалью о безвозвратно потерянном родном человеке в себя, как уходят кошки в подвал зализывать больное место или умирать? Боялись, что она догадается об их боли?
Однажды она застала Василису, когда та рассматривала старый альбом с фотографиями, где были молодые свекор со свекровью. Василиса испуганно обернулась на открывшуюся дверь, вздрогнула, будто лань на опушке, объедающая мягкие листья вышедших из леса кустарников, увидев боковым зрением приближающегося охотника. Потом поспешно захлопнула альбом и судорожно стала заталкивать его в книжный шкаф. Глаза у нее влажно и воспаленно блестели, словно обожженные ледяным ветром.
14
Андрей почему-то никогда после смерти матери не говорил с женой о ней. Лида знала, что он грустит, и думала о том, что он боится услышать от нее что-то резкое, язвительное, жалящее, похожее на укусы пчел, выгнанных из обжитого ими улья… Андрей стал теперь к ней ближе. Нынче он очень часто во многом советовался с ней и жаловался на своих коллег и знакомых. Лида открыла для себя, что раньше все это, видимо, муж рассказывал матери… Маленький стареющий мальчик, потерявшийся в большом шумном универмаге… Теперь Лидочка должна была крепко держать в руках вожжи, чтобы ненароком не занесло телегу семейной жизни в заметенный снегом овраг.
Она совсем перестала следить за собой дома. Надевала вылинявший халат с вырванной из полы пуговицей вместе с клочком цветастой ткани, от которой осталась прореха, будто выгрызенная мышью; шерстяную кофту, проеденную молью со спущенными петельками, что бежали наперегонки от многочисленных дырок, образовавшихся, словно от упавшего и разбившегося пузырька с кислотой; всовывала отекшие за день ноги в тапочки, просившие каши, поролоновые, мягкие-мягкие – ощущение было, что ходишь по дому в носках. У нее и дома было такое чувство теперь, что она живет в разношенных тапочках, что не надо исподтишка озираться на себя в зеркало и смотреть, хорошо ли ты выглядишь. Это уже не важно. Тебя и так любят. Пусть и не с придыханием отогревающего куст подмороженной неожиданными заморозками розы. Пусть и не пылким чувством влюбленного, готового зажечь весь дом от искры, метнувшейся от косы, нашедшей на камень, – и теперь грозящей в одночасье оставить без крыши под головой… Тебя любят как человека, к которому привыкли, точно к пуфику на диване, на который можно положить голову, а можно водрузить ноги или обнять уставшими руками, будто ребенок обнимает мягкую игрушку, – и сладко заснуть не в одиночку. Это было какое-то новое и неожиданное для нее чувство уверенности, что теперь уже совсем не важно, как ты выглядишь, – и это совсем не потому, что ты превратилась в предмет домашнего обихода, а просто тебя воспринимают как неделимую частичку себя: так родители любят своего ребенка, не замечая, что он некрасив или глуповат, любят просто за то, что это их кровинка. Ей стало казаться иногда, что уже можно только начинать фразу – доканчивать ее не надо, супруг все прочитает по глазам и поймет с полуслова. Она тогда думала, что это и есть счастье, тихое и спокойное, что зовется семейной гаванью, где корабли отдыхают, поскрипывая ржавеющими бортами друг о друга. Счастье, что можно ходить в драном старом халате – и оставаться нужной, точно войлочные боты «прощай молодость», в которых дома так тепло и комфортно.
Постепенно Лида стала понимать, что, пожалуй, теперь она имеет такого мужа, какого всегда хотелось иметь ей. Она просто сделала его своими руками.
Была ли она счастлива в браке? Пожалуй, нет, брак представлялся ей длинным составом из обшарпанных вагончиков, что ехал по обочине леса, мотаясь на стыках рельс из стороны в сторону, но ни разу не сойдя с рельс. Она смотрела из окна вагона на пробегающие мимо перелески и мелькавшие изредка водоемы, полные свинцово-серой или зеленоватой мутной воды. Она выходила из вагона изредка. Стояла на перроне, смотрела на свой поезд с вагончиками-близнецами, среди которых затесался лишь один, тоже снаружи весьма похожий на другие вагончики, но в его окна проглядывали аккуратные столики, смутно напоминающие ресторан и праздник жизни… Стоя на перроне, она видела лишь толпу снующих вокруг нагруженных скарбом людей, тащащих свою добычу на горбу, будто черные муравьи, и все тот же серый запылившийся поезд, под слоем копоти на котором лишь с трудом можно было угадать свежую зелень некошеной весенней травы. Ее попутчики тоже выходили на перрон глотнуть свежего воздуха и тоже видели свой серый запылившийся поезд. Они даже пытались пройти немного к голове состава или даже оглянуться назад, но все равно видели один и тот же серый закопченный поезд, на котором было написано «Семейный очаг».
Иногда она перебегала внутри мчащегося поезда в соседние вагончики в гости. В тамбуре было накурено, холодно и качало так, что она вцеплялась в поручень, боясь потерять равновесие и ткнуться головой в комнату с застоявшимся удушливым и едким запахом аммиака. Ей все время казалось, когда она открывала дверь в соседний вагон, что вот сейчас под ее ногами вагончик с лязгом отсоединится – и она не успеет перепрыгнуть в соседний вагон и провалится в бездну, грозящую ее поглотить надвигающейся тяжестью вагона, купе которого она со скуки покинула, как ей казалось, совсем ненадолго: только проветриться и вернуться назад…
15
Лидия Андреевна не могла сказать, чтобы семья была для нее обузой… Нет. Но, когда летом, она отправляла своих «спиногрызов» к матери, она вздыхала, набирая полные легкие уже запылившегося от летней жары воздуха, и начинала дышать спокойно и ровно. Теперь у нее даже находилось время пройти по летнему городу, разглядывая парашюты ярких женских платьев, что летели ей навстречу, как когда-то в усвиставшей от нее юности, будто ветер на взлетной полосе. Сама она уже почти забыла, что это такое: плавно спускаться сквозь дымок облаков под раскрывшимся куполом, с высоты которого все казалось никчемным и мелким.
Передых был весьма кратковременный. Каждую пятницу она отбывала к матери, навьючившись тяжелыми авоськами, тряпичные веревочки которых до боли и одеревенения резали сжимающие их пальцы. Впрочем, за неделю она успевала сильно соскучиться. И так и не успев переделать после работы допоздна домашние дела, катящиеся, будто на ходу слепленный снежок с горы, и которые теперь приходилось переносить с выходных на поздние вечера, когда она возвращается со службы, Лидия Андреевна отбывала снова в загородный рай из города, расплавленного и пропахшего разгоряченным асфальтом.
Мать, проработав всю жизнь в сельской школе, уйдя на пенсию, начала стремительно стареть. Приезжая домой, Лидия Андреевна все чаще замирала с останавливающимся сердцем и силилась протолкнуть застопорившийся комок в горле. У нее все чаще тоскливо ныло в груди, когда она смотрела, как мать быстро превращается в сгорбленную ворчливую старушку с садом, зарастающим крапивой, в котором та уже почти совсем перестала выращивать овощи. Их приходилось возить им с мужем из города, так как сил копать у Лиды оставалось все меньше, а Андрей был до мозга костей городской ребенок и вообще не понимал, зачем это делать, если можно сходить на базар.
Она знала, что матери все труднее управляться и с хозяйством, и с внуками… Да и дом постепенно начал коситься на бок, будто ногу подвернул и теперь стоит хромой, сдвинув набекрень тяжелую серую крышу, точно берет не по размеру, что все время съезжает набок от ветра или поворота и качания головы в такт собственным шагам. Входную дверь закрывала теперь с большим усилием даже Лидия Андреевна, мать же перестала притворять ее совсем. По веранде, разбухшей от осенних дождей, словно опухшей от постоянного плача крыши, бесцеремонно разгуливал сырой ветер, проскальзывающий в трехсантиметровую щель… От мужа помощи было не дождаться, брат почти совсем перестал здесь бывать. В один из своих приездов Лидия Андреевна взяла давно затупившийся топорик, весь в бурых пятнах, будто от запекшейся крови, и стала стесывать с верхнего ребра двери слой за слоем, чувствуя, как затекают и немеют руки… Остановилась со странным ощущением, что она живая, а руки стали словно тряпичная игрушка – онемели, будто гангрена за считаные минуты дошла от кончиков пальцев до предплечья… Она опустила плети-руки и начала энергично работать кулачками, точно сжимала резиновую пищалку, пытаясь извлечь из нее жалостливый всхлип. Почувствовала, как рука, словно натолкнулась на ежа: в ткань впивались сотни мелких иголок, вызывая уже нестерпимую боль, готовую сорваться стоном с губ, как вспугнутая кошкой птица…
Знаком вопроса вышла из комнаты мать и встала в двух метрах от дочери, с досадой ее разглядывая: