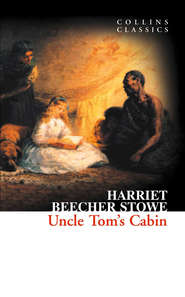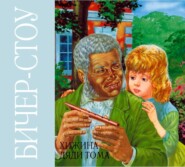По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хижина дяди Тома
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, сэр, он был добрым хозяином.
– А ваша хозяйка? Она была жестока?
– Нет! О нет, сэр. Моя госпожа всегда была добра ко мне.
– Что же могло заставить вас бросить такой хороший дом и бежать, подвергаясь страшным опасностям?
Элиза поглядела на миссис Берд испытующим взглядом и увидела, что она одета в траур.
– Миссис, – произнесла она вдруг с неожиданной решимостью, – приходилось ли вам когда-нибудь терять ребенка?
Вопрос был неожиданный, он задел незажившую рану: всего месяц назад миссис Берд похоронила ребенка, любимца всей семьи.
Сенатор отвернулся и отошел к окну. Слезы брызнули из глаз миссис Берд, но она постаралась овладеть собой.
– Почему вы задали этот вопрос?.. Да, я недавно потеряла ребенка.
– Тогда вы поймете мое горе, – проговорила Элиза. – Я потеряла двоих детей, одного за другим. Они остались там, в той земле, откуда я пришла. У меня теперь только один этот ребенок… Он для меня все на свете – мое утешение, моя гордость, все мои мысли о нем и днем и ночью. И вот, миссис, они захотели отнять его у меня и продать торговцам с Юга, отправить его туда одного, его, такого крошку, который ни разу в жизни ни на одну минуту не покидал меня; не было ни одной ночи, когда бы он не спал подле меня… Я не могла это перенести, миссис! Я знала, что, если его увезут, я не смогу жить, у меня не будет на это сил… И когда я узнала, что он продан, что бумаги подписаны, я схватила его и убежала среди ночи… Они гнались за мной – тот, который купил моего мальчика, и двое слуг хозяина… Они уже готовы были схватить меня… Я слышала их… чувствовала их приближение… Я прыгнула на лед… Как я прошла? Не знаю… Затем я увидела человека, который помог мне выбраться на берег…
Она не рыдала, не плакала. Она достигла той степени горя, когда иссякают слезы. Но все окружавшие ее по-своему проявляли горячее сочувствие.
Оба маленьких мальчугана, напрасно порывшись в карманах в поисках носового платка, которого никогда у ребят не оказывается на месте, зарыдав, уткнулись в юбку матери, вытирая глаза и носы об ее платье. Миссис Берд закрыла платком лицо, а старая Дина, у которой слезы ручьем текли по ее доброму черному лицу, не переставала повторять:
– Господи, помилуй.. Господи ты боже мой!..
Старый Куджо изо всех сил тер глаза краем рукава и, строя самые невероятные гримасы, вторил Дине. Сенатор, как государственный человек, не имел права плакать, как все остальные смертные. Поэтому, повернувшись спиной к присутствующим, он подошел к окну, пыхтя и усиленно протирая очки, но сморкался при этом так часто, что мог бы внушить кое-какие подозрения, если б среди присутствующих нашелся хоть кто-нибудь достаточно владеющий собой, чтобы заниматься критическими наблюдениями.
– Как же вы могли сказать, что у вас был добрый хозяин? – сказал он вдруг, резко повернувшись.
– Я сказала это потому, что это правда, – ответила Элиза. – Он был добр к нам. И госпожа моя тоже была добра. Но у них не хватало средств. Они задолжали. Я не умею все это объяснить… И был человек, который держал их в руках и заставлял их исполнять его волю. Я слышала, как хозяин сказал хозяйке, что мой ребенок продан. Хозяйка заступалась за меня. Но он ответил, что не может иначе и что бумаги уже подписаны. И вот тогда я схватила ребенка и убежала. Ведь он – это все, что у меня есть на свете!
– Разве у вас нет мужа?
– Есть. Но он принадлежит другому хозяину. Его господин дурно обращается с ним, не позволяет ему встречаться со мной и каждый день грозится, что продаст его на Юг… Наверно, я уж никогда не увижу его…
Спокойный тон, которым были произнесены эти слова, мог бы заставить поверхностного наблюдателя предположить, что она совершенно равнодушна к разлуке с мужем. Но стоило заглянуть ей в глаза, и сразу становилось понятно, что отчаяние было беспредельно и только потому проявлялось в такой сдержанной форме.
– Куда же вы направляетесь, бедная вы моя? – ласково спросила миссис Берд.
– Я хотела бы пробраться в Канаду… если б только я знала туда дорогу, – сказала Элиза. – А далеко до Канады? – спросила она вдруг, доверчиво и просто глядя на миссис Берд.
– Несчастное дитя! – невольно вырвалось у той.
– Я и сама думаю, что это очень далеко, – с трепетом проговорила Элиза.
– Много дальше, чем вы думаете, милая. Но мы попробуем помочь вам… Дина, прежде всего нужно постелить ей постель в вашей комнате. До завтра я обдумаю, что делать дальше. Но вы, дорогая, – обратилась она к Элизе, – ничего не бойтесь. Мы сделаем все, что будет в наших силах.
Миссис Берд и ее муж вернулись в гостиную. Жена уселась в качалку, стоявшую у камина, и задумалась. Сенатор шагал взад и вперед по комнате.
– Неприятная, ужасно неприятная история! – бормотал он про себя.
Наконец, круто повернувшись, он подошел к жене.
– Необходимо, дорогая, чтобы она сегодня же ночью уехала отсюда! Торговец настигнет ее самое позднее завтра на заре. Если б женщина была одна, она могла бы притаиться, пока он проедет. Но даже целая армия, пешая и конная, не управится с мальчуганом: он высунет нос в окно или в дверь и выдаст всех, ручаюсь тебе. Подумай, в каком я окажусь положении, если их захватят здесь, у меня!.. Нет, необходимо, чтобы она уехала сегодня же ночью.
– Сегодня ночью? Да разве это возможно? Куда же ей деться?
– Куда? Я знаю куда, – сказал сенатор, натягивая сапоги. – Это необходимо, – повторил он. – Хотя… фу ты, какая неприятная история!.. – И, торопливо натянув второй сапог, он выглянул в окно.
Миссис Берд была благоразумная женщина. Ни разу в жизни не говорила она мужу: «А разве я этого не предсказывала?» – и сейчас, хоть и догадываясь, о чем задумался ее муж, она хранила молчание, не желая нарушить хода его мыслей, и терпеливо ждала, когда ему заблагорассудится объявить свое решение.
– Я, кажется, рассказывал тебе когда-то, – начал наконец мистер Берд, – об одном из моих бывших клиентов, некоем ван Тромпе, приехавшем из Кентукки, где он в свое время освободил всех своих рабов. Он построил себе дом в семи милях отсюда вверх по реке, в самой чаще леса, и найти его не так-то легко. Там она будет более или менее в безопасности. Досадно только, что никому не пробраться туда в темноте, кроме меня.
– Но Куджо ведь прекрасно правит лошадьми!
– Конечно. Но беда в том, что придется дважды переезжать вброд через приток реки. Второй переезд опасен, если не знать его так хорошо, как я. Мне приходилось много раз проезжать там верхом, и я хорошо знаю, где нужно свернуть. Ничего не поделаешь. Пусть Куджо, не производя шума, около полуночи запряжет лошадей, и я отвезу их к ван Тромпу. Затем Куджо доставит меня в ближайшую корчму, где между тремя и четырьмя часами ночи проезжает почтовый дилижанс, направляющийся в Колумбус. Все должно производить такое впечатление, будто я приехал туда в карете только с целью захватить дилижанс. Завтра с утра я уже буду на заседании. Не знаю только, как я буду себя чувствовать после этой ночи. Но иначе поступить я не могу!
– Сердце у тебя лучше, чем голова, по крайней мере в данном случае, – сказала миссис Берд, положив свою маленькую ручку на руку мужа. – Да разве я полюбила бы тебя, если бы не знала тебя лучше, чем ты сам себя знаешь!
Она была так хороша в эту минуту, что сенатор подумал, какой он, должно быть, замечательный человек, если сумел внушить этому очаровательному существу такое горячее восхищение. Что оставалось ему еще делать, как не отправиться посмотреть, запрягают ли лошадей?
Но на пороге он остановился.
– Мэри, – проговорил он нерешительно, – не знаю, как ты отнесешься к этому… но ведь в комоде много вещей… нашего бедного маленького Генри… – Он быстро повернулся на каблуках и запер за собою дверь.
Миссис Берд приоткрыла дверь небольшой комнаты, прилегавшей к ее спальне, поставила свечу на комод, достала из маленькой ниши спрятанный там ключ, задумчиво сунула его в замок и вдруг остановилась. Двое мальчиков, которые вошли в комнату вслед за матерью, не сводили с нее вопросительного взгляда.
О матери, читающие эти строки, скажите, не было ли у вас в доме когда-нибудь ящика или комнатки, которые вы отпирали бы, как отпирают на кладбище склеп? Счастливые, счастливые матери, которые могут ответить: нет!
Миссис Берд медленно выдвинула ящик. Тут были платья и курточки всяких цветов и фасонов. Целые коллекции фартучков и стопки чулок. Были даже и немного поношенные башмачки. Были здесь также игрушки, самые любимые когда-то: лошадка, тележка, мячик, волчок. Драгоценные мелочи, собранные с невыразимой болью и слезами.
Опустившись на пол около ящика, она закрыла руками лицо и заплакала. Затем, внезапно подняв голову, она с нервной решимостью принялась отбирать самые лучшие и крепкие из вещей и связывать их в узел.
– Мама, – проговорил один из мальчиков, – неужели ты отдашь эти вещи?
– Дорогие мои, – проговорила она взволнованным голосом, – если б наш любимый маленький Генри мог видеть нас, он радовался бы, что мы поступаем так. Поверьте, я никогда не согласилась бы отдать эти вещи каким-нибудь счастливчикам. Я отдаю их матери, сердце которой было поражено еще тяжелее, чем мое…
Покончив с этим делом, миссис Берд раскрыла платяной шкаф, достала из него еще пригодные платья и, усевшись за свой рабочий стол и вооружившись ножницами, иголкой и наперстком, принялась удлинять платье, как ей это посоветовал муж. Она просидела за работой до тех пор, пока старые стенные часы не пробили двенадцать и до ее слуха не донесся шум подъезжающего экипажа.
– Мэри, – сказал сенатор, входя в комнату и держа в руках плащ, – нужно ее разбудить. Нам пора ехать.
Миссис Берд поспешно уложила отобранные ею вещи в ручной чемодан, закрыла его, попросила мужа отнести вещи в карету и удалилась, чтобы разбудить несчастную странницу.
Вскоре в дверях показалась Элиза. На ней была накидка и дорожная шляпа; она была закутана в теплую шаль. На руках она держала ребенка. Сенатор поспешно проводил ее до кареты. Миссис Берд вышла на крыльцо. Сев в карету, Элиза протянула ей руку, такую же нежную и красивую, как и рука миссис Берд. Взгляд ее больших черных глаз с выражением бесконечной благодарности был устремлен на маленькую голубоглазую женщину. Казалось, она хотела что-то сказать, губы ее раскрылись, но она не в силах была произнести ни слова, опустилась на сиденье экипажа и закрыла лицо руками. Карета тронулась…
В последние месяцы шли непрерывные дожди, и жирная почва Огайо превратилась в непролазную грязь. Ехать приходилось по «рельсам».
– По каким «рельсам»? – спросил однажды приезжий с Запада, для которого «рельсы» связывались лишь с представлением о локомотиве и быстром передвижении.