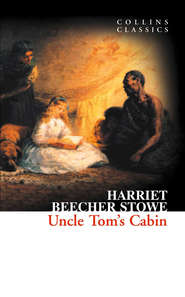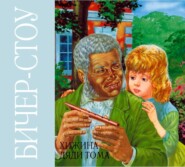По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Агнесса из Сорренто
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он внимал коленопреклоненной Эльзе с тем видом самоуверенности и непринужденного превосходства, что отмечает искушенного светского человека, однако и с неусыпным вниманием, говорившим о том, что ее рассказ возбудил его живейший интерес. Он то и дело слегка поворачивался в кресле и прерывал поток ее повествования точно и кратко сформулированным вопросом, задаваемым негромким и отчетливым тоном, торжественным и суровым, в сумраке и безмолвии церкви производившим какое-то призрачное впечатление.
Когда таинство завершилось, он вышел из исповедальни и на прощание сказал Эльзе:
– Дочь моя, ты хорошо поступила, что, не откладывая, поделилась со мною своими опасениями. Сатана в наш растленный век прибегает ко множеству коварных уловок, и те, кто пасут стадо Господне, должны неусыпно бдеть. Вскоре я зайду к тебе и дам дитяти духовное наставление, а пока одобряю твой замысел.
Странно было видеть трепетное благоговение, с которым старуха Эльза, обыкновенно столь властная и неустрашимая, внимала этому человеку в грубой шерстяной коричневой рясе, подпоясанной вервием; однако она не только видела в нем вызывающее почтение духовное лицо, но и инстинктивно угадывала человека высокого происхождения.
После того как она ушла из церкви, капуцин некоторое время стоял погруженный в глубокую задумчивость, и, чтобы объяснить ее причины, мы должны еще пролить свет на его историю.
Отец Франческо, как свидетельствовали его облик и манеры, действительно происходил из одного из самых знаменитых флорентийских семейств. Он принадлежал к числу тех, кого древний писатель называет «одержимыми смутной тоской». От природы наделенный неуемной жаждой новых впечатлений и мятущейся душой, которая, казалось, обрекала его никогда не знать покоя и ни в чем не знать меры, он рано вкусил честолюбия, войны и того, что повесы его времени именовали любовью; он предавался самым разнузданным излишествам самого развратного века и превосходил тягой к роскоши и расточительству самых отчаянных своих товарищей.
Но тут Флоренцию захлестнула волна религиозного обновления, которое в наши дни назвали бы «возрождением», и вынесла его, вместе со множеством других, на пылкую проповедь доминиканского монаха Джироламо Савонаролы, и в толпе тех, кто трепетал, плакал, бил себя в грудь, внимая его страстным упрекам и обвинениям, он тоже ощутил в себе Божественное призвание, умер для прежней жизни и возродился к новой.
Глядя на большую холодность и привычку к сдержанности, свойственную нынешним временам, нельзя и вообразить безумной, безудержной горячности религиозного возрождения среди людей столь страстных и впечатлительных, как итальянцы. Оно пронеслось по обществу, словно весенний поток со склонов Апеннин, увлекая все за собою. Кающиеся владельцы с фанатичным рвением громили собственные дома, а на широких городских площадях в костры бросали соблазнительные картины, статуи, книги и множество иных прельстительных, бесовских предметов. Художники, обвиненные в создании нечестивых, развратных образов, кидали свои палитры и кисти в это очистительное пламя и удалялись в монастыри, до тех пор пока глас проповедника не призывал их и не повелевал поставить свой дар на службу высшим целям. Воистину, итальянское общество не переживало такого религиозного потрясения со времен святого Франциска.
Ныне религиозное обращение, сколь бы глубокие чувства ни испытывал при этом христианин, сопровождается лишь немногими внешними переменами, но в Средние века жизнь была проникнута поистине бездонным символизмом и неизменно требовала материальных образов для его выражения.
Веселый и распутный молодой Лоренцо Сфорца расстался с этим миром, совершив обряды необычайно мрачные и скорбные. Он составил завещание, отрекся от всего своего земного имения и, собрав друзей, попрощался с ними, подобно умирающему. Облаченного в саван, как покойника, милосердные братья, в траурных одеяниях, с погребальными песнопениями и зажженными свечами, положили его в гроб и перенесли из его величественного особняка в родовой склеп его предков, куда они и поместили гроб и где оставили новообращенного на целую ночь во тьме, в одиночестве и в невыносимом страхе. Уже оттуда утром его, почти лишившегося чувств, переправили в соседний монастырь с самым суровым уставом, где несколько недель он каялся в молчании и молитве, пребывая в строжайшем затворе, не видясь и не говоря ни с кем, кроме своего духовника.
Воздействие, произведенное всеми этими обрядами на его страстную, чувствительную душу, нельзя себе и представить, и не следует удивляться тому, что некогда веселый, привыкший к роскоши Лоренцо Сфорца явился из этого тяжелейшего искуса, столь растворившись, в изможденном, измученном отце Франческо, что воистину могло показаться, будто он умер и его место занял иной. На его исхудалом челе отныне пролегали глубокие морщины, он глядел на мир глазами человека, узревшего устрашающие загробные тайны. Он добровольно попросил назначить его на пост как можно более далекий от мест, где проходили его прежние дни, чтобы решительно порвать со своим прошлым, и с горячностью отдался новому делу, тщась пробудить искру высшей, духовной жизни в ленивых, самодовольных монахах своего ордена и в невежественных местных крестьянах.
Однако вскоре он осознал, что, стремясь открыть своим собратьям собственные прозрения и озарения, он только проникся ощущением своего бессилия и слабости. К великому своему унынию и досаде, он понял, что человек, взалкавший жизни духа, обречен вечно брать на себя бремя праздности, равнодушия и животной чувственности, которым предаются все вокруг, и что на нем лежит проклятие Кассандры – мучиться ниспосланными ему ужасными, правдивыми видениями, будучи не в силах убедить никого в их истинности. Вращавшийся в юности лишь в образованных, утонченных кругах, отец Франческо не мог по временам не ощущать невыносимой скуки, выслушивая исповеди людей, так и не научившихся хоть сколько-нибудь ясно мыслить и чувствовать и не способных подняться над самыми пошлыми потребностями животной жизни, даже внимая его самым страстным проповедям. Его утомляли детские ссоры и перебранки монахов, их душевная незрелость, их себялюбие и потворство собственным слабостям, безнадежная вульгарность их ума, его обескураживали запутанные лабиринты обмана, в которых они терялись при каждом удобном случае. Его охватила скорбь глубокая, как могила, и он принялся с удвоенными усилиями предаваться аскезе, надеясь телесными муками ускорить свой конец.
Однако, впервые внимая у перегородки исповедальни прозрачному, сладостному голосу Агнессы, ее речам, исполненным безыскусной поэзии и глубоко таимого неподдельного чувства, он словно услышал сквозь решетку чудесную мелодичную музыку и ощутил в своем сердце трепет, о котором, казалось, совсем забыл и который точно снял с души его тяжкий, мучительный груз.
До своего обращения он знал женщин примерно так же, как светские любезники у Боккаччо, а среди них ему встретилась одна чаровница, волшебство которой пробудило в его сердце одну из тех роковых страстей, что сжигают душу мужчины дотла, оставляя вместо нее, точно в опустошенном войной городе, горстку дымящегося пепла. А потому среди данных им обетов отречения он с особенным жаром произнес тот, что обрекал его на вечное безбрачие. Отныне его и всех женщин на свете разделяла бездна столь же глубокая, сколь и ад, и думал он о женщинах не иначе как о несущих гибель искусительницах и соблазнительницах. Впервые в жизни от женщины повеяло на него чем-то безмятежным, естественным, здоровым и разумным, на душу его словно бы снизошел в ее присутствии мир, небесная благодать столь полная и совершенная, что он не стал бороться с нею или подозревать ее в тайной греховности, а, напротив, невольно открылся ей, подобно тому как находящийся в душной комнате невольно начинает дышать глубже, ощутив струю свежего воздуха.
Как же он был утешен, обнаружив, что его проповеди и наставления, более всего проникнутые духовной жаждой, находят живой отклик у существа, по самой природе своей поэтического и ищущего идеала! Более того, по временам ему даже казалось, будто самым его сухим и строгим призывам и увещеваниям она не просто следует, но наполняет их живой жизнью, подобно тому как бесплодный и иссохший жезл Иосифа обратился покрытой листьями, цветущей ветвью, когда обручился он с Марией.
Отныне его бесцельная и бесплодная, унылая жизнь стала украшаться придорожными цветами, и он вполне поверил в чудо, ибо цветы эти имели Божественную природу. Благочестивые мысли или богоугодные увещевания, которыми у него на глазах с усмешкой пренебрегали грубые монахи, он вновь с надеждой стал повторять, ведь их могла понять она; и постепенно все помыслы его превратились в неких почтовых голубей, что, однажды узнав путь к любимому приюту, порхая, возвращаются туда снова и снова.
Такова чудесная сила человеческой симпатии, что стоит нам обнаружить душу, способную понять нашу внутреннюю жизнь, как она уже получает над нами могущественную, таинственную власть; любая мысль, любое чувство, любое желание обретает какую-то новую ценность, ибо к ним теперь присоединяется сознание того, что их оценит ум дорогого нам человека; потому-то, пока человек этот жив, наше бытие делается вдвойне ценным, пускай нас даже разделяют океаны.
Облако безнадежной меланхолии, затуманившей ум отца Франческо, рассеялось и уплыло – он и сам не знал почему, он и сам не знал когда. Духом его овладела тайная веселость и живость; он стал жарче молиться и чаще возносить благодарение Господу. До сих пор, предаваясь благочестивым размышлениям, он чаще всего сосредоточивался на страхе и гневе, на ужасном величии Господа, на страшной каре, уготованной грешникам. Доныне в своих проповедях и наставлениях он подробно изображал тот жуткий, отвратительный мир, что узрел суровый флорентиец[8 - Имеется в виду Данте Алигьери, автор «Божественной комедии».], призывающий всякого «оставить надежду» и вселяющий ужас и трепет в душу, которая странствует по вечным кругам ада, созерцая муки грешников во плоти.
Потрясенно и скорбно осознал он, сколь преисполнены были тщеславия и гордыни его самые напряженные усилия победить грех, живописуя пастве эти ужасные образы: натуры, ожесточившиеся и закоренелые в своих пороках, слушали его, плотоядно наслаждаясь кровожадными подробностями и оттого словно бы только еще более ожесточаясь; натуры же робкие и боязливые при упоминании всех этих мук и страданий чахли, словно опаленные пламенем цветы; более того, подобно тому, как жестокие казни и кровавые пытки, принятые в ту пору законом по всей Европе, не уменьшали число преступлений, эти образы вечных мук тоже оказывали какое-то безнравственное влияние на христиан, способствуя распространению греха и порока.
Но с тех пор, как он встретил Агнессу, – он и сам не знал почему – мысли о Божественной любви стали проникать в его душу, словно плывущие по небу золотистые облака. Он сделался более приветлив и мягок, более терпелив к заблудшим, более нежен с маленькими детьми; теперь он чаще останавливался на улице, чтобы возложить руку на голову ребенка или поднять другого, упавшего наземь. Он научился наслаждаться пением птиц и голосами зверей, а молитвы, произносимые им у одра болящих или умирающих, казалось, обрели способность утишать боль, хотя прежде были лишены этого свойства. В душе его настала весна, мягкая итальянская весна, приносящая с собой пряный аромат цикламена и нежное благоухание примулы.
Так прошел год, возможно лучший, счастливейший год его беспокойной жизни, год, когда незаметно для него самого еженедельные встречи с Агнессой в исповедальне превратились для него в источник Божественного вдохновения, из которого он теперь черпал силы, а она, сама того не подозревая, стала солнцем, согревшим его душу.
Он говорил себе, что долг его – посвящать как можно больше времени и усилий огранке и шлифовке этого чудесного алмаза, столь неожиданно вверенного его попечению, дабы он впоследствии украсил венец Господень. Он ни разу не дотрагивался до ее руки; никогда даже складки ее платья на ходу не задевали его рясы, свидетельствующей об умерщвлении плоти и отречении; никогда, даже при пастырском благословении, не решался он возложить руку на ее прекрасное чело. Впрочем, иногда он и вправду позволял себе поднять взгляд, заметив, что она входит в церковную дверь и проплывает между рядами скамей, опустив взор и явно лелея помыслы столь неземные, столь возвышенные, что уподоблялась одному из ангелов Фра Беато Анджелико и словно ступала по облакам, столь безмятежная и благочестивая, что, когда она проходила мимо, он затаивал дыхание.
Однако то, что он узнал этим утром на исповеди от престарелой матроны Эльзы, потрясло его, горячо и страстно взволновало, поразило до глубины души.
Мысль о том, что Агнесса, его чистый, незапятнанный агнец, могла сделаться предметом безудержных, беспутных домогательств, природу и саму вероятность которых он представлял себе тем яснее, что в прошлом и сам вел подобную жизнь, – наполняла его душу тревогой и беспокойством. Но Эльза открыла ему свои намерения выдать Агнессу замуж и посоветовалась с ним о том, прилично ли будет немедля вверить ее защите и покровительству ее нареченного; именно эта часть ее рассказа и вызвала у отца Франческо невыносимое тайное отвращение, подняв в душе его целую бурю чувств, которые он тщетно пытался понять или подавить.
Исполнив свои утренние обязанности, он отправился в монастырь, уединился у себя в келье и, пав ниц перед распятием, мысленно принялся сурово допрашивать самого себя, требуя у себя отчета в малейшем побуждении, взгляде или мысли. День прошел в посте и в затворе.
А сейчас уже золотит небо вечер, и на квадратной плоской крыше монастыря, который, примостившись высоко на утесе, выходит на залив, можно заметить темную фигуру, медленно расхаживающую взад-вперед. Это отец Франческо, и, пока он шагает туда-сюда, по его большим, сверкающим, широко открытым глазам, по ярким пятнам румянца, выступившим на ввалившихся щеках, по нервной энергии, ощущающейся в каждом его движении, можно понять, что он переживает какой-то духовный кризис, пребывая в состоянии того внешне безмятежного экстаза, когда охваченный страстным волнением мнит себя спокойным и невозмутимым, потому что каждый нерв его напряжен до предела и более не в силах трепетать.
Какие океаны обрушили на него в этот день свои волны и увлекли в глубину, словно капризный прибой Средиземного моря – утлую рыбацкую лодчонку? Неужели вся его борьба с собой, все его муки оказались тщетны? Неужели он любил эту женщину земной любовью? Неужели он ревновал к ее будущему мужу? Неужели демон-искуситель нашептывал ему на ухо: «Лоренцо Сфорца мог бы уберечь это сокровище от осквернения жестоким насилием, вырвать ее из когтей тупого крестьянина, не способного ее оценить, но отцу Франческо это не по силам»? В какой-то миг ему чуть было не показалось, что он кощунственно предал свои обеты, свои торжественные, благоговейные обеты, при одном воспоминании о которых он содрогался до глубины души.
Но, проведя много часов в молитве и в борьбе с собой, вновь и вновь побеждая обрушивающиеся на него волны мучительных сомнений, он обрел то возвышенное расположение духа, которое можно сохранять довольно долгое время и в котором все вещи представляются столь преображенными и чистыми, что людям этим кажется, будто они отныне и навсегда одолели дьявола.
Теперь, когда он неспешно расхаживает взад-вперед в золотисто-пурпурных вечерних сумерках, собственный ум представляется ему столь же безмятежным и умиротворенным, сколь и сияющее море, отражающее в своих водах фиолетовые берега Искьи и причудливые, фантастические скалы и гроты Капри. Все золотится и сверкает пред его взором; он все видит ясно; он избавлен от духовных врагов; он попрал их пятами.
Да, говорит он себе, он любит Агнессу, любит ее той святой, возвышенной любовью, какой любит ангел-хранитель, зрящий лик Отца Небесного. Но почему же тогда ее предстоящий брак внушает ему такое отвращение? Разве это не очевидно? Разве у этой нежной души, этой поэтической натуры, этого возвышенного создания есть что-то общее с вульгарной, грубой крестьянской средой? Разве не будет ее красота вечно привлекать взор развратников, разве не будет ее несравненная прелесть вечно подвергать ее безыскусную невинность гнусным искательствам, которые будут тревожить ее и вызывать необоснованную ревность мужа? Что, если на Агнессу обрушится жестокая, незаслуженная кара, что, если муж прибегнет к телесным наказаниям, даже пустит в ход кнут, по примеру других мужчин низших сословий, не стесняющихся в пылу ревности «учить» своих жен? Какое же будущее предлагало тогдашнее общество натуре, столь богато одаренной физически и духовно себе на погибель? У отца Франческо есть ответ на этот вопрос. Поприще, в котором женщине отказывает весь мир, открывается для нее в церкви.
Он вспоминает историю дочери сиенского красильщика, прекрасной святой Екатерины. В юности он часто посещал монастырь, где первые художники Италии обессмертили ее борьбу и ее победы, и рядом со своей матерью преклонял колени у алтаря, где святая теперь говорит с верующими. Он вспомнил, как благодаря своей святой жизни святая Екатерина Сиенская удостоилась быть принятой при дворах властителей, куда ее отправили как посланницу церкви отстаивать церковные интересы, а потом перед его внутренним взором предстало великолепное творение Пинтуриккьо, на котором запечатлено, как ее, возлежащую на смертном одре в райской безмятежности, чистоте и покое и окруженную могущественными князьями церкви, причисляет папа к лику святых, объявив одной из тех, кому суждено царствовать на небесах и служить заступницей перед Христом за смертных.
А потому точно ли он грешит, ощущая некое ревнивое желание во что бы то ни стало удержать это одаренное, прекрасное создание? И пусть он не может даже помыслить, даже мечтать о том, чтобы обладать ею, точно ли он грешит, всеми силами души яростно и неукротимо сопротивляясь самой мысли о том, чтобы отдать ее другому смертному, но видя ее лишь Христовой невестой?
Разумеется, если и так, то грех этот таился где-то глубоко-глубоко в его душе, и священник мог сказать в свое оправдание многое, что успокоило бы и более строгую совесть, а потому, подвергнув свой ум тщательному допросу и анализу, он ощутил некое подобие торжества.
Да, она возвысится, и слава ее воссияет над миром, но это он своею собственной рукой поведет ее ввысь, к небесам. Он призовет ее под священную сень исповедальни, он произнесет торжественные, исполненные благоговейного трепета слова, которые превратят в святотатство всякое искательство других мужчин, которые пожелали бы ухаживать за нею, и, однако, именно он на протяжении всей земной жизни будет оберегать и наставлять ее душу, именно ему она будет повиноваться беспрекословно, как надлежит повиноваться одному лишь Христу.
Вот каким размышлениям предавался он в час своего триумфа, однако они, увы, обречены были утратить свой блеск и великолепие, подобно тем пурпурным небесам с золотистыми отсветами, что постепенно угасают, оставляя вместо своего сияния и прелести только зловещий и мрачный пламень Везувия.
Глава 6
Дорога в монастырь
Эльза вернулась с исповеди вскоре после рассвета, весьма успокоенная и довольная. Отец Франческо проявил такой интерес к ее рассказу, что она почувствовала себя чрезвычайно польщенной. Потом он дал ей совет, вполне согласовывавшийся с ее собственным мнением, а подобный совет всегда воспринимается как явное доказательство мудрости того, кто его дает.
Что касается брака, то тут он предложил повременить, то есть выбрать план действий, совершенно отвечавший чаяниям Эльзы, которая, как ни странно, едва пообещав внучку Антонио, прониклась к нему капризной, ревнивой неприязнью, словно он вознамерился похитить у нее Агнессу, и враждебность эта иногда столь властно овладевала ею, что она не в силах была даже говорить с будущим зятем спокойно, а Антонио от такого поворота дел только шире открывал большие свои глаза да дивился мысленно переменчивости и причудам женщин, однако продолжал ждать свадьбы с философическим спокойствием.
Лучи утреннего солнца, подобно золотистым стрелам, уже пронзали листву апельсиновых деревьев, когда Эльза вернулась из монастыря и застала Агнессу за молитвой.
– Что ж, сердечко мое, – сказала почтенная матрона, когда они позавтракали, – освобожу-ка я тебя сегодня от работы. Я схожу с тобой в монастырь, и ты проведешь весь день с сестрами и отнесешь святой Агнессе перстень.
– Ах, спасибо, бабушка! Какая вы добрая! Могу я ненадолго остановиться по пути – нарвать цикламенов, мирта и маргариток, чтобы украсить ее часовню?
– Как хочешь, дитя мое; но, если собираешься нарвать цветов, надобно нам поторопиться и выйти пораньше, ведь я должна вовремя стать за прилавок, не зря же я все утро собирала апельсины, пока моя душенька спала.
– Вы всегда все делаете сами, а мне ничего не остается, – это нечестно. Но, бабушка, давайте, чтобы по дороге нарвать цветов, пойдем вдоль ручья, по ущелью, прямо к берегу моря, по песку, и так доберемся окольным путем в гору до самого монастыря: путь по тропинке там такой тенистый и приятный в эту утреннюю пору, а на берегу моря веет такой свежий ветер!
– Как прикажешь, душенька, но сначала положи в корзину побольше наших лучших апельсинов для сестер.
– Не беспокойтесь, я все сделаю!
И с этими словами Агнесса проворно бросилась в дом, нашла среди своих сокровищ маленькую белую плетеную корзину и принялась причудливо убирать ее по краям листьями апельсинового дерева, окаймив ее, словно венком, гроздьями благоухающих цветов.
– А теперь положим наших лучших апельсинов-корольков! – воскликнула она. – Старушка Джокунда говорит, они похожи на гранаты.
– А вот и несколько малышей – смотрите, бабушка! – продолжала она, повернувшись к Эльзе и протягивая ей только что сорванную ветку с пятью маленькими, золотистыми, круглыми, как шарики, плодами, оттеняемыми кипенью жемчужно-белых бутонов.
Разгоряченная прыганьем за высоко растущими апельсинами, с ярким румянцем, выступившим на безупречно гладких смуглых щеках, с сияющими от восторга и удовольствия глазами, она стояла, переполняемая радостью, держа в руках ветку. На ее прекрасном лице играли трепещущие тени, и казалась она скорее не девой из плоти и крови, а мечтой живописца.
Когда таинство завершилось, он вышел из исповедальни и на прощание сказал Эльзе:
– Дочь моя, ты хорошо поступила, что, не откладывая, поделилась со мною своими опасениями. Сатана в наш растленный век прибегает ко множеству коварных уловок, и те, кто пасут стадо Господне, должны неусыпно бдеть. Вскоре я зайду к тебе и дам дитяти духовное наставление, а пока одобряю твой замысел.
Странно было видеть трепетное благоговение, с которым старуха Эльза, обыкновенно столь властная и неустрашимая, внимала этому человеку в грубой шерстяной коричневой рясе, подпоясанной вервием; однако она не только видела в нем вызывающее почтение духовное лицо, но и инстинктивно угадывала человека высокого происхождения.
После того как она ушла из церкви, капуцин некоторое время стоял погруженный в глубокую задумчивость, и, чтобы объяснить ее причины, мы должны еще пролить свет на его историю.
Отец Франческо, как свидетельствовали его облик и манеры, действительно происходил из одного из самых знаменитых флорентийских семейств. Он принадлежал к числу тех, кого древний писатель называет «одержимыми смутной тоской». От природы наделенный неуемной жаждой новых впечатлений и мятущейся душой, которая, казалось, обрекала его никогда не знать покоя и ни в чем не знать меры, он рано вкусил честолюбия, войны и того, что повесы его времени именовали любовью; он предавался самым разнузданным излишествам самого развратного века и превосходил тягой к роскоши и расточительству самых отчаянных своих товарищей.
Но тут Флоренцию захлестнула волна религиозного обновления, которое в наши дни назвали бы «возрождением», и вынесла его, вместе со множеством других, на пылкую проповедь доминиканского монаха Джироламо Савонаролы, и в толпе тех, кто трепетал, плакал, бил себя в грудь, внимая его страстным упрекам и обвинениям, он тоже ощутил в себе Божественное призвание, умер для прежней жизни и возродился к новой.
Глядя на большую холодность и привычку к сдержанности, свойственную нынешним временам, нельзя и вообразить безумной, безудержной горячности религиозного возрождения среди людей столь страстных и впечатлительных, как итальянцы. Оно пронеслось по обществу, словно весенний поток со склонов Апеннин, увлекая все за собою. Кающиеся владельцы с фанатичным рвением громили собственные дома, а на широких городских площадях в костры бросали соблазнительные картины, статуи, книги и множество иных прельстительных, бесовских предметов. Художники, обвиненные в создании нечестивых, развратных образов, кидали свои палитры и кисти в это очистительное пламя и удалялись в монастыри, до тех пор пока глас проповедника не призывал их и не повелевал поставить свой дар на службу высшим целям. Воистину, итальянское общество не переживало такого религиозного потрясения со времен святого Франциска.
Ныне религиозное обращение, сколь бы глубокие чувства ни испытывал при этом христианин, сопровождается лишь немногими внешними переменами, но в Средние века жизнь была проникнута поистине бездонным символизмом и неизменно требовала материальных образов для его выражения.
Веселый и распутный молодой Лоренцо Сфорца расстался с этим миром, совершив обряды необычайно мрачные и скорбные. Он составил завещание, отрекся от всего своего земного имения и, собрав друзей, попрощался с ними, подобно умирающему. Облаченного в саван, как покойника, милосердные братья, в траурных одеяниях, с погребальными песнопениями и зажженными свечами, положили его в гроб и перенесли из его величественного особняка в родовой склеп его предков, куда они и поместили гроб и где оставили новообращенного на целую ночь во тьме, в одиночестве и в невыносимом страхе. Уже оттуда утром его, почти лишившегося чувств, переправили в соседний монастырь с самым суровым уставом, где несколько недель он каялся в молчании и молитве, пребывая в строжайшем затворе, не видясь и не говоря ни с кем, кроме своего духовника.
Воздействие, произведенное всеми этими обрядами на его страстную, чувствительную душу, нельзя себе и представить, и не следует удивляться тому, что некогда веселый, привыкший к роскоши Лоренцо Сфорца явился из этого тяжелейшего искуса, столь растворившись, в изможденном, измученном отце Франческо, что воистину могло показаться, будто он умер и его место занял иной. На его исхудалом челе отныне пролегали глубокие морщины, он глядел на мир глазами человека, узревшего устрашающие загробные тайны. Он добровольно попросил назначить его на пост как можно более далекий от мест, где проходили его прежние дни, чтобы решительно порвать со своим прошлым, и с горячностью отдался новому делу, тщась пробудить искру высшей, духовной жизни в ленивых, самодовольных монахах своего ордена и в невежественных местных крестьянах.
Однако вскоре он осознал, что, стремясь открыть своим собратьям собственные прозрения и озарения, он только проникся ощущением своего бессилия и слабости. К великому своему унынию и досаде, он понял, что человек, взалкавший жизни духа, обречен вечно брать на себя бремя праздности, равнодушия и животной чувственности, которым предаются все вокруг, и что на нем лежит проклятие Кассандры – мучиться ниспосланными ему ужасными, правдивыми видениями, будучи не в силах убедить никого в их истинности. Вращавшийся в юности лишь в образованных, утонченных кругах, отец Франческо не мог по временам не ощущать невыносимой скуки, выслушивая исповеди людей, так и не научившихся хоть сколько-нибудь ясно мыслить и чувствовать и не способных подняться над самыми пошлыми потребностями животной жизни, даже внимая его самым страстным проповедям. Его утомляли детские ссоры и перебранки монахов, их душевная незрелость, их себялюбие и потворство собственным слабостям, безнадежная вульгарность их ума, его обескураживали запутанные лабиринты обмана, в которых они терялись при каждом удобном случае. Его охватила скорбь глубокая, как могила, и он принялся с удвоенными усилиями предаваться аскезе, надеясь телесными муками ускорить свой конец.
Однако, впервые внимая у перегородки исповедальни прозрачному, сладостному голосу Агнессы, ее речам, исполненным безыскусной поэзии и глубоко таимого неподдельного чувства, он словно услышал сквозь решетку чудесную мелодичную музыку и ощутил в своем сердце трепет, о котором, казалось, совсем забыл и который точно снял с души его тяжкий, мучительный груз.
До своего обращения он знал женщин примерно так же, как светские любезники у Боккаччо, а среди них ему встретилась одна чаровница, волшебство которой пробудило в его сердце одну из тех роковых страстей, что сжигают душу мужчины дотла, оставляя вместо нее, точно в опустошенном войной городе, горстку дымящегося пепла. А потому среди данных им обетов отречения он с особенным жаром произнес тот, что обрекал его на вечное безбрачие. Отныне его и всех женщин на свете разделяла бездна столь же глубокая, сколь и ад, и думал он о женщинах не иначе как о несущих гибель искусительницах и соблазнительницах. Впервые в жизни от женщины повеяло на него чем-то безмятежным, естественным, здоровым и разумным, на душу его словно бы снизошел в ее присутствии мир, небесная благодать столь полная и совершенная, что он не стал бороться с нею или подозревать ее в тайной греховности, а, напротив, невольно открылся ей, подобно тому как находящийся в душной комнате невольно начинает дышать глубже, ощутив струю свежего воздуха.
Как же он был утешен, обнаружив, что его проповеди и наставления, более всего проникнутые духовной жаждой, находят живой отклик у существа, по самой природе своей поэтического и ищущего идеала! Более того, по временам ему даже казалось, будто самым его сухим и строгим призывам и увещеваниям она не просто следует, но наполняет их живой жизнью, подобно тому как бесплодный и иссохший жезл Иосифа обратился покрытой листьями, цветущей ветвью, когда обручился он с Марией.
Отныне его бесцельная и бесплодная, унылая жизнь стала украшаться придорожными цветами, и он вполне поверил в чудо, ибо цветы эти имели Божественную природу. Благочестивые мысли или богоугодные увещевания, которыми у него на глазах с усмешкой пренебрегали грубые монахи, он вновь с надеждой стал повторять, ведь их могла понять она; и постепенно все помыслы его превратились в неких почтовых голубей, что, однажды узнав путь к любимому приюту, порхая, возвращаются туда снова и снова.
Такова чудесная сила человеческой симпатии, что стоит нам обнаружить душу, способную понять нашу внутреннюю жизнь, как она уже получает над нами могущественную, таинственную власть; любая мысль, любое чувство, любое желание обретает какую-то новую ценность, ибо к ним теперь присоединяется сознание того, что их оценит ум дорогого нам человека; потому-то, пока человек этот жив, наше бытие делается вдвойне ценным, пускай нас даже разделяют океаны.
Облако безнадежной меланхолии, затуманившей ум отца Франческо, рассеялось и уплыло – он и сам не знал почему, он и сам не знал когда. Духом его овладела тайная веселость и живость; он стал жарче молиться и чаще возносить благодарение Господу. До сих пор, предаваясь благочестивым размышлениям, он чаще всего сосредоточивался на страхе и гневе, на ужасном величии Господа, на страшной каре, уготованной грешникам. Доныне в своих проповедях и наставлениях он подробно изображал тот жуткий, отвратительный мир, что узрел суровый флорентиец[8 - Имеется в виду Данте Алигьери, автор «Божественной комедии».], призывающий всякого «оставить надежду» и вселяющий ужас и трепет в душу, которая странствует по вечным кругам ада, созерцая муки грешников во плоти.
Потрясенно и скорбно осознал он, сколь преисполнены были тщеславия и гордыни его самые напряженные усилия победить грех, живописуя пастве эти ужасные образы: натуры, ожесточившиеся и закоренелые в своих пороках, слушали его, плотоядно наслаждаясь кровожадными подробностями и оттого словно бы только еще более ожесточаясь; натуры же робкие и боязливые при упоминании всех этих мук и страданий чахли, словно опаленные пламенем цветы; более того, подобно тому, как жестокие казни и кровавые пытки, принятые в ту пору законом по всей Европе, не уменьшали число преступлений, эти образы вечных мук тоже оказывали какое-то безнравственное влияние на христиан, способствуя распространению греха и порока.
Но с тех пор, как он встретил Агнессу, – он и сам не знал почему – мысли о Божественной любви стали проникать в его душу, словно плывущие по небу золотистые облака. Он сделался более приветлив и мягок, более терпелив к заблудшим, более нежен с маленькими детьми; теперь он чаще останавливался на улице, чтобы возложить руку на голову ребенка или поднять другого, упавшего наземь. Он научился наслаждаться пением птиц и голосами зверей, а молитвы, произносимые им у одра болящих или умирающих, казалось, обрели способность утишать боль, хотя прежде были лишены этого свойства. В душе его настала весна, мягкая итальянская весна, приносящая с собой пряный аромат цикламена и нежное благоухание примулы.
Так прошел год, возможно лучший, счастливейший год его беспокойной жизни, год, когда незаметно для него самого еженедельные встречи с Агнессой в исповедальне превратились для него в источник Божественного вдохновения, из которого он теперь черпал силы, а она, сама того не подозревая, стала солнцем, согревшим его душу.
Он говорил себе, что долг его – посвящать как можно больше времени и усилий огранке и шлифовке этого чудесного алмаза, столь неожиданно вверенного его попечению, дабы он впоследствии украсил венец Господень. Он ни разу не дотрагивался до ее руки; никогда даже складки ее платья на ходу не задевали его рясы, свидетельствующей об умерщвлении плоти и отречении; никогда, даже при пастырском благословении, не решался он возложить руку на ее прекрасное чело. Впрочем, иногда он и вправду позволял себе поднять взгляд, заметив, что она входит в церковную дверь и проплывает между рядами скамей, опустив взор и явно лелея помыслы столь неземные, столь возвышенные, что уподоблялась одному из ангелов Фра Беато Анджелико и словно ступала по облакам, столь безмятежная и благочестивая, что, когда она проходила мимо, он затаивал дыхание.
Однако то, что он узнал этим утром на исповеди от престарелой матроны Эльзы, потрясло его, горячо и страстно взволновало, поразило до глубины души.
Мысль о том, что Агнесса, его чистый, незапятнанный агнец, могла сделаться предметом безудержных, беспутных домогательств, природу и саму вероятность которых он представлял себе тем яснее, что в прошлом и сам вел подобную жизнь, – наполняла его душу тревогой и беспокойством. Но Эльза открыла ему свои намерения выдать Агнессу замуж и посоветовалась с ним о том, прилично ли будет немедля вверить ее защите и покровительству ее нареченного; именно эта часть ее рассказа и вызвала у отца Франческо невыносимое тайное отвращение, подняв в душе его целую бурю чувств, которые он тщетно пытался понять или подавить.
Исполнив свои утренние обязанности, он отправился в монастырь, уединился у себя в келье и, пав ниц перед распятием, мысленно принялся сурово допрашивать самого себя, требуя у себя отчета в малейшем побуждении, взгляде или мысли. День прошел в посте и в затворе.
А сейчас уже золотит небо вечер, и на квадратной плоской крыше монастыря, который, примостившись высоко на утесе, выходит на залив, можно заметить темную фигуру, медленно расхаживающую взад-вперед. Это отец Франческо, и, пока он шагает туда-сюда, по его большим, сверкающим, широко открытым глазам, по ярким пятнам румянца, выступившим на ввалившихся щеках, по нервной энергии, ощущающейся в каждом его движении, можно понять, что он переживает какой-то духовный кризис, пребывая в состоянии того внешне безмятежного экстаза, когда охваченный страстным волнением мнит себя спокойным и невозмутимым, потому что каждый нерв его напряжен до предела и более не в силах трепетать.
Какие океаны обрушили на него в этот день свои волны и увлекли в глубину, словно капризный прибой Средиземного моря – утлую рыбацкую лодчонку? Неужели вся его борьба с собой, все его муки оказались тщетны? Неужели он любил эту женщину земной любовью? Неужели он ревновал к ее будущему мужу? Неужели демон-искуситель нашептывал ему на ухо: «Лоренцо Сфорца мог бы уберечь это сокровище от осквернения жестоким насилием, вырвать ее из когтей тупого крестьянина, не способного ее оценить, но отцу Франческо это не по силам»? В какой-то миг ему чуть было не показалось, что он кощунственно предал свои обеты, свои торжественные, благоговейные обеты, при одном воспоминании о которых он содрогался до глубины души.
Но, проведя много часов в молитве и в борьбе с собой, вновь и вновь побеждая обрушивающиеся на него волны мучительных сомнений, он обрел то возвышенное расположение духа, которое можно сохранять довольно долгое время и в котором все вещи представляются столь преображенными и чистыми, что людям этим кажется, будто они отныне и навсегда одолели дьявола.
Теперь, когда он неспешно расхаживает взад-вперед в золотисто-пурпурных вечерних сумерках, собственный ум представляется ему столь же безмятежным и умиротворенным, сколь и сияющее море, отражающее в своих водах фиолетовые берега Искьи и причудливые, фантастические скалы и гроты Капри. Все золотится и сверкает пред его взором; он все видит ясно; он избавлен от духовных врагов; он попрал их пятами.
Да, говорит он себе, он любит Агнессу, любит ее той святой, возвышенной любовью, какой любит ангел-хранитель, зрящий лик Отца Небесного. Но почему же тогда ее предстоящий брак внушает ему такое отвращение? Разве это не очевидно? Разве у этой нежной души, этой поэтической натуры, этого возвышенного создания есть что-то общее с вульгарной, грубой крестьянской средой? Разве не будет ее красота вечно привлекать взор развратников, разве не будет ее несравненная прелесть вечно подвергать ее безыскусную невинность гнусным искательствам, которые будут тревожить ее и вызывать необоснованную ревность мужа? Что, если на Агнессу обрушится жестокая, незаслуженная кара, что, если муж прибегнет к телесным наказаниям, даже пустит в ход кнут, по примеру других мужчин низших сословий, не стесняющихся в пылу ревности «учить» своих жен? Какое же будущее предлагало тогдашнее общество натуре, столь богато одаренной физически и духовно себе на погибель? У отца Франческо есть ответ на этот вопрос. Поприще, в котором женщине отказывает весь мир, открывается для нее в церкви.
Он вспоминает историю дочери сиенского красильщика, прекрасной святой Екатерины. В юности он часто посещал монастырь, где первые художники Италии обессмертили ее борьбу и ее победы, и рядом со своей матерью преклонял колени у алтаря, где святая теперь говорит с верующими. Он вспомнил, как благодаря своей святой жизни святая Екатерина Сиенская удостоилась быть принятой при дворах властителей, куда ее отправили как посланницу церкви отстаивать церковные интересы, а потом перед его внутренним взором предстало великолепное творение Пинтуриккьо, на котором запечатлено, как ее, возлежащую на смертном одре в райской безмятежности, чистоте и покое и окруженную могущественными князьями церкви, причисляет папа к лику святых, объявив одной из тех, кому суждено царствовать на небесах и служить заступницей перед Христом за смертных.
А потому точно ли он грешит, ощущая некое ревнивое желание во что бы то ни стало удержать это одаренное, прекрасное создание? И пусть он не может даже помыслить, даже мечтать о том, чтобы обладать ею, точно ли он грешит, всеми силами души яростно и неукротимо сопротивляясь самой мысли о том, чтобы отдать ее другому смертному, но видя ее лишь Христовой невестой?
Разумеется, если и так, то грех этот таился где-то глубоко-глубоко в его душе, и священник мог сказать в свое оправдание многое, что успокоило бы и более строгую совесть, а потому, подвергнув свой ум тщательному допросу и анализу, он ощутил некое подобие торжества.
Да, она возвысится, и слава ее воссияет над миром, но это он своею собственной рукой поведет ее ввысь, к небесам. Он призовет ее под священную сень исповедальни, он произнесет торжественные, исполненные благоговейного трепета слова, которые превратят в святотатство всякое искательство других мужчин, которые пожелали бы ухаживать за нею, и, однако, именно он на протяжении всей земной жизни будет оберегать и наставлять ее душу, именно ему она будет повиноваться беспрекословно, как надлежит повиноваться одному лишь Христу.
Вот каким размышлениям предавался он в час своего триумфа, однако они, увы, обречены были утратить свой блеск и великолепие, подобно тем пурпурным небесам с золотистыми отсветами, что постепенно угасают, оставляя вместо своего сияния и прелести только зловещий и мрачный пламень Везувия.
Глава 6
Дорога в монастырь
Эльза вернулась с исповеди вскоре после рассвета, весьма успокоенная и довольная. Отец Франческо проявил такой интерес к ее рассказу, что она почувствовала себя чрезвычайно польщенной. Потом он дал ей совет, вполне согласовывавшийся с ее собственным мнением, а подобный совет всегда воспринимается как явное доказательство мудрости того, кто его дает.
Что касается брака, то тут он предложил повременить, то есть выбрать план действий, совершенно отвечавший чаяниям Эльзы, которая, как ни странно, едва пообещав внучку Антонио, прониклась к нему капризной, ревнивой неприязнью, словно он вознамерился похитить у нее Агнессу, и враждебность эта иногда столь властно овладевала ею, что она не в силах была даже говорить с будущим зятем спокойно, а Антонио от такого поворота дел только шире открывал большие свои глаза да дивился мысленно переменчивости и причудам женщин, однако продолжал ждать свадьбы с философическим спокойствием.
Лучи утреннего солнца, подобно золотистым стрелам, уже пронзали листву апельсиновых деревьев, когда Эльза вернулась из монастыря и застала Агнессу за молитвой.
– Что ж, сердечко мое, – сказала почтенная матрона, когда они позавтракали, – освобожу-ка я тебя сегодня от работы. Я схожу с тобой в монастырь, и ты проведешь весь день с сестрами и отнесешь святой Агнессе перстень.
– Ах, спасибо, бабушка! Какая вы добрая! Могу я ненадолго остановиться по пути – нарвать цикламенов, мирта и маргариток, чтобы украсить ее часовню?
– Как хочешь, дитя мое; но, если собираешься нарвать цветов, надобно нам поторопиться и выйти пораньше, ведь я должна вовремя стать за прилавок, не зря же я все утро собирала апельсины, пока моя душенька спала.
– Вы всегда все делаете сами, а мне ничего не остается, – это нечестно. Но, бабушка, давайте, чтобы по дороге нарвать цветов, пойдем вдоль ручья, по ущелью, прямо к берегу моря, по песку, и так доберемся окольным путем в гору до самого монастыря: путь по тропинке там такой тенистый и приятный в эту утреннюю пору, а на берегу моря веет такой свежий ветер!
– Как прикажешь, душенька, но сначала положи в корзину побольше наших лучших апельсинов для сестер.
– Не беспокойтесь, я все сделаю!
И с этими словами Агнесса проворно бросилась в дом, нашла среди своих сокровищ маленькую белую плетеную корзину и принялась причудливо убирать ее по краям листьями апельсинового дерева, окаймив ее, словно венком, гроздьями благоухающих цветов.
– А теперь положим наших лучших апельсинов-корольков! – воскликнула она. – Старушка Джокунда говорит, они похожи на гранаты.
– А вот и несколько малышей – смотрите, бабушка! – продолжала она, повернувшись к Эльзе и протягивая ей только что сорванную ветку с пятью маленькими, золотистыми, круглыми, как шарики, плодами, оттеняемыми кипенью жемчужно-белых бутонов.
Разгоряченная прыганьем за высоко растущими апельсинами, с ярким румянцем, выступившим на безупречно гладких смуглых щеках, с сияющими от восторга и удовольствия глазами, она стояла, переполняемая радостью, держа в руках ветку. На ее прекрасном лице играли трепещущие тени, и казалась она скорее не девой из плоти и крови, а мечтой живописца.