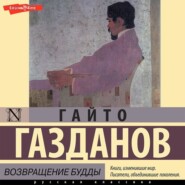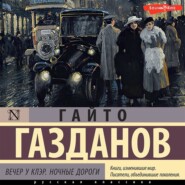По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вечер у Клэр. Полет. Ночные дороги (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Почему это вас вдруг заинтересовало?
– А меня солдаты спрашивают: Иван, что там в небе, как молоко? Я говорю: Млечный Путь. А что такое Млечный Путь, не знаю.
Я объяснил ему, как мог. На следующий день он опять подошел ко мне:
– А скажите мне, пожалуйста, чему равняется длина окружности?
– Она определяется специальными математическим терминами, – говорил я. – Не знаю, будут ли они вам понятны. – И я привел ему формулу длины окружности.
– Ага, – подтвердил он с довольным видом. – А я вас нарочно пытал, думал, может, не знаете. Я раньше спросил у вольноопределяющегося Свирского, а потом записал и пришел вас пытать.
Он был прекрасным рассказчиком; и в среде так называемых интеллигентных людей я не видал никого, кто бы мог с ним сравняться. Он был очень умен и наблюдателен и обладал творческим даром создавать смешное из того, в чем другой не нашел бы его, без которого юмор всегда бывает несколько вял. Я не помнил рассказов Ивана, в которых он проявлял свой удивительный имитаторский талант; и потому, что искусство его было легким и мгновенным, оно трудно поддавалось запечатлению; и теперь я вспоминал лишь то, как он передавал свой разговор с красным генералом, когда в батарею, которой командовал в те времена Иван, прислали плохих лошадей.
– Я ему говорю, – рассказывал Иван, – товарищ командир, разве ж то кони? Кони ходят и очень удивляются, что они еще не подохли. А он отвечает: благодарю верховную власть, что не все у меня такие командиры капризные, как те бабы. А я говорю: вот вы, не дай бог, товарищ командир, помрете, так мы вас на тех конях хоронить будем, чтоб не очень трясло.
Я проводил свое время с солдатами, но они относились ко мне с известной осторожностью, потому что я не понимал очень многих и чрезвычайно, по их мнению, простых вещей, и в то же время они думали, что у меня есть какие-то знания, им, в свою очередь, недоступные. Я не знал слов, которые они употребляли, они смеялись надо мной за то, что я говорил «идти за водой». «За водой пойдешь, не вернешься», – насмешливо замечали они. Кроме того, я не умел разговаривать с крестьянами и вообще в их глазах был каким-то русским иностранцем. Однажды командир площадки сказал мне, чтобы я пошел в деревню и купил свинью.
– Должен вас предупредить, – сказал я, – что я свиней никогда не покупал, такого случая в моей жизни еще не было; и если моя покупка окажется не очень удачной, вы уж не будьте в претензии.
– Что ж, – ответил он, – ведь свинью покупать – это вам не бином Ньютона какой-нибудь. Мудрость тут невелика.
И я отправился в деревню. Во всех избах, куда я заходил, на меня смотрели с недоверием и усмешкой.
– Нет ли у вас свиньи продажной? – спрашивал я.
– Кого?
– Свиньи.
– Ни, свиньи нема.
Я обошел сорок дворов и вернулся на площадку ни с чем.
– У меня создалось впечатление, – сказал я офицеру, – что эта разновидность млекопитающих здесь неизвестна.
– А у меня создалось впечатление, что вы просто не умеете покупать свиней, – ответил он.
Я не стал спорить; и тогда Иван, присутствовавший при этом разговоре, предложил свои услуги.
– Идемте со мной, – сказал он мне, – и зараз свинью купим.
Я пожал плечами и опять пошел в деревню. В первой же избе – той самой, где мне сказали, что свиньи нет, – Иван купил за гроши громадного борова. Перед этим он поговорил с хозяевами об урожае, выяснил, что его дядька, живущий в Полтавской губернии, ближайший друг и земляк зятя хозяина, похвалил чистоту избы, хотя изба была довольно грязная, сказал, что в таком хозяйстве не может не быть свиньи, попросил напиться, и кончилось это тем, что нас накормили до отвала, продали свинью и проводили за ворота.
– Вот вам и бином, – сказал я командиру, вернувшись.
И всегда бывало так, что там, где мне приходилось иметь дело с крестьянами, у меня ничего не выходило; они даже плохо понимали меня, так как я не умел говорить языком простонародья, хотя искренне этого хотел. На бронепоезде у нас преобладали, однако, люди, уже обтершиеся и получившие известный лоск: железнодорожные служащие, телеграфисты. Солдаты наши очень франтили, носили «вольные» брюки, что считалось вольнодумством, а некоторые унизывали пальцы кольцами и перстнями таких гигантских размеров, что поддельность их ни у кого решительно не вызывала ни малейших сомнений. Самое большое количество драгоценностей носил первый из бронепоездных негодяев, бывший мясник Клименко. Все свободное время он находился в состоянии напряженного внимания: левая рука его не переставала крутить усы, а правую он держал в воздухе, поближе к глазам, чтобы лучше видеть блеск своих колец. О его дурных качествах узнали после того, как он украл у своего соседа деньги, попался и когда командир сказал ему:
– Ну, Клименко, выбирай: или я тебя под суд отдам и тебя расстреляют, как собаку, или я выстрою весь бронепоезд и перед фронтом дам тебе несколько раз по физиономии.
Клименко стал на колени и просил, чтобы командир дал ему по физиономии. Клименко сказал: по морде. Это было сделано на следующее утро; и потом у себя в вагоне Клименко часто вспоминал это и говорил:
– Я могу только смеяться с дурости командира. – И действительно смеялся.
Вторым негодяем считался бывший начальник какой-то маленькой железнодорожной станции Валентин Александрович Воробьев. Как большинство пожилых уже негодяев, он был чрезвычайно благообразен: носил пушистую бороду, которую бережно расчесывал; он был очень любезен в обращении, пел высоким голосом грустные украинские песни – и вместе с тем тип отъявленного мерзавца был доведен в нем до конца. Он мог подвести товарища под суд, мог, как Клименко, обокрасть своего же соседа и, уж конечно, в трудных обстоятельствах выдал бы всех. Когда я приехал на бронепоезд, он в тот же день украл у меня коробку с тысячью папирос. Кажется, этого человека очень любили женщины, он жил со всеми служанками и подметальщицами, которые находились в его подчинении; а когда одна из них отвергла его, он написал на нее донос, обвинив ее в социализме, хотя бедная женщина была неграмотной; и ее арестовали и отправили куда-то по этапу; была зима, женщина эта уехала с двухлетней своей девочкой на руках. Глядя на Воробьева, я часто думал о том, почему женщины нередко отдают предпочтение негодяям: может быть, потому, говорил я себе, что негодяй более индивидуален, чем средний человек; в негодяе есть что-то, чего нет в других, и еще потому, что каждое, или почти каждое, качество, доведенное до последней своей степени, перестает рассматриваться как обыкновенное свойство человека и приобретает притягательную силу исключительности. И так как, несмотря на то что прежняя моя жизнь кончилась, я еще не совершенно ушел от нее и некоторые гимназические привычки еще оставались у меня, я был еще гимназистом, то мои мысли принимали особый оборот, заранее обрекавший их на бесплодность и несоответствие первоначальным соображениям, которые, таким образом, служили мне только предлогом для возвращения моей фантазии в ее излюбленные места. Женщины любили палачей; и исторические преступления, совершенные сотни лет тому назад, до сих пор не утеряли для них своего волнующего интереса, и почему не предположить, что Воробьев – это миниатюра грандиозных преступлений? Но это было нелепо и не походило ни на что. Воробьев занимался тем, что воровал в соседних товарных составах сахар и мануфактуру, а однажды ухитрился, маневрируя ночью на паровозе, увести из поезда генерала Трясунова, командующего фронтом, новенький желтый вагон второго класса. Но вечерами, лежа на своей койке с побледневшим от пьянства лицом и мутными, печальными глазами, он все сокрушался о том, что волею судеб вынужден принимать участие в гражданской войне.
– Боже мой! – говорил он чуть ли не со слезами. – Какая обстановка! Расстрелянные, повешенные, убитые, замученные. Да я-то тут при чем? Кому какое зло сделал? За что все это? Господи, мне бы домой; у меня жена, ребятишки маленькие спрашивают: где папа? А папа сидит тут, под виселицами. Что я детям скажу? – кричал он. – Где мое оправдание? Одно вот утешение: приедем в Александровск, приду к жене ночью, неожиданно. Скажу: заждалась, милая? А я вот он.
И действительно, в Александровске Воробьев побывал у жены и вернулся умиротворенным. Но когда мы отъехали верст сорок и простояли на маленькой станции трое суток, он опять загрустил.
– Боже мой, какая обстановка! Расстрелянные, повешенные. За что? – опять кричал он. – Дети спросят: ты где был, папа? Что я им скажу? – Он умолк, вздохнул и потом сказал задумчиво: – Вот приедем в Мелитополь, пойду к жене, снова буду дома. Что, скажу, заждалась, милая? А я вот он.
– А ваша жена уже в Мелитополе? – спросил я.
Он поглядел на меня невидящими, пьяными глазами, в которых стояло выражение умиления и благодарности:
– Да, милый друг, в Мелитополе.
Но, и уехав из Мелитополя, он продолжал мечтать, как приедет к жене на этот раз уже в Джанкой.
– У тебя, брат, жена прямо клад, – говорили ему с насмешкой. – Не жена, а Богородица вездесущая. Как же это она – в Александровске, и в Мелитополе, и в Джанкое? И везде детишки и квартира. Здорово ты устроился.
И тогда Воробьев привел объяснение, которое, по-видимому, казалось ему совершенно достаточным. Всех остальных оно очень удивило.
– Дети, – сказал он, – да ведь я железнодорожник.
– Ну так что же?
– Чудаки, – изумился Воробьев. – Видно, службы железнодорожной не знаете. В каждом городе жена, дорогие, в каждом городе.
Третий негодяй был Парамонов, студент, которого незадолго до моего поступления легко ранили в ногу. Он, собственно, зла никому не причинял, но каждый день часа за два до докторского обхода он втирал себе в рану масло, не давая ей таким образом заживляться, и поэтому он считался раненым бесконечно долго и не ездил на фронт. Все видели и знали, как он поступает, но относились к нему с молчаливым презрением и брезгливостью, и ни у кого не хватало духа сказать ему, что так делать нехорошо. Он всегда бывал один, с ним избегали разговаривать; он сидел обычно в своем углу и, украдкой поглядывая кругом, ел сало и хлеб – он был очень прожорлив. Он жил как одинокое животное, присутствие которого терпят, хотя оно и неприятно. Он был молчалив и враждебен ко всем, и, когда проходили мимо его койки, он следил за проходившими настороженным и злым взглядом. Потом его куда-то откомандировали. Я вспомнил о Парамонове через несколько лет, уже за границей, когда видел умирающего филина, привязанного туго замотайной тесемкой к дереву; едва заслышав чьи-нибудь шаги, филин выпрямлялся, перья его топорщились, он медленно взмахивал крыльями и щелкал клювом; и желтые его глаза слепо и злобно смотрели перед собой. Были на поезде вруны, мошенники, был даже один евангелист, который пришел неизвестно откуда, поселился в нашем вагоне и жил безбедно и беззаботно, проповедуя непротивление злу.
– Я до этой вашей винтовки никогда не дотрагивался и не дотронусь, – говорил он. – Грех.
– А если на тебя нападут?
– Словом буду отражать.
Но однажды, когда он принес себе обед – котелок с борщом и котелок с кашей, – а его у него потихоньку стащили, он пришел в ярость, схватил по странной случайности ту винтовку, к которой обещал не прикасаться, и наделал бы много бед, если бы его не обезоружили.
Но самым удивительным человеком, которого я видел на войне, был солдат Копчик, внешнее отличие которого заключалось в его непобедимой лени. Он ненавидел всякую работу, все делал с величайшим трудом и вздохами, хотя был совершенно здоров и силен. Солдаты недолюбливали его за постоянное увиливание от нарядов; им приходилось многое за него делать. Он всегда жил, как-то скрываясь, полный боязни перед тем, что его вдруг заставят грузить в вагоны муку, или носить воду, или чистить картофель. Он изредка проходил вдоль базы – и тотчас же его небритый подбородок, слезящиеся глаза и вся фигура в обтрепанном и грязном френче и таких же штанах исчезали, и уже через минуту его с собаками не сыскали бы. На фронт он старался не ездить по той же причине, по какой прятался в базе: там тоже нужно было работать, – но если в тылу была еще возможность уклониться от этого, то на площадке, в бою, это становилось немыслимым. Лень этого солдата была в нем неизмеримо сильнее, нежели страх смерти, потому что смысла опасности он до конца не понимал, а то, что работа мешала ему жить в праздности и мечтать – что он любил больше всего на свете, – это он знал превосходно. Я не представлял себе такого случая, когда Копчик вдруг мог бы проявить хоть часть своей огромной энергии, уходившей на придумывание способов уклониться от всякого труда и на долгое лежание под вагоном, как он это делал в жаркую летнюю погоду. Я не знал, способен ли Копчик совершить хоть ничтожный поступок, но который бы каким-нибудь образом показал, что он думает, чем он живет и что составляет предмет его долгих размышлений, наполняющих обычное его безделье. И вот однажды на площадке, во время сильного боя, когда Копчик со страданием в глазах вытаскивал снаряды из их гнезд и подавал их к орудию и каждый снаряд сопровождал жалобным вздохом, а после пятого сказал: спина разболелась, тяжелые очень снаряды, – неприятельская граната разорвалась над нашим орудием; раненный в живот наводчик упал на пол, и пушка перестала стрелять. В мгновенно наступившем замешательстве никто не знал, что делать, и только Копчик, который увидел, что больше ему покамест работать не придется, облегченно вздохнул, похлопал рукой горячую еще пушку и изменившейся, почти подпрыгивающей походкой подошел к раненому. Кровь заливала пол, смертельная последняя тревога была на лице раненого.
– Ты не помрешь, – сказал ему Копчик среди общего молчания. Вдалеке с равными промежутками времени раздались четыре пушечных выстрела. – Посмотри, какой ты здоровый, – спокойно продолжал он, – кровь у тебя очень красная, а который человек больной, у того она синяя.
– Сердце не выдержит, – сказал наводчик.
– Сердце? – переспросил Копчик. – Это неправильно. Сердце у тебя крепкое, а если бы было слабое, тогда, конечно, не выдержало бы. Вот я тебе расскажу про слабое сердце. Пошел я раз коней купать, вижу, недалеко сидит водяной, и очень грустный. – Наводчик с усилием посмотрел на Копчика. – А ну-ка, думаю, дай пугну. И пугнул. Как крикну: ты чего, борода, здесь делаешь? Он и помер с испугу, потому что сердце у него слабое, не человеческое, вот какое сердце. А у тебя сердце очень крепкое.
Но, не доехав до базы, наводчик умер; и когда через три дня я, проходя по полотну, увидел из-под вагона свалявшиеся волосы Копчика, у меня стало странно на душе и смутно – и я поскорее от него отвернулся: было в этом солдате что-то нечеловеческое и нехорошее, что я хотел бы не знать. Но мое внимание отвлекла ссора главной кухарки офицерского собрания, помещавшегося в особом пульмановском вагоне, с бронепоездным чистильщиком сапог, пятнадцатилетним красивым мальчишкой Валей который, будучи любовником этой немолодой хромой женщины, изменил ей не то с прачкой, не то с судомойкой; она при всех ругала его за это нецензурными словами, и три солдата, стоявшие неподалеку, смеялись от всего сердца. Романы со служанками отнимали у офицеров и наиболее предприимчивых солдат довольно много времени; служанки быстро поняли себе цену и заважничали, и одна из них, крупная ярославская баба Катюша, не хотела знать никого и не внимала никаким уговариваниям до тех пор, пока ей не платили вперед. Бронепоездной рассказчик сальных анекдотов, поручик Дергач, жаловался на нее всем окружающим.