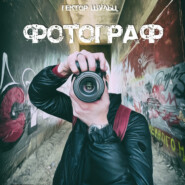По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Девочка с глазами старухи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мальчишку взяли в лесу с предполагаемыми партизанами. У одного из них был автомат. Наш автомат, господин оберштурмфюрер, – послушно отчеканил солдат.
– А девчонка? Или русские и сопливых детей в партизаны берут? – усмехнулся офицер, смотря на меня. Сердце обдало морозцем, когда я посмотрела в его глаза – холодные, влажные… и добрые.
– Говорит, что не с ними, но немецкий знает хорошо.
– Вот как, – протянул офицер, подавшись вперед. В этот раз в его взгляде блеснула заинтересованность. То ли он действительно не узнал меня, то ли просто сделал вид, предпочитая немного поиграть. – Варвары не перестают удивлять. Где ты выучила язык, девочка?
– Бабушка учила, – тихо ответила я. – Она до войны учительницей работала.
– Хорошо. Будешь переводить, – усмехнулся мужчина, переводя взгляд на мальчишку, а потом обратно на меня. – Имя и фамилия?
– Элла Пашкевич.
– Еврейка? – пытливо спросил он. Широкие ноздри сузились, когда офицер с шумом втянул воздух.
– Нет. Русская.
– Возраст?
– Пятнадцать лет. Месяц назад исполнилось, господин комендант.
– Где живешь?
– В Тоболье. Рядом с Софьяново.
– Ты! Те же вопросы, – сказанное относилось к мальчишке. Он недовольно засопел, когда я перевела, но, получив от грузного подзатыльник, нехотя ответил.
– Борис Романенко, семнадцать лет. Русский, в Марусино жил, пока там цело все было.
– Партизан? – вновь улыбнулся офицер. Мальчишка отрицательно мотнул головой, но я видела, что ему снова не поверили. – Конечно. Все вы так говорите, пока не прижмет. В клетку его. Девчонку пока оставь. Пусть другим переводит.
– Есть, господин оберштурмфюрер, – козырнул солдат и, схватив мальчишку за шиворот, выволок из кабинета.
С другими беглецами разговор был похожим. Они тоже отрицали свою причастность к партизанам, твердили о том, что автомат нашли в чьем-то заброшенном схроне, а бегство объяснили простым испугом.
Но коменданта это не удовлетворило. Он встал из-за стола и подошел к окну, повернувшись к беглецам спиной. Я стояла у стены и видела его лицо в профиль. Губы сурово поджаты, брови нахмурены, а глаза задумчиво прищурены. Обернувшись, офицер улыбнулся и, подойдя к одному из беглецов, которого, как я узнала, звали Иван, вытащил пистолет, после чего резко ударил мужчину рукоятью по скуле.
Сначала на занозистый, деревянный пол упали капли крови, а следом, через несколько мгновений, упало мычащее от боли тело. Я, побелев от страха, вжалась спиной в стену, но коменданту на меня было плевать. Он довольно рассмеялся, наблюдая, как Иван катается по полу, зажимая рот трясущейся ладонью, взвел пистолет и направил его на беглеца. Однако выстрела не последовало.
– Этих двоих отвести к Курту, – процедил комендант, указывая стволом на мужчин. Повернувшись ко мне, он снова улыбнулся. – А девчонку и того сопляка высечь. Кто-то из них точно заговорит. Выполнять.
– Есть, господин оберштурмфюрер, – рявкнул грузный. Он позвал двух других солдат из коридора, а сам схватил лежащего на полу Ивана, чьи губы были разбиты рукояткой пистолета. – Девчонку в клетку, к другому. А этих в подвал.
– Есть, – кивнули солдаты, выполняя приказ. Я безвольно обмякла в стальных руках конвоира. На миг голову пронзила странная мысль. Я не боялась боли, не боялась смерти. В голове витал один вопрос. Что скажет бабушка, когда я не приду домой?
Приказ немцы выполнили на совесть. Пока я скулила от боли в грязном углу клетки, прижимая колени к груди, двое солдат яростно лупцевали мальчишку плетками. Тот вился ужом, изредка тоненько вскрикивал, но не плакал. В отличие от меня. Слезы брызнули из моих глаз после первого же удара, рассёкшего кожу на спине. Девятый и десятый удары я почти не почувствовала. А на двенадцатом моча обожгла бедра, заставив солдат рассмеяться и переключиться на другого пленника. Обиднее всего, что мне и сказать-то было нечего, кроме правды. Я знать не знала ни Бориса Романенко, ни тех мужчин, которых увели в подвал. Да и о партизанах слышала только то, что мне рассказывал Петька.
Немцы закончили бить мальчишку только тогда, когда тот затих и перестал закрывать голову от жалящей плетки. Один из них повернул носком сапога беглеца на спину и удовлетворенно хмыкнул, увидев, что плетка рассекла кожу на щеке, оставив уродливый, набухший от крови шрам.
– Как успехи? – спросил их грузный, заходя в клетку. На меня он даже не взглянул, зато перед стонущим мальчишкой опустился на корточки. – Хорошо отделали.
– Девчонка ничего не знает. Еще и ноги обмочила, – рассмеялся солдат, чья плетка обожгла мне ухо, сделав его похожим на разваренный вареник с вишней.
– А этот одно и то же твердит. Мимо шел, мужиков увидел, потом побежал, испугавшись, – ответил второй, брезгливо тыкая ногой мальчишке в ребра.
– Наши тоже молчат. Один только не вытерпел, когда Курт ему два зуба вырвал. Заорал так, что чуть перепонки не лопнули, – поморщился грузный. Я посмотрела на него исподлобья и увидела, что костяшки на кулаках сбиты и кровоточат, а рукава испачканы темно-бурым. – Ладно. Приказ коменданта. До утра пусть тут валяются. А утром машина за ними придет. И на вокзал поедут. Лбы крепкие, на тяжелой работе сразу запоют.
– Они и у нас запоют, Дитрих, – недовольно проворчал солдат, почесав концом плетки бровь. Он даже не заметил, как испачкал кожу запекшейся кровью, но осекся, поймав недовольный взгляд грузного Дитриха.
– Приказ коменданта! – рыча, повторил он, подавшись вперед к солдатам. Те нервно сглотнули и синхронно кивнули. Грузный усмехнулся и, косо посмотрев на меня, тихо добавил. – Сами пожалеют, что молчали. Туда, куда они поедут, легкой смерти им не видать.
Немцы ушли, заперев клетку на два замка. Через полчаса избитый мальчишка пошевелился и, застонав, смог перебраться с каменного пола на деревянные нары. Я помогла ему улечься, и он благодарно вздохнул, после чего потерял сознание от боли. Но вот заплакать так и не захотел. Терпел. Терпел до последнего, пока черная с красным пелена окончательно не покроет пересохшие глаза.
Еще через час нам принесли скудный ужин, состоящий из подсохшей перловки и кружки с водой. Свою порцию воды я выпила осторожно, стараясь не потерять ни капли, хоть это и было ужасно трудно. Жалящий кончик плетки достал нижнюю губу, рассек её до мяса и теперь каждый глоток сопровождался резкой болью. Мальчишка есть не стал, но воду выпил, пусть и разлил большую часть себе на грудь. Он закашлялся, поперхнувшись, потом с трудом принял сидячее положение и скупо мне кивнул, благодаря за помощь.
– Умеют бить, гады, – хрипло произнес он, массируя обезображенную шрамом щеку. – Тебе не сильно досталось?
– Нет, – соврала я и покраснела, вспомнив, как немцы смеялись над тем, что я описалась.
– Спину покажи, – велел мальчишка, но я, закусив губу, мотнула головой, вызвав у него слабую улыбку. – Значит, сильно. Слабо бить они не умеют. Сам видел. В Марусино…
Деревенька Марусино находилась в двух днях пути на лошадях от Тоболья. Но сейчас от неё остались только сгоревшие дома и распухшее, как живот после сытного обеда, кладбище, куда немцы стаскивали убитых жителей. Об этом рассказали немногие из тех, кому удалось спастись. А через несколько дней и в Тоболье пришли немцы.
– Семья у нас жила. Зажиточная, – хрипло продолжил мальчишка. – Евреи, но добрые. Помню всегда мне то пряник, то конфет отсыплют. Ешь, говорят, Борька. А то скулы одни, да живот к позвоночнику прилип. Хорошие люди… Были. Этот, что допрашивал, как узнал, что они евреи, хлыст вытащил и забил их. До смерти. Как собак безродных. Мать, отца, бабку парализованную. Двух дочек. Потом тела в дом снес и поджечь велел. А пока дом горел, он кричал что-то, да никто не понимал, что именно. Дурак у нас еще был. Вовка. Так рассмеяться надумал. Смешно ему было, как немец чирикает. Еще и передразнивать начал. Что от дурака возьмешь. Так этот, с глазами холодными, расстрелял его. А потом и остальных, кто рядом стоял. Злой был, что черт. Мы с Гриней и Костей в сарае напротив прятались. Видели все. Как немцы из автоматов людей поливают. А потом запылало все.
Боря говорил безразлично и спокойно, но я чувствовала, как иногда дает слабину его голос. Голос дрожал, заставляя мальчишку морщиться, но я не перебивала. Просто слушала, понимая, что это важно. Борьке важно.
– Нас Семён нашел. Видала ты его. Тот, кудрявый, с автоматом. В лес утащил, а там мы других нашли. Таких же, покалеченных. Оружие у них было. И злость была, чтобы паскуду эту фашистскую без жалости стрелять. Так и прибились мы к ним. К лесовикам, как они себя называли. Я, Гриня и Костя. Костю через несколько дней немцы поймали в лесу. А потом на осине вздернули. Когда мы нашли его, он холодный уже был, – Боря замолчал и снова потер щеку. – Тебя правда баба научила по-ихнему балакать?
– Да, – тихо ответила я. – Бабушка учительницей…
– Это я слышал. Ну, может и хорошо, что карканье их знаешь. Проживешь подольше, – мальчишка говорил не как мальчишка. Говорил, как взрослый, успевший многое повидать. Такое, о чем забыть уже не сможет. – Болтали что о нас, пока я в забытье валялся?
– Говорили, что утром машина за нами придет. И на вокзал отвезет, – вспомнила я слова грузного Дитриха, от которого несло потом и кровью. Борька кивнул и поморщился от боли.
– Значит, все.
– Что «все»? – нахмурилась я, ничего не понимая.
– Видали мы вокзал этот. Под Минском он. Видали и вагоны деревянные, в которых людей пихали, а тех, кто отказывался лезть – стреляли. Да только без разницы, пойдешь ты в вагон или нет. Все равно смерть. Раньше или позже, – равнодушно ответил он и, опершись о кирпичную стену, замолчал.
Утром в камеру втолкнули Семёна и Ивана. Вид у мужчин был в разы хуже нашего. Борька, увидев их лица, поморщился и покачал головой. У Ивана глаз не видно. Узкие, пунцовые щелочки, да губы разбиты в кровавую кашу. Семён хромает, левая рука плетью повисла, а на пальцах обмотки кровавые. Но глаза все те же. Сосредоточенные, спокойные…
– Она сказала, что на вокзал повезут, – нарушил молчание Боря, указав на меня пальцем. Семён, бывший у беглецов кем-то вроде старшего, кивнул.
– Знаем. Черт этот белобрысый, что Ивану зубы рвал, тоже об этом обмолвился. Еще и смеялся, как дурной. На вокзал, значит… Ну, Бог не выдаст, собака не съест. Поглядим, а ну как сбежать получится… – Семён на миг замолчал и с тревогой посмотрел на меня. Но увидев, что я молча сижу в своем уголке, вздохнул. – Не боись, дочка. Тебя с собой возьмем, если дело выгорит. Все ж из-за нас тебя… да и парнишку того, значит…
Я не ответила. Лишь тоскливо вздохнула и подумала о бабушке. Что если Петьку нашли, а у бабушки сердце слабое? Думать об этом было невыносимо и я, мотнув головой, сосредоточилась на негромком, спокойном голосе Семёна, который что-то тихонько говорил своим друзьям.