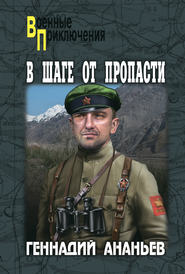По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Железный ветер
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пить.
Поднес ковш к губам, приподняв раненому голову, но тот никак не мог открыть рта – не слушались синюшные губы. Помог Богусловский осторожно. Жадный глоток, стон успокоенный, потягота судорожная, и – ничего больше не нужно человеку. Ничего…
Вечерело. Богусловский, начавший сомневаться, приедут ли до темноты пограничники, решил занести в избушку оружие и ношу нарушителей и их самих собрать к избушке, чтобы, если придется коротать ночь одному, уберечь трупы от росомах, воронья и другой пакостной живности. Вынес для начала из избушки умершего казака, пошел после этого за коноводом. Особняком его уложил, у самого родника, чтобы сохранней оставался в прохладе.
Успел все сделать, что намечал, и, когда, занеся последний заплечный мешок в избушку, опустился обмягший (от физической усталости и, главное, от душевной) на ступеньки у порога, услышал едва различимый топот копыт, который быстро приближался. Смахнул из-за спины карабин и – к углу избушки. Патрон на всякий случай загнал в патронник.
Излишняя предосторожность. Свои. Комендант с отделением пограничников влетел рысью размашистой на поляну. Лихо, но беспечно. Впрочем, все всегда по тропе этой беспечно ездили…
Из штаба комендатуры доложил Богусловский по телефону начальнику войск и о бое, и об исповеди раненого казака.
– Из наших кто-то, говорит? – переспросил недоверчиво начальник войск. – Задачку ты задал! Ты понимаешь, что это такое?!
Да, он понимал. Подозрение на каждого. И все же в письменном донесении оставил страшное для пограничников обвинение. Он верил раненому, его искренней предсмертной исповеди…
Как это было давно! Целых две недели назад. И надо же – следствие…
Зашипел репродуктор, нелепым черным кругом торчавший над дверью, наплыли мелодичные куранты с отдаленно врывавшимися в паузы автомобильными гудками – заговорила Москва. Нет, не горделивые сообщения со строек, из цехов, с полей колхозных, не полные тревожности международные дела – радиослушателям предлагалась политическая сатира. Лихо перелились аккорды, и два игривых голоса принялись, перебивая друг друга, подтрунивать над злодейкой акулой, которая набралась дерзости напасть на соседа кита. В припеве зазвучал монолог самой злодейки:
Съем половину кита я.
И буду, наверно, сыта я…
– Ну, братцы мои! – воскликнул Богусловский. – С ног все на голову! Допоемся!
Скверное настроение Богусловского от этого монолога-припева еще больше испортилось. К возмущению по поводу только что состоявшегося разговора по телефону добавилось возмущение нелепостью мысли, заложенной в монологе.
«Разлюли малина! – сердился Богусловский. – Пусть они друг друга глотают, а мы тут мирно да тихо, не выводя бронепоезд с запасного пути… Как можно воспитывать такое настроение?!»
Нет, сейчас он, взвинченный и наглостью японо-маньчжурских вояк, которые никак не отступались от острова Барковый, и столь же наглым требованием следователя никуда не выезжать до его приезда, хотя тот знал, что предстоит бой за остров, не мог снисходительно относиться к эстрадной сатире. Сейчас он мог рассуждать только с прямолинейной категоричностью. И он сейчас как бы вступил в спор с теми неизвестными ему певцами; он, сердясь, убеждал их, что не столько для захвата Китая напала на него Япония – ей наш Дальний Восток спать не дает. И в восемнадцатом году главной целью Квантунской армии, которая тогда была введена в Маньчжурию, были Приморье, Приамурье, Забайкалье и Сибирь. Место дислокации Квантунской армии так и называлось тогда: североманьчжурский плацдарм. Семенова и Калмыкова взяли квантунцы себе в подручные. Да и милитаристы китайские, из сторонников Чжан Цзолиня, не отказывали в помощи: плавсредства обязались поставить для форсирования Амура, охранять эшелоны японцев, разрешив им следовать по построенной Россией Китайско-Восточной железной дороге, продовольствовали японские войска, а число их немалое было – шестьдесят тысяч. Да мало ли чем помогали, надеясь, видимо, что не обойдут их при дележе добычи. Думали, как в девятьсот пятом, поживиться.
Спала веками на своих благодатных островах Япония, поморы же вольные, ушкуйники да купцы русские тем временем Курилы, Аляску, Калифорнию огоревали. А как обихаживать стали – тут желающих хоть пруд пруди…
Ну, Калифорнию – ту хитростью откусили: продала Штатам землю русскую Российско-американская торговая компания. Аляска таким же манером отошла. А на Курилах клинки скрестились. Головина ни за что ни про что пленили. Заливом Измены – так и зовется тот залив, где были японцами попраны всякие нормы человеческого общения.
И на Сахалин права заявлять стали, когда доказал Невельской, что он не полуостров, а остров. Так это же восемнадцатый век! Прежде, значит, не нужен был, теперь давай – и все тут!
Нет, не насытится «злодейка акула», проглотив Маньчжурию. Аппетит у нее только разгорелся. Тем более что многие из правителей китайских и тайно и явно поощряют «злодейку». На Восток России они глазами хозяев смотрят.
«Тут своя каша. Веками ее варили – попробуй теперь расхлебать, – думал Богусловский, осуждая неизвестных и известных ему дипломатов и воевод за медлительность и нерешительность в обустройстве земель, русскими обжитых. – Отдали Албазинский уезд, от Амура отступились. Полтораста лет бездействовали. А снова начать, когда цинцы за эти годы успели себя убедить, что Приамурье – их земля, много трудней оказалось».
Отбили бы сразу, как считал Богусловский, Албазин, послав добрую поддержку коменданту его, Толбузину, поостыли бы захватчики. И на переговоры в Нерчинск мог бы енисейский воевода князь Щербатый покрепче отряд послать. А вышло что: у окольничего Федора Алексеевича Головина пятьсот человек, а у маньчжуров – более десяти тысяч. Да и Головин сам либо робким неумехой оказался, либо иные, кроме письменных, инструкции имел.
А потом что творилось? Расследование бы хорошее провести, чтобы истину знать. Только некогда, да и некому. Вроде бы правильно сказал Николай I: «Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен». А на деле все иначе получалось. Невельской на свой страх и риск идет к устью Амура. И доносит, что пусто оно, нет там никого, кроме аборигенов. Его же чуть ли не под суд за это. По своей же русской земле ходить запрещалось! Он дальше, к корейской границе, – ему предписывают прекратить самовольство. Он определяет, где проходит Хинганский хребет (наконец-то!), и предлагает, исходя из Нерчинского договора, выставить там посты и начать заселение долины реки Уссури – ему опять кулак под нос. Так в конце концов и оттеснили великого патриота на задворки…
Особенно рьяно отмахивались от своей земли министр иностранных дел граф Нессельроде и военный министр граф Чернышев. Многие историки единодушны, что Нессельроде был бездарен, только сомнительны для Михаила Богусловского были те оценки. Бездарность ли одна руководила поступками министра иностранных дел? Знал Михаил, что «русский» граф был отпрыском того графского рода, один из которых носил имя Франц-Карл-Александр Нессельроде-Эрегсгофен. А этот род повязан кровно с Гоцфельдтами, князьями-французами. Не тут ли собака зарыта?
Прежде, пока не развернулась Амурская экспедиция, Охотским морем почти не интересовались мировые державы. Лаперуз побывал там, английский мореплаватель Браутон – и все. Заключили они, что Сахалин – полуостров, что гаваней удобных Охотское море не имеет, а берег дик и не населен, что делать там цивилизованному миру нечего, и больше не активничали. Но стоило только Невельскому с товарищами своими опровергнуть «открытия» авторитетнейших мореплавателей, как потянулись туда и американцы, и французы, и англичане. Откуда им становились известны открытия Амурской экспедиции, если донесения Невельского ни в журналах и газетах не публиковались, ни в сборниках не издавались? Гадать да думать только остается.
Отстояли тогда край свой усилиями патриотов – и дворян, и простолюдинов. Вышло только наперекосяк. Вроде бы не обжили его в союзе с аборигенами, а захватили чужое. И уж ничего не изменить, не поправить – ох как нелегко меняется сложившееся понятие! С тех пор Китай и Япония – в позе обиженных, а Россия стала без вины виноватой. Винтовками да пушками приходилось ей правоту свою утверждать. И кровью русской.
Вот теперь вновь подоспела пора встать стеной за землю свою. За советскую землю, народную. И не убаюкивать себя, что вцепились соседушки друг другу в гриву и не до нас им. Оскал их все одно в нашу сторону. Вот и нужно бить по зубам.
«И крепко! Чтобы скулы трещали! – гневно рассуждал Богусловский. – Как в двадцать девятом на КВЖД. А то. “Буду сыта я. Буду сыта!..”»
И вдруг похолодело внутри у него, а на лбу – испарина. Он сделал, как ему показалось, страшное открытие: кому-то не интересно, чтобы кулак бьющий был крепок и смел; кому-то интересно, чтобы при замахе огляд имелся – не осудили бы, не обвинили бы в самочинстве.
Кто-то убаюкивающую песенку благословил на эстраду, кто-то здесь хватает за руку, за справедливо карающую руку – вот тебе и сомнения, вот тебе и робость душевная. Но если даже не робость, то хотя бы отвлечение сил на доказательство очевидных истин.
То, что не дано ему было осмыслить в одиночной камере алма-атинской тюрьмы, то уразумел он теперь…
Нет, по масштабам содеянного для Родины своей он не приравнивал себя к Невельскому, Бошняку, Орлову, Чихачеву и к другим мужественным офицерам, кто вопреки вожжам и окрикам верно делал нужное для России дело, но, оценивая все, что с ним происходило и происходит, он проводил принципиальную аналогию.
Его, честно делающего свое нелегкое дело, вот уже вторично отдают под следствие. И вновь, вдуматься если серьезно в суть звонка, он лишен права выезда. Он снова арестован.
«Нет! Не выйдет! Не возьмете голыми руками! – угрожая кому-то неведомому, сжал кулаки Богусловский. – Не только во мне дело. В принципе дело: смело ли бить врага или оглядываться, не осудят ли ненароком. Не выйдет!»
Песенку, которая игриво лилась из черного круга, Богусловский уже не воспринимал вовсе; он даже не сразу осмыслил доклад дежурного, который, постучав, как положено, в дверь, вошел затем в кабинет и вскинул руку к фуражке:
– Эскадрон к выезду готов. Взвод станковых пулеметов – на тачанках.
Ответил машинально:
– Хорошо. Свободны.
Не совсем поняв ответ, дежурный все же сделал положенный поворот и вышел из кабинета. И только тогда Богусловский вполне осознал, что не полемика с неведомыми вредителями дела сейчас от него требуется, а действие. Ему надлежит решить, выполнять ли распоряжение следователя или ехать с эскадроном.
Он стукнул ладонью по столу, как бы ставя точку своим размышлениям, и упрямо поднялся. Он понимал, сколь сложны окажутся последствия его действий, но шел уверенно. И никто не мог бы определить, как бурно мечется его душа.
– Са-ади-ись! За мной – ма-арш!
Глава вторая
Вроде бы вел Богусловский эскадрон аллюром на пределе лошадиных возможностей, а надо же – опоздал немного. Бой на Барковом начался. И что самое неприятное, инициатива – у японо-маньчжуров. Высадили они десант не с внешней стороны острова, где отделение пограничников заставы и небольшой резерв комендатуры приготовились встретить провокаторов, а ввели катера в протоку с тыльной стороны. Двух зайцев тем самым убили: пограничникам пришлось спешно перестраивать оборону, оставив удобную, заранее подготовленную позицию, что поставило их в трудное положение; но самое неприятное было в том, что пограничники на острове оказались отрезанными от берега – не мог теперь начальник заставы переправить через протоку, на что он рассчитывал, подкрепление.
– Не держать же на острове весь личный состав! – оправдывался теперь он перед Богусловским. – Участок без охраны не оставишь.
Все верно. Могло быть и так: шум вокруг острова подняли для отвода глаз, чтобы в ином месте безопасно переправить агента, а то и крупную шпионско-диверсионную группу. Это учитывал и он, начальник отряда. Коменданту этого участка еще несколько дней назад приказал на всех заставах усилить охрану границы.
– Ошибки в ваших действиях нет, – подбодрил начальника заставы Богусловский. – А вот выправлять положение нужно немедленно. Каков ваш план?
– Выход, думаю, один: пулеметами с берега ударить по катерам и под прикрытием огня переправить эскадрон через протоку.
– Нет, подобные действия ожидаемы японо-маньчжурами. Кровопролитны для нас.
– Тогда лодками. Рыбацкими. На внешний берег.
– Это уже выход, – проговорил Богусловский, вглядываясь в схему, которую прекрасно знал, но, как каждый командир, он тоже имел привычку перед принятием окончательного решения «советоваться» с картами и схемами. – Это – выход. Но… Тоже лобовой. Тут бы что похитрей. – И спросил ободрившимся голосом: – Японские катера вот здесь, говорите, в излучине? Хорошо. Почти вплотную можно подгрести незамеченными. Так поступим. – Прикрыв ладонью остров, приказным тоном продолжил Богусловский: – Основной десант на лодках высадим на остров, четырьмя лодками обойдем остров и атакуем катера. Отобрать четырехвесельные, обложить борта по носу вещевыми мешками с песком. Людей немного. По пять человек. Два станковых и два ручных пулемета. Я сам поведу группу захвата катеров. А с берега завяжем с катерами огневую дуэль. Для отвода глаз.
– Разрешите мне? Я лучше знаю местность, – предложил начальник заставы, но Богусловский недовольно и резко бросил в ответ:
Поднес ковш к губам, приподняв раненому голову, но тот никак не мог открыть рта – не слушались синюшные губы. Помог Богусловский осторожно. Жадный глоток, стон успокоенный, потягота судорожная, и – ничего больше не нужно человеку. Ничего…
Вечерело. Богусловский, начавший сомневаться, приедут ли до темноты пограничники, решил занести в избушку оружие и ношу нарушителей и их самих собрать к избушке, чтобы, если придется коротать ночь одному, уберечь трупы от росомах, воронья и другой пакостной живности. Вынес для начала из избушки умершего казака, пошел после этого за коноводом. Особняком его уложил, у самого родника, чтобы сохранней оставался в прохладе.
Успел все сделать, что намечал, и, когда, занеся последний заплечный мешок в избушку, опустился обмягший (от физической усталости и, главное, от душевной) на ступеньки у порога, услышал едва различимый топот копыт, который быстро приближался. Смахнул из-за спины карабин и – к углу избушки. Патрон на всякий случай загнал в патронник.
Излишняя предосторожность. Свои. Комендант с отделением пограничников влетел рысью размашистой на поляну. Лихо, но беспечно. Впрочем, все всегда по тропе этой беспечно ездили…
Из штаба комендатуры доложил Богусловский по телефону начальнику войск и о бое, и об исповеди раненого казака.
– Из наших кто-то, говорит? – переспросил недоверчиво начальник войск. – Задачку ты задал! Ты понимаешь, что это такое?!
Да, он понимал. Подозрение на каждого. И все же в письменном донесении оставил страшное для пограничников обвинение. Он верил раненому, его искренней предсмертной исповеди…
Как это было давно! Целых две недели назад. И надо же – следствие…
Зашипел репродуктор, нелепым черным кругом торчавший над дверью, наплыли мелодичные куранты с отдаленно врывавшимися в паузы автомобильными гудками – заговорила Москва. Нет, не горделивые сообщения со строек, из цехов, с полей колхозных, не полные тревожности международные дела – радиослушателям предлагалась политическая сатира. Лихо перелились аккорды, и два игривых голоса принялись, перебивая друг друга, подтрунивать над злодейкой акулой, которая набралась дерзости напасть на соседа кита. В припеве зазвучал монолог самой злодейки:
Съем половину кита я.
И буду, наверно, сыта я…
– Ну, братцы мои! – воскликнул Богусловский. – С ног все на голову! Допоемся!
Скверное настроение Богусловского от этого монолога-припева еще больше испортилось. К возмущению по поводу только что состоявшегося разговора по телефону добавилось возмущение нелепостью мысли, заложенной в монологе.
«Разлюли малина! – сердился Богусловский. – Пусть они друг друга глотают, а мы тут мирно да тихо, не выводя бронепоезд с запасного пути… Как можно воспитывать такое настроение?!»
Нет, сейчас он, взвинченный и наглостью японо-маньчжурских вояк, которые никак не отступались от острова Барковый, и столь же наглым требованием следователя никуда не выезжать до его приезда, хотя тот знал, что предстоит бой за остров, не мог снисходительно относиться к эстрадной сатире. Сейчас он мог рассуждать только с прямолинейной категоричностью. И он сейчас как бы вступил в спор с теми неизвестными ему певцами; он, сердясь, убеждал их, что не столько для захвата Китая напала на него Япония – ей наш Дальний Восток спать не дает. И в восемнадцатом году главной целью Квантунской армии, которая тогда была введена в Маньчжурию, были Приморье, Приамурье, Забайкалье и Сибирь. Место дислокации Квантунской армии так и называлось тогда: североманьчжурский плацдарм. Семенова и Калмыкова взяли квантунцы себе в подручные. Да и милитаристы китайские, из сторонников Чжан Цзолиня, не отказывали в помощи: плавсредства обязались поставить для форсирования Амура, охранять эшелоны японцев, разрешив им следовать по построенной Россией Китайско-Восточной железной дороге, продовольствовали японские войска, а число их немалое было – шестьдесят тысяч. Да мало ли чем помогали, надеясь, видимо, что не обойдут их при дележе добычи. Думали, как в девятьсот пятом, поживиться.
Спала веками на своих благодатных островах Япония, поморы же вольные, ушкуйники да купцы русские тем временем Курилы, Аляску, Калифорнию огоревали. А как обихаживать стали – тут желающих хоть пруд пруди…
Ну, Калифорнию – ту хитростью откусили: продала Штатам землю русскую Российско-американская торговая компания. Аляска таким же манером отошла. А на Курилах клинки скрестились. Головина ни за что ни про что пленили. Заливом Измены – так и зовется тот залив, где были японцами попраны всякие нормы человеческого общения.
И на Сахалин права заявлять стали, когда доказал Невельской, что он не полуостров, а остров. Так это же восемнадцатый век! Прежде, значит, не нужен был, теперь давай – и все тут!
Нет, не насытится «злодейка акула», проглотив Маньчжурию. Аппетит у нее только разгорелся. Тем более что многие из правителей китайских и тайно и явно поощряют «злодейку». На Восток России они глазами хозяев смотрят.
«Тут своя каша. Веками ее варили – попробуй теперь расхлебать, – думал Богусловский, осуждая неизвестных и известных ему дипломатов и воевод за медлительность и нерешительность в обустройстве земель, русскими обжитых. – Отдали Албазинский уезд, от Амура отступились. Полтораста лет бездействовали. А снова начать, когда цинцы за эти годы успели себя убедить, что Приамурье – их земля, много трудней оказалось».
Отбили бы сразу, как считал Богусловский, Албазин, послав добрую поддержку коменданту его, Толбузину, поостыли бы захватчики. И на переговоры в Нерчинск мог бы енисейский воевода князь Щербатый покрепче отряд послать. А вышло что: у окольничего Федора Алексеевича Головина пятьсот человек, а у маньчжуров – более десяти тысяч. Да и Головин сам либо робким неумехой оказался, либо иные, кроме письменных, инструкции имел.
А потом что творилось? Расследование бы хорошее провести, чтобы истину знать. Только некогда, да и некому. Вроде бы правильно сказал Николай I: «Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен». А на деле все иначе получалось. Невельской на свой страх и риск идет к устью Амура. И доносит, что пусто оно, нет там никого, кроме аборигенов. Его же чуть ли не под суд за это. По своей же русской земле ходить запрещалось! Он дальше, к корейской границе, – ему предписывают прекратить самовольство. Он определяет, где проходит Хинганский хребет (наконец-то!), и предлагает, исходя из Нерчинского договора, выставить там посты и начать заселение долины реки Уссури – ему опять кулак под нос. Так в конце концов и оттеснили великого патриота на задворки…
Особенно рьяно отмахивались от своей земли министр иностранных дел граф Нессельроде и военный министр граф Чернышев. Многие историки единодушны, что Нессельроде был бездарен, только сомнительны для Михаила Богусловского были те оценки. Бездарность ли одна руководила поступками министра иностранных дел? Знал Михаил, что «русский» граф был отпрыском того графского рода, один из которых носил имя Франц-Карл-Александр Нессельроде-Эрегсгофен. А этот род повязан кровно с Гоцфельдтами, князьями-французами. Не тут ли собака зарыта?
Прежде, пока не развернулась Амурская экспедиция, Охотским морем почти не интересовались мировые державы. Лаперуз побывал там, английский мореплаватель Браутон – и все. Заключили они, что Сахалин – полуостров, что гаваней удобных Охотское море не имеет, а берег дик и не населен, что делать там цивилизованному миру нечего, и больше не активничали. Но стоило только Невельскому с товарищами своими опровергнуть «открытия» авторитетнейших мореплавателей, как потянулись туда и американцы, и французы, и англичане. Откуда им становились известны открытия Амурской экспедиции, если донесения Невельского ни в журналах и газетах не публиковались, ни в сборниках не издавались? Гадать да думать только остается.
Отстояли тогда край свой усилиями патриотов – и дворян, и простолюдинов. Вышло только наперекосяк. Вроде бы не обжили его в союзе с аборигенами, а захватили чужое. И уж ничего не изменить, не поправить – ох как нелегко меняется сложившееся понятие! С тех пор Китай и Япония – в позе обиженных, а Россия стала без вины виноватой. Винтовками да пушками приходилось ей правоту свою утверждать. И кровью русской.
Вот теперь вновь подоспела пора встать стеной за землю свою. За советскую землю, народную. И не убаюкивать себя, что вцепились соседушки друг другу в гриву и не до нас им. Оскал их все одно в нашу сторону. Вот и нужно бить по зубам.
«И крепко! Чтобы скулы трещали! – гневно рассуждал Богусловский. – Как в двадцать девятом на КВЖД. А то. “Буду сыта я. Буду сыта!..”»
И вдруг похолодело внутри у него, а на лбу – испарина. Он сделал, как ему показалось, страшное открытие: кому-то не интересно, чтобы кулак бьющий был крепок и смел; кому-то интересно, чтобы при замахе огляд имелся – не осудили бы, не обвинили бы в самочинстве.
Кто-то убаюкивающую песенку благословил на эстраду, кто-то здесь хватает за руку, за справедливо карающую руку – вот тебе и сомнения, вот тебе и робость душевная. Но если даже не робость, то хотя бы отвлечение сил на доказательство очевидных истин.
То, что не дано ему было осмыслить в одиночной камере алма-атинской тюрьмы, то уразумел он теперь…
Нет, по масштабам содеянного для Родины своей он не приравнивал себя к Невельскому, Бошняку, Орлову, Чихачеву и к другим мужественным офицерам, кто вопреки вожжам и окрикам верно делал нужное для России дело, но, оценивая все, что с ним происходило и происходит, он проводил принципиальную аналогию.
Его, честно делающего свое нелегкое дело, вот уже вторично отдают под следствие. И вновь, вдуматься если серьезно в суть звонка, он лишен права выезда. Он снова арестован.
«Нет! Не выйдет! Не возьмете голыми руками! – угрожая кому-то неведомому, сжал кулаки Богусловский. – Не только во мне дело. В принципе дело: смело ли бить врага или оглядываться, не осудят ли ненароком. Не выйдет!»
Песенку, которая игриво лилась из черного круга, Богусловский уже не воспринимал вовсе; он даже не сразу осмыслил доклад дежурного, который, постучав, как положено, в дверь, вошел затем в кабинет и вскинул руку к фуражке:
– Эскадрон к выезду готов. Взвод станковых пулеметов – на тачанках.
Ответил машинально:
– Хорошо. Свободны.
Не совсем поняв ответ, дежурный все же сделал положенный поворот и вышел из кабинета. И только тогда Богусловский вполне осознал, что не полемика с неведомыми вредителями дела сейчас от него требуется, а действие. Ему надлежит решить, выполнять ли распоряжение следователя или ехать с эскадроном.
Он стукнул ладонью по столу, как бы ставя точку своим размышлениям, и упрямо поднялся. Он понимал, сколь сложны окажутся последствия его действий, но шел уверенно. И никто не мог бы определить, как бурно мечется его душа.
– Са-ади-ись! За мной – ма-арш!
Глава вторая
Вроде бы вел Богусловский эскадрон аллюром на пределе лошадиных возможностей, а надо же – опоздал немного. Бой на Барковом начался. И что самое неприятное, инициатива – у японо-маньчжуров. Высадили они десант не с внешней стороны острова, где отделение пограничников заставы и небольшой резерв комендатуры приготовились встретить провокаторов, а ввели катера в протоку с тыльной стороны. Двух зайцев тем самым убили: пограничникам пришлось спешно перестраивать оборону, оставив удобную, заранее подготовленную позицию, что поставило их в трудное положение; но самое неприятное было в том, что пограничники на острове оказались отрезанными от берега – не мог теперь начальник заставы переправить через протоку, на что он рассчитывал, подкрепление.
– Не держать же на острове весь личный состав! – оправдывался теперь он перед Богусловским. – Участок без охраны не оставишь.
Все верно. Могло быть и так: шум вокруг острова подняли для отвода глаз, чтобы в ином месте безопасно переправить агента, а то и крупную шпионско-диверсионную группу. Это учитывал и он, начальник отряда. Коменданту этого участка еще несколько дней назад приказал на всех заставах усилить охрану границы.
– Ошибки в ваших действиях нет, – подбодрил начальника заставы Богусловский. – А вот выправлять положение нужно немедленно. Каков ваш план?
– Выход, думаю, один: пулеметами с берега ударить по катерам и под прикрытием огня переправить эскадрон через протоку.
– Нет, подобные действия ожидаемы японо-маньчжурами. Кровопролитны для нас.
– Тогда лодками. Рыбацкими. На внешний берег.
– Это уже выход, – проговорил Богусловский, вглядываясь в схему, которую прекрасно знал, но, как каждый командир, он тоже имел привычку перед принятием окончательного решения «советоваться» с картами и схемами. – Это – выход. Но… Тоже лобовой. Тут бы что похитрей. – И спросил ободрившимся голосом: – Японские катера вот здесь, говорите, в излучине? Хорошо. Почти вплотную можно подгрести незамеченными. Так поступим. – Прикрыв ладонью остров, приказным тоном продолжил Богусловский: – Основной десант на лодках высадим на остров, четырьмя лодками обойдем остров и атакуем катера. Отобрать четырехвесельные, обложить борта по носу вещевыми мешками с песком. Людей немного. По пять человек. Два станковых и два ручных пулемета. Я сам поведу группу захвата катеров. А с берега завяжем с катерами огневую дуэль. Для отвода глаз.
– Разрешите мне? Я лучше знаю местность, – предложил начальник заставы, но Богусловский недовольно и резко бросил в ответ: