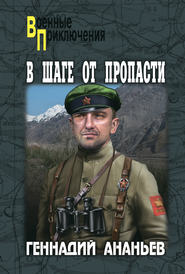По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Орлиный клич
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Лады, – с улыбкой согласилась Лида. – Другого выхода нет.
С почтением вступил Владлен на мост. Нет, он в тот миг вовсе не думал о том, что по нему проезжал Кутузов после Бородина, шли русские молодцы-солдаты, надломившие наполеоновское войско на Бородинском поле, что по нему проходили красногвардейцы-рабочие бить беляков, защищать свою власть, а в ноябре сорок первого суровые колонны, сбив ногу, но не потеряв равнения, двигались и двигались на запад, чтобы бить смертным боем фашистов – нет, Владлен был занят вовсе иным: он пытался представить отца и мать невесты, искал верный тон разговора с ними, воображая самые неожиданные варианты, но собранность, чувство причастности к великому, к ратной истории России (он же тоже защитник Москвы) жило в нем и волновало его независимо от его сиюминутных мыслей.
Лида тоже молчала, и Владлена удивляла та уверенность, с какой шла она домой за родительским благословением, вовсе не зная, дома ли они. Писем, как знал Владлен, она не получала, а другой связи в то время не существовало.
Он долго не решался спросить об этом Лиду, но в конце концов осмелился:
– Ты думаешь, дома твои отец и мать? А вдруг…
– Дома, – с поразившей Владлена грустью ответила она. – Дома. – Вздохнула, еще больше озадачив Владлена, но через малую паузу, словно не было у нее никакой грусти, не было никакого вопроса, заговорила тоном учителя или экскурсовода: – Любуйся. Смоленская площадь. Возникла она, скорее всего, когда вернула Россия в свое лоно Смоленск, вызволив его из рук ливонцев. А может, позже, когда стал он щитом Москвы от захватчиков с Запада. Каждая улица Москвы – наша с тобой история, наша древность…
Древностью здесь вовсе не пахло. Будто инкубаторские близнецы, коробки с ровными рядами однообразных окон никак не могли претендовать на древность. Они и строились-то, видимо, тогда, когда возникло многоголовое и многоликое чиновничество, которому по карману были лишь меблированные комнаты. И теперь в них, видимо, живут те же люди, только называются они иначе – совслужащими. Все это не древность.
Дома старинной кладки, после наполеоновского горения, стали попадаться позже, на более старых улочках и переулках Москвы, по которым Лида вела, петляя, Владлена. Он шел послушно рядом, вовсе не думая, что к Лидиному дому есть совсем короткий путь, но она медлит, оттягивая трудные для себя, да и для Владлена, как она разумно считала, минуты.
Привела все же суженого Лида к своему дому. Толстостенный, с мощным фундаментом из нарочито грубо обработанного гранита. Основательно стоит. Внушительно.
«Купца-первогильдийца, должно быть», – определил Владлен, но, когда вошел в вестибюль, изменил свой скороспелый вывод: даже намека здесь не было на купеческую безвкусную основательность. Наоборот, царила здесь изящная гармония мрамора, гипса, гранита, дуба и потемневшей при непригляде меди. И странное дело: темная, местами с прозеленью медь эта нисколько не создавала впечатления запущенности.
– До войны здесь у нас было так прекрасно, так весело! Танцы под патефон, игры разные. Для мужчин – шахматный столик. Старинный, мраморный.
Промокнула платочком повлажневшие глаза и решительно пошагала по ступеням, позвав требовательно Владлена:
– Пошли.
Никак Владлен не мог себе представить, что в этом тихом-тихом доме есть кто-либо живой, есть родители Лиды и они встретят их радостными восклицаниями. Не верилось в это. Противоестественным сейчас прозвучал бы здесь любой громкий, а тем более радостный голос. И чем выше они поднимались, тем все более неуверенно чувствовал себя Владлен, продолжая все так же приноравливать свой шаг к Лидиному. Вопросов не задавал.
Остановилась Лида у обитой темно-коричневой кожей двери, поглядела на звонок, еще более погрустнев лицом, достала ключ и, отперев дверь, пригласила:
– Входи.
Темно и тихо. Застойный тлен. Давно нежилая квартира. Какие тут родители?!
А Лида, посторонив его, растерявшегося, озадаченного, прошла в комнату, отдернула тяжелые бархатные шторы, а затем и черную светомаскировочную занавеску – косые лучи резанули затхлую тишину комнаты, высветив белесую пыль на зеркальной мебели, на картинах и на портретах молодых мужчины и женщины, висевших, словно иконы, в переднем углу в толстых багетовых рамках.
Лида подошла к портретам и встала, низко склонив голову:
– Здравствуйте.
Всего мог ожидать Владлен – только не этого. Мистика! Никак не решался переступить порог комнаты и ждал, не покличет ли его Лида.
Не зовет. Стоит согбенная, до боли жалкая. Не Лида вовсе, а совсем иная девушка, бесформенно-сырая. Комок к горлу подступил у Владлена. Осторожно, чтобы не топать каблуками тяжелых яловых сапог, подошел Владлен к Лиде. Положил руку на плечо. Она повернула голову, грустные глаза ее вспыхнули светлостью, прижалась к нему с такой же робостью, как прижималась на позиции, когда выныривал из темной темени наш истребитель и прошивал смертельной очередью фашистский самолет, закрещенный прожекторными лучами. Как и тогда, теперь тоже пугливо вздрагивала.
Молчали. Владлен успокаивающе поглаживал Лидино плечо, смотрел на портреты ее родителей – не изучал, как делал бы это зрелый мужчина, а просто смотрел, вовсе не пытаясь понять ни их характеров, ни их интеллекта; он понял лишь одно – что отец Лиды из высшего начсостава, а мать – женщина интеллигентная, и этого ему было вполне достаточно. Спросил только:
– Где они?
– Отец – в Испании. Никогда не вернется. Мама не пережила известия. Сердце, – ответила Лида и будто поперхнулась вздохом, закашляла и зарыдала.
Владлен подхватил ее на руки, уложил на обитый золотистым бархатом диван, не зная вовсе, как успокоить ее. Стал целовать.
Утихла Лида так же вдруг, как и разревелась, и Владлен, в какой уже раз, подумал, даже с завистью: «Волевая!»
Потом они вновь прикрыли окно светомаскировочной занавеской, хотя делать этого не нужно было вовсе – света некому зажигать, задернули тяжелую штору и только после этого покинули негостеприимную квартиру. И чем дальше от нее уходили, тем спокойней становилась Лида, все чаще одаривая Владлена любящим светлым взглядом, успокаивая его. Владлен понимал ее: она давно пережила горе, свыклась с ним, и возврат к прошлому не может теперь быть слишком болезненным. Он понимал это, но на душе у него от этого понимания не становилось легче: он-то впервые соприкоснулся с трагедией, которая прямо-таки потрясла его, и он никак не мог прийти в себя, вновь и вновь, от начала и до конца, переживал все услышанное и увиденное. Жалость к любимой такая, хоть вой.
С почтением вступил Владлен на мост. Нет, он в тот миг вовсе не думал о том, что по нему проезжал Кутузов после Бородина, шли русские молодцы-солдаты, надломившие наполеоновское войско на Бородинском поле, что по нему проходили красногвардейцы-рабочие бить беляков, защищать свою власть, а в ноябре сорок первого суровые колонны, сбив ногу, но не потеряв равнения, двигались и двигались на запад, чтобы бить смертным боем фашистов – нет, Владлен был занят вовсе иным: он пытался представить отца и мать невесты, искал верный тон разговора с ними, воображая самые неожиданные варианты, но собранность, чувство причастности к великому, к ратной истории России (он же тоже защитник Москвы) жило в нем и волновало его независимо от его сиюминутных мыслей.
Лида тоже молчала, и Владлена удивляла та уверенность, с какой шла она домой за родительским благословением, вовсе не зная, дома ли они. Писем, как знал Владлен, она не получала, а другой связи в то время не существовало.
Он долго не решался спросить об этом Лиду, но в конце концов осмелился:
– Ты думаешь, дома твои отец и мать? А вдруг…
– Дома, – с поразившей Владлена грустью ответила она. – Дома. – Вздохнула, еще больше озадачив Владлена, но через малую паузу, словно не было у нее никакой грусти, не было никакого вопроса, заговорила тоном учителя или экскурсовода: – Любуйся. Смоленская площадь. Возникла она, скорее всего, когда вернула Россия в свое лоно Смоленск, вызволив его из рук ливонцев. А может, позже, когда стал он щитом Москвы от захватчиков с Запада. Каждая улица Москвы – наша с тобой история, наша древность…
Древностью здесь вовсе не пахло. Будто инкубаторские близнецы, коробки с ровными рядами однообразных окон никак не могли претендовать на древность. Они и строились-то, видимо, тогда, когда возникло многоголовое и многоликое чиновничество, которому по карману были лишь меблированные комнаты. И теперь в них, видимо, живут те же люди, только называются они иначе – совслужащими. Все это не древность.
Дома старинной кладки, после наполеоновского горения, стали попадаться позже, на более старых улочках и переулках Москвы, по которым Лида вела, петляя, Владлена. Он шел послушно рядом, вовсе не думая, что к Лидиному дому есть совсем короткий путь, но она медлит, оттягивая трудные для себя, да и для Владлена, как она разумно считала, минуты.
Привела все же суженого Лида к своему дому. Толстостенный, с мощным фундаментом из нарочито грубо обработанного гранита. Основательно стоит. Внушительно.
«Купца-первогильдийца, должно быть», – определил Владлен, но, когда вошел в вестибюль, изменил свой скороспелый вывод: даже намека здесь не было на купеческую безвкусную основательность. Наоборот, царила здесь изящная гармония мрамора, гипса, гранита, дуба и потемневшей при непригляде меди. И странное дело: темная, местами с прозеленью медь эта нисколько не создавала впечатления запущенности.
– До войны здесь у нас было так прекрасно, так весело! Танцы под патефон, игры разные. Для мужчин – шахматный столик. Старинный, мраморный.
Промокнула платочком повлажневшие глаза и решительно пошагала по ступеням, позвав требовательно Владлена:
– Пошли.
Никак Владлен не мог себе представить, что в этом тихом-тихом доме есть кто-либо живой, есть родители Лиды и они встретят их радостными восклицаниями. Не верилось в это. Противоестественным сейчас прозвучал бы здесь любой громкий, а тем более радостный голос. И чем выше они поднимались, тем все более неуверенно чувствовал себя Владлен, продолжая все так же приноравливать свой шаг к Лидиному. Вопросов не задавал.
Остановилась Лида у обитой темно-коричневой кожей двери, поглядела на звонок, еще более погрустнев лицом, достала ключ и, отперев дверь, пригласила:
– Входи.
Темно и тихо. Застойный тлен. Давно нежилая квартира. Какие тут родители?!
А Лида, посторонив его, растерявшегося, озадаченного, прошла в комнату, отдернула тяжелые бархатные шторы, а затем и черную светомаскировочную занавеску – косые лучи резанули затхлую тишину комнаты, высветив белесую пыль на зеркальной мебели, на картинах и на портретах молодых мужчины и женщины, висевших, словно иконы, в переднем углу в толстых багетовых рамках.
Лида подошла к портретам и встала, низко склонив голову:
– Здравствуйте.
Всего мог ожидать Владлен – только не этого. Мистика! Никак не решался переступить порог комнаты и ждал, не покличет ли его Лида.
Не зовет. Стоит согбенная, до боли жалкая. Не Лида вовсе, а совсем иная девушка, бесформенно-сырая. Комок к горлу подступил у Владлена. Осторожно, чтобы не топать каблуками тяжелых яловых сапог, подошел Владлен к Лиде. Положил руку на плечо. Она повернула голову, грустные глаза ее вспыхнули светлостью, прижалась к нему с такой же робостью, как прижималась на позиции, когда выныривал из темной темени наш истребитель и прошивал смертельной очередью фашистский самолет, закрещенный прожекторными лучами. Как и тогда, теперь тоже пугливо вздрагивала.
Молчали. Владлен успокаивающе поглаживал Лидино плечо, смотрел на портреты ее родителей – не изучал, как делал бы это зрелый мужчина, а просто смотрел, вовсе не пытаясь понять ни их характеров, ни их интеллекта; он понял лишь одно – что отец Лиды из высшего начсостава, а мать – женщина интеллигентная, и этого ему было вполне достаточно. Спросил только:
– Где они?
– Отец – в Испании. Никогда не вернется. Мама не пережила известия. Сердце, – ответила Лида и будто поперхнулась вздохом, закашляла и зарыдала.
Владлен подхватил ее на руки, уложил на обитый золотистым бархатом диван, не зная вовсе, как успокоить ее. Стал целовать.
Утихла Лида так же вдруг, как и разревелась, и Владлен, в какой уже раз, подумал, даже с завистью: «Волевая!»
Потом они вновь прикрыли окно светомаскировочной занавеской, хотя делать этого не нужно было вовсе – света некому зажигать, задернули тяжелую штору и только после этого покинули негостеприимную квартиру. И чем дальше от нее уходили, тем спокойней становилась Лида, все чаще одаривая Владлена любящим светлым взглядом, успокаивая его. Владлен понимал ее: она давно пережила горе, свыклась с ним, и возврат к прошлому не может теперь быть слишком болезненным. Он понимал это, но на душе у него от этого понимания не становилось легче: он-то впервые соприкоснулся с трагедией, которая прямо-таки потрясла его, и он никак не мог прийти в себя, вновь и вновь, от начала и до конца, переживал все услышанное и увиденное. Жалость к любимой такая, хоть вой.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: