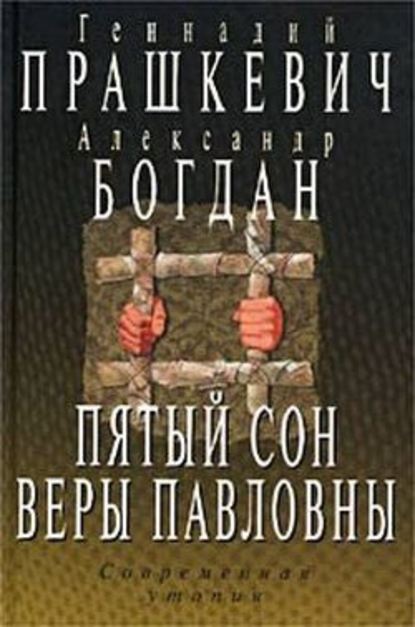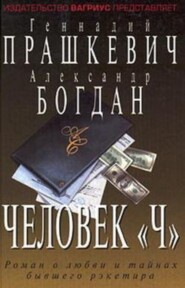По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пятый сон Веры Павловны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Суворов кивнул.
– Последние два года Вера не сидела на месте, – объяснил он. – Но такая ее жизнь казалась праздником только снаружи. Вера открывала мир не как турист, а как равноправный обитатель этого мира. А это нелегко, потому что в глаза всегда лезет масса ужасных отличий. Вера увидела, наконец, как сильно различаются в различных уголках земли самые, казалось бы, устоявшиеся понятия. Например, честность. Она увидела, наконец, что чем богаче или бедней человек, тем сильней размываются в его сознании самые простые этические понятия. Отсюда, думаю, ее непреходящий интерес к Чернышевскому. К нему ведь часто относились предвзято, а сейчас, кажется, вообще никак не относятся. Как человек, он был противоречив, было в нем нечто отталкивающее. Этот протертый халат, беспрерывное курение, рассеянность. Для многих и книги Чернышевского – нестерпимо скучное чтение. Но кто и когда утверждал, что серьезные вещи обязательно должны читаться как детектив? – Суворов, казалось, забыл о Сергее, он сумрачно рассуждал сам с собой. – Философия становится детективом только тогда, когда судьба начинает наотмашь бить тебя кулаком. Вот тогда ты действительно начинаешь с жадностью пожирать все, что может подтолкнуть тебя к истине. Короче, по-настоящему истина интересует нас только в экстремальных ситуациях.
Он взглянул на Сергея:
– Догадываешься, почему?
– Объясни.
– Да потому, что мы все время стараемся забыть о том, что живем среди грязи, среди вечной неизбывной грязи, – судя по сумрачному, даже мрачному взгляду, Суворов в этот момент думал о Коляне. – Больше того, мы сами являемся частью этой грязи. Мы сами являемся частью наших проблем. Не стоит даже думать, что мы не имеем никакого отношения к этой грязи. Вот мне и кажется, что Вера вплотную подошла, наконец, к осознанию этого факта. По крайней мере она заговаривала со мной о реальной грязи.
– О реальной? – не понял Сергей.
Суворов странно улыбнулся.
– «Вы интересуетесь, почему из одной грязи родится пшеница такая белая, чистая и нежная, а из другой грязи не родится? – произнес он каким-то не своим, каким-то неживым голосом. – Посмотрите корень этого прекрасного колоса: около корня грязь, но это грязь свежая, можно сказать, чистая грязь; слышите запах сырой, неприятный, но не затхлый, не скиснувшийся?» Вот это и есть реальная грязь. В варианте Чернышевского. То есть, не грязь в обывательском понимании, а, скорее, реальная почва, вскармливающая все живое. Ну, а вот все остальное… Все остальное действительно можно отнести к грязи мертвой, которая ничего не рожает и ничего не может вскормить…
Ну, хорошо, грязь, подумал Сергей.
Ну, хорошо, реальная грязь. Можно сказать и так.
Вера Суворова активно постигала мир, она получила для этого возможности, какие ей раньше не снились. Понятно, что когда-то она могла сравнивать лишь то, что сама видела в Томске или, скажем, в Москве, с тем, о чем могла прочесть в книгах. (Кстати, не так уж мало для думающего человека, отметил про себя Сергей.) Но в последнее время Вера видела мир со всех возможных и даже невозможных точек. Я свободна, потому что во мне нет обмана, нет притворства. Я не скажу слова, которому не сочувствую, не дам поцелуя, в котором нет симпатии. Много лет назад такие слова произнесла Вера Павловна, героиня, созданная странными тюремными фантазиями Чернышевского. Сергей книжную Веру Павловну не любил, ее мысли школа вколачивала в него палками. А вот Веру Суворову он любил. Она была понятна Сергею. Она никогда не наводила тень на плетень. В отличие от книжных героинь, она с легким сердцем могла отдать поцелуй без любви. Почему бы и нет? Губы господина Хаттаби тоже чего-то стоят…
К черту, решил Сергей.
Его сбивала с толку просьба Суворова: найти Коляна!
Он чувствовал какое-то беспокойство, тревогу даже. Суворов упрям, думал он. Этот Колян свел вокруг Суворова все тайны. Казалось, они жили в абсолютно разных мирах, в абсолютно непересекающихся мирах, казалось, они никогда не могли и услышать-то друг про друга, но Колян сделал невозможное. Если раньше Суворов хотел только вернуть записную книжку, то теперь вдруг захотел заполучить в свои руки самого Коляна…
Зачем?
Он незаметно взглянул на Суворова.
Бывший доцент сидел в кресле чуть наклонившись вперед, левой рукой упершись в подлокотник. Сергей почему-то вспомнил гладкий лоб Веры Павловны, покрытый южным загаром. Почему Вера испугалась, увидев Морица? Ты будешь спать, но я тебя не трону. Во сне она видела Морица похожим на обезьяну. Но он таким был и в жизни. И вполне мог пить из чаши полведра объемом. Разумеется, красный портвешок.
Ты будешь спать, но я тебя не трону, любовь моя к отечеству заразна…
В кафе «У Клауса» Вера Павловна сказала, что обыкновенных алкашей не бывает. И объяснила, что алкаши, они всегда как судьба. И все равно Ирина, хозяйка кафе, удивилась: «Почему она никогда за себя не платит?»
А потому и не платит, что она – осознавшая себя живая грязь, реальная грязь.
А Мориц? А несовершеннолетний инвалид? А господин Джеймс Хаттаби, имя которого так странно всплыло в Москве в тощей папочке с банковскими документами? Они тоже осознали себя, как реальная грязь?
Он вдруг вспомнил, с каким ужасным негодованием полковник Каляев встретил однажды заявление Суворова о том, что Мориц – поэт. Они только расселись в чайной комнате, распаренные, горячие. «Поэт? Как Пушкин, что ли? – изумился полковник. Наверное, ему показалось, что Суворов шутит. – Ты, Алексей Дмитрич оговорился. Ты хотел сказать, что Мориц – типичный городской сумасшедший!»
«Он поэт», – возразил Суворов.
«У него есть высшее образование?»
«Есть», – разочаровал полковника Суворов.
«Да врет он! Купил диплом за бутылку! Или украл! – взорвался Каляев. – А если и правда что-то закончил, то это тоже воровство. Он украл у другого человека возможность заниматься полезным для общества трудом! Я вам так скажу, – заорал полковник. – Большинство людей с высшим образованием придурки. Много о себе думают! Я не просто так говорю, я чистую правду говорю: чем проще человек, чем он неграмотней, тем легче с ним работать! Возьмите простого урку из народа. Если ты нацепил на него наручники, он с тобой без споров, как с братом, будет работать. А почему? Да потому, что он знает, за что борется! Он знает, что борется за волюшку, за кусок хлеба, за крышу над головой, а не за какие-то там идеи. То есть, он функционирует в одной системе с нормальными людьми. А все эти придурки с высшим образованием сразу начинают врать. Не успеешь на них надавить, как они уже врут. Сажал я всяких интеллигентов, – возмущенно взмахнул руками Каляев. – У них вранье от большого ума. Им в голову не приходит, что все мы живем с одного огорода, что всех нас кормит одно государство. Им даже в голову не приходит, что с одного огорода можно взять всего лишь столько, сколько этот огород может дать. И ни на килограмм больше! Сажал я всяких придурков! – гремел полковник. – Сами ничего государству не дают, зато считают, что имеют право на всё. Забыли слова товарища Ленина. Товарищ Ленин говорил: прежде всего учёт! Вот, скажем, у тебя лично сколько соток на даче? – грозно воззрился полковник на Суворова, будто тот был помещиком. – Десять? Вот видишь! С десяти соток хорошо можно жить. А эти придурки с высшим образованием, они всех сбивают с толку. И сами ничего не сажают, и других зовут на баррикады: дескать, силою все возьмем! А потом, после разговора с милицией, требуют бесплатных лекарств. Где, мол, наши бесплатные лекарства?»
Яблоко Фурье
Рыжего лоха с удобной сумкой на ремне Колян засек возле почты.
В крохотном зале, пристроенном к железнодорожному вокзалу с западной стороны, можно было написать письмо и тут же сдать дежурной, а можно было через ту же дежурную отбить телеграмму или заказать срочные телефонные переговоры с любым городом.
Впрочем, в любой – это так только говорилось.
На самом деле, в Новосибирск, например, дозвониться можно было сразу, а вот в Читу далеко не всегда. И объяснить причину никто не мог. Какая, к черту, причина? Просто линия барахлит.
Рыжий лох, голубоглазый, плечистый, дважды заходил в почтовое отделение. Может, пытался дозвониться именно до Читы, кто знает? Главное не в этом. Главное в том, что была при лохе удобная спортивная сумка на ремне, на молниях и липучках.
Сумка сразу понравилась Коляну.
В такой сумке вещи должны лежать качественные, решил он, не то что в его затасканной – несвежие носки да чужая записушка.
Правда, интересная записушка.
В ней вся дурь человеческая, а может, весь ум, все двенадцать гармоний.
В ней яблоко Фурье, которое особенно нравилось Коляну – ну, никак его не угрызть!
Чего говорить, хорошая сумка.
Не так давно, правда, была у него не хуже – спортивная, с капустой, но ее пришлось бросить в Томске. Там же Колян бросил пушку. Осталась при Коляне только чужая записушка, да еще повезло – вырвался из Томска, сумел добраться до станции Тайга. Намертво залег у Саньки Березницкого, а это старый кореш, надежный, лось по жизни. Всегда занят, но все видит. Сегодня, например:
«Куда?»
«На свиданьице».
«А с кем?»
«А с Анькой».
«А кто такая?»
«А стерва одна».
Врал, конечно, да Санька и не думал верить.
А рыжий лох – уверенный, с уважением отметил Колян, морщась от головной боли. Хорошо держится, живет не за чертой бедности. Правда, никак не сидит на месте. То прошвырнется по перрону, то заглянет в зал ожидания. Наверное, не привык ждать. Даже странно, что такой уверенный лох шастает по вокзалу. Зачем он в Тайгу приезжал? Покупал что-нибудь?
Впрочем, это Коляну было все равно.
Главное, что рыжий лох хорошо прикинут.