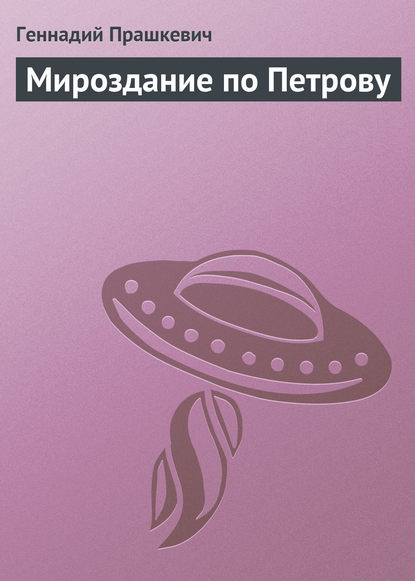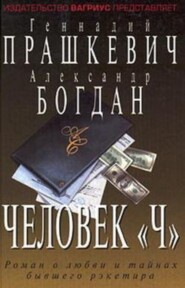По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мироздание по Петрову
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ХЛОПЧАТНИК ДЛЯ МАРСА
Меньше всего меня интересует жизнь в Космосе.
Мне все равно, Опарин был прав, приписывая ее к Земле, или Аррениус, распространяя по всей Вселенной, или даже Вернадский, утверждавший, что жизнь возникает в самый первый момент творения вместе с материей и энергией. Я предпочел бы, чтобы некоторые формы жизни не возникали вообще (как Тараканыч) или не сбегали бы трусливо в неизвестность (как Архиповна). Мобильник Архиповны был заблокирован, посоветоваться не с кем. Позвонить Мерцановой? Она скажет: „Миллион баксов? Ты, Кручинин, явно не по средствам живешь!“
А главное, я ничего не понимал.
Дома поставил кофейник на единственную уцелевшую конфорку.
„Это просто вода, а не мокро от слез“. Асин телефон не отвечал. Я набирал ее номер раз десять. Долгие печальные гудки. Квартира Режиссера набита сочувствующим народом, а трубку там никто не брал. Правда, несколько раз звонила Юля. – „Я надену серенький сарафанчик, – скорбно щебетала она, имея в виду близкие похороны. И не выдерживала: – Ты меня хочешь?“ – Я молчал, тогда она снова говорила про сарафанчик: „Это скромно?“ – „Сойдет“. – „А тебя тут спрашивали, Кручинин“, – вдруг вспомнила она. – „Кто это еще?“ – перепугался я. – „Да какие-то адвокаты“. – „Зачем я им?“ – „Просили передать, чтобы работал тщательнее“.
Мне опять стало не по себе.
А квартира Режиссера не отвечала.
Но прорезалась экстремалка. „Хочешь, приду, что-нибудь сделаю?“
И хитро затаила голос.
„Что, например?“
„Слыхал про французские поцелуи?“
„Ты обалдела? В такой день!“
„Ах да, – неохотно спохватилась Света. – Только что в том такого? Мы же сопереживаем. – И вспомнила мстительно: – Тобой тут интересовались“
„Где это тут?“
„На рынке“.
„Рубщик мяса?“ – неудачно пошутил я.
„Да нет. Вполне интеллигентный человек в рубашке от Версачи. – Она выдержала эффектную паузу. – Но лучше бы он принял душ. От него так несло, так несло“.
„Чего он хотел?“
„Да я что-то не догнала. Вроде советовал тебе впредь вдумчивее работать“.
Короче, все хотели, чтобы я работал тщательнее и вдумчивее. Плюнув, набрал рабочий номер Мерцановой. Бывшей актрисы на месте не оказалось, трубку подняла ее любимица Алина.
„Ой, Алисы Тихоновны сейчас нет!“
Где-то в Салоне зудело противное электрическое сверло.
„Вы что там? Слушаете Шнитке?“
„Мой любимый композитор“, – голос у Алины был такой нежный, что я не выдержал:
„Выходите за меня замуж?“
„Вечно вы так, Кручинин, – расстроилась Алина. – Как я за вас пойду, если вас с фоткой разыскивают“.
„Милиция?“
„Больше на бандитов похожи“.
В дверь постучали.
Я открыл и увидел академика Петрова-Беккера.
– Переезжаете?
Я обалдел. Да, конечно. Вот уже порубил мебель, разбил зеркала.
Академик Петров-Беккер долго приглядывался, куда сесть. Потом выбрал подоконник, рядом с листками сценария. Любовно собрал их в стопку.
– Следователь считает, что Режиссеру дали слишком сильное лекарство.
– Следователь? Когда он успел? Почему следователь? У них на экспертизу всегда очереди.
– Есть специальные лаборатории. – Петров-Беккер сумрачно улыбнулся. – Смерть Режиссера – это событие. – Он уставился на меня выпуклыми белесыми глазами. В них было много усталости, но и внимание тоже: – Скажите, Кручинин, вам снятся сны?
– Конечно.
– И что же вам снится?
– Не знаю. Чепуха всякая.
– Вы что, не помните своих снов?
Я не успел удивиться вопросам. Академик заговорил сам.
Конечно, о Режиссере. Этим гением он был занят всегда. Но какая-то странная нота звучала за его словами. Режиссер привык считать мир своим. Петров-Беккер этого не осуждал, просто приводил факты. Моя жена. Моя работа. Мой театр. Мой город. Мой губернатор. Все у Режиссера было моим. Однажды они вместе летели из Дели в Куала-Лумпур. Режиссер отравился индийским пивом, его крутило. „Проклятые вегетарианцы! – орал он. – Подают к пиву соленую лебеду!“ – В туалете Куала-Лумпура за ним следили сразу два пограница с автоматами. – „Что за крылышки мне дают? – возмущался Режиссер уже в аптеке. – Это святой жук? От такого лекарства я смогу парить над унитазом? А если я пукну громче, чем принято в Малайзии, меня пристрелят?“
На разгромленную квартиру академик не обращал никакого внимания.
Энергия в Режиссере всегда бурлила. Это восхищало академика. В Малайзии Режиссер заказал русскоязычного гида. Но все ему в тот день не нравилось. „Как такая узкобедрая будет рожать?“ – орал он в такси, указывая академику на тоненькую девушку-гида. Кстати, русский язык у нее оказался бедней, чем у деревенского дурачка. „Такая маленькая, а жует, как корова, – потрясенно кричал он академику, узнав, что девушка-гид тоже вегетарианка. – Такая вот крошечная девушка съедает в день по три сочных вязанки сена. Должна съедать. Видите, какие у нее резцы?“ Только когда машина въехала в душную свайную деревеньку и одуряющая малайская жара горячим компрессом облепила путешественников, глаза Режиссера изменили выражение. В них появилось некое беспокойство, сменившееся явственной тревогой. Догадавшись, какие мысли подтачивают сознание его друга, академик указал пальцем на юг. Там за бурым каналом, кисельные берега которого даже на вид казались топкими, торчала белая будка, сулившая утешение. Но на выходе Режиссер угодил в перепончатые лапки другой раскосой девчонки, тоже вегетарианки. Послушно вынув купюру в десять баксов, Режиссер поднял ее над головой. „Мани-мани!“ Режиссер не сразу понял, что девушка просто плохо выговаривает слово „манки“. Здоровенный пыльный самец, скаля клыки, вырвал из рук Режиссера зеленый червонец и чрезвычайно довольный уселся на высоком бетонном зубце. „Он тоже вегетарианец?“ Помахивая купюрой, обезьяний хулиган вызывающе трогал свои мощные гениталии. „О, мой монах,– как бы со стороны услышал я голос академика. – Где мой супруг? Я сознаю отлично, где быть должна… Я там и нахожусь… Где ж мой Ромео?… Что он в руке сжимает? Это склянка… Он, значит, отравился? Ах, злодей, все выпил сам, а мне и не оставил! Но верно яд есть на его губах. Тогда его я в губы поцелую…“