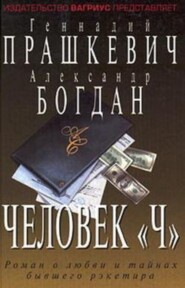По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Самые знаменитые поэты России
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как мошки зарею,
Крылатые звуки толпятся;
С любимой мечтою
Не хочется сердцу расстаться.
Но цвет вдохновенья
Печален средь буднишних терний;
Былое стремленье
Далеко, как выстрел вечерний.
Но память былого
Все крадется в сердце тревожно…
О, если б без слова
Сказаться душой было можно!
Родился в октябре или в ноябре 1820 года в селе Новоселки, Мценского уезда Орловской губернии.
Отец – помещик Афанасий Неофитович Шеншин, мать – Шарлотта-Елизавета Фет. Шарлотту Шеншин привез из Германии, где проходил лечение. Через два года он обвенчался с нею и все их дети получили фамилию Шеншина, однако, когда первенец – Афанасий – достиг четырнадцати лет, Орловская духовная консистория установила, что мальчик рожден до заключения брака матери с Шеншиным, а значит впредь обязан именоваться не потомственным дворянином Афанасием Шеншиным, а всего лишь гессен-дармштадским подданным Афанасием Фетом. Буквально в один день из потомственного русского дворянина Фет превратился в разночинца, потерял все полагающиеся дворянину привилегии и, ко всему прочему, под всеми официальными документами обязан был отныне подписываться: «К сему иностранец Афанасий Фет руку приложил».
Стремление вернуть потерянное дворянство стало главным в жизни Фета.
Окончив немецкую школу в городе Верро (Эстония), в начале 1838 года он поступил в московский пансион профессора истории М. П. Погодина, и в том же году – в Московский университет на словесное отделение, которое окончил в 1844 году. В университете Фет подружился с поэтом Аполлоном Григорьевым. «Вместо того, чтобы ревностно ходить на лекции, – писал он позже, – я почти ежедневно писал новые стихи». Там же, в Москве, Фет исправно посещал поэтические салоны Каролины Павловой и Федора Глинки, близко познакомился с Полонским, Герценом, Аксаковыми. В 1840 году под инициалами А. Ф. вышел в свет первый сборник его стихов – «Лирический пантеон», встреченный критиками откровенно издевательски. Но уже стихи, напечатанные Фетом в 1842 году в журналах «Москвитянин» и «Отечественные записки», привлекли серьезное внимание критиков. Белинский даже заметил в обзоре «Русская литература в 1843 году», что «из живущих в Москве поэтов всех даровитее г-н Фет». Самого Фета, впрочем, все эти успехи мало радовали, он тосковал об утерянном дворянстве. «С способностью творения в нем росло равнодушие, – вспоминал Григорьев. – Равнодушие ко всему, кроме способности творить – к божьему миру, как скоро предметы оного переставали отражаться в его творческой способности, к самому себе, как скоро он переставал быть художником. Так сознал и так принял этот человек свое назначение в жизни… Страдания улеглись, затихли в нем, хотя, разумеется, не вдруг. Этот человек должен был или убить себя, или создаться таким, каким он сделался… Я не видал человека, которого бы так душила тоска, за которого бы я более боялся самоубийства… Я боялся за него, я проводил часто ночи у его постели, стараясь чем бы то ни было рассеять это страшное хаотическое брожение стихий его души…»
Окончив университет, Фет решил поступить на военную службу. Офицерский чин по законам того времени приносил разночинцу звание потомственного дворянина, в то время как на гражданской службе к такому результату приводил только чин коллежского асессора. Не имея нужных связей, в 1845 году Фет смог поступить лишь унтер-офицером в захудалый кавалерийский полк – Орденский Кирасирский, и с этого времени почти десять лет странствовал по мелким городкам и селам Херсонской губернии, где полк был расквартирован. К ужасному его разочарованию, за несколько месяцев до получения первого офицерского чина, вышел указ, по которому потомственное дворянство стал давать только чин майора (в кавалерии – ротмистра). На разочарование наложился еще трагический роман с дочерью небогатого херсонского помещика – Марией Лазич. Из-за невозможности содержать семью, может быть, несколько преувеличиваемую Фетом, он не мог жениться на Лазич. «Не могу выбросить из рук последнюю доску надежды и отдать жизнь без борьбы, – писал он другу своему И. Н. Борисову. – Я не женюсь на Лазич, и она это знает, а между тем умоляет не прерывать наших отношений. Этот гордиев узел любви, который чем более распутываю, тем туже затягиваю, я разрубить мечом не имею духу и сил… – И неожиданное признание: – Знаешь, втянулся в службу, а другое все только томит как кошмар…»
Судьба сама, и по-своему, разрешила ситуацию: Мария Лазич погибла от неосторожно брошенной спички.
В 1853 году Фет сумел, наконец, перевестись в гвардейский лейб-уланский полк, расквартированный в районе Волхова. Теперь он стал бывать в столице, подружился с Тургеневым, вошел в круг сотрудников журнала «Современник», редактируемого Некрасовым. «Фет уже был известен своими стихотворениями в литературе с сороковых годов, – не очень доброжелательно писала о нем Панаева, – но я познакомилась с ним только в начале пятидесятых. Он приехал в Петербург на продолжительное время в отпуск из полка, и я виделась с ним каждый день. Фет находился в вдохновенном настроении и почти каждое утро являлся с новым стихотворением, которое читал Некрасову, мне и всем литераторам, кто просил его прочесть. Тургенев находил, что Фет так же плодовит, как клопы, и что, должно быть, по голове его проскакал целый эскадрон, от чего и происходит такая бессмыслица в некоторых его стихотворениях, Но Фет вполне был уверен, что Тургенев приходит в восторг от его стихов, и с гордостью рассказывал, как после чтения Тургенев обнимал его и говорил, что это лучшее из написанного им…»
В 1856 году вышло собрание стихотворений Фета, вполне благожелательно встреченное критикой. К этому времени военная служба окончательно потеряла для поэта смысл: вышел новый указ, по которому потомственное дворянство могли получить лишь офицеры, дослужившиеся до чина полковника, Фет же за много лет дослужился только до поручика. Взяв отпуск, поэт уехал за границу, а вернувшись – вышел в отставку и поселился в Москве. Там же, в 1857 году, он женился на Марии Боткиной, дочери крупного торговца чаем. Невеста не была красивой, прошлое ее было затуманено каким-то неудачным романом, но Фет и не искал красоты и духовности. «Идеальный мир мой разрушен давно, – писал он Борисову. – Ищу хозяйку, с которой буду жить, не понимая друг друга. Если никто никогда не услышит жалоб моих на такое непонимание друг друга, то я буду убежден, что я исполнил мою обязанность, и только…»
Некоторое время Фет пытался жить на литературные доходы, но вскоре убедился, что это невозможно. Мешало то, что единственной задачей искусства он всегда считал умение передать во всей полноте и чистоте некий образ, в минуту некоего восторга возникающий перед художником. «Другой цели у искусства быть не может, – категорически утверждал он. – Произведение, имеющее какую бы то ни было дидактическую тенденцию, – это дрянь». Только беглые настроения стоят внимания, считал он. «В деле свободных искусств я мало ценю разум в сравнении с бессознательным инстинктом (вдохновеньем), пружины которого от нас скрыты». Современники не мало упрекали поэта в сложности, даже в непонятности, имея в виду его эпитеты: звонкий сад, тающая скрипка, румяная скромность, мертвые грезы, благовонные речи, часто прямо называя все это чепухой. Поэт, впрочем, отвечал столь же прямо: «В нашем деле истинная чепуха и есть истинная правда». И писал Полонскому: «Никто более меня не ценит милейшего, образованнейшего и широкописного Ал. Толстого, – но ведь он тем не менее какой-то прямолинейный поэт. В нем нет того безумства и чепухи, без которой я поэзии не признаю. Пусть он хоть в целом дворце обтянет все кресла и табуреты венецианским бархатом с золотой бахромой, я все-таки назову его первоклассным обойщиком, а не поэтом. Поэт есть сумасшедший и никуда не годный человек, лепечущий божественный вздор».
Поняв, что литературой прокормиться невозможно, Фет в 1860 году купил двести десятин (более 220 гектаров) земли в родном Мценском уезде Орловской губернии и переселился в деревню Степановку. В. П. Боткин успокаивал расстроенную сестру: «…это деятельность, которая займет Фета и даст ему ту душевную оседлость, которую ты, Маша, не довольно ценишь в муже, ибо литература теперь для него не представляет того, что представляла прежде, при ее созерцательном направлении». А Тургенев в письме к Полонскому с некоторым удивлением подтверждал: «Он (Фет) теперь сделался агрономом-хозяином до отчаянности. Отпустил бороду до чресл – с какими-то волосяными вихрами за и под ушами, – о литературе слышать не хочет и журналы ругает с энтузиазмом». И страшно обижался на Фета, который как-то написал ему: «Покупайте у меня рожь по 6 руб., дайте мне право тащить в суд нигилистку и свинью за проход по моей земле, не берите с меня налогов – а там хоть всю Европу на кулаки!»
Став помещиком, Фет практически ушел из литературы. Теперь он выступал в печати только с яростными призывами защитить помещичью собственность от крестьян и наемных рабочих, да укоротить призывы к прогрессу. Чехов не случайно записал в дневнике: «Мой сосед В. Н. Семенкович рассказал мне, что его дядя Фет-Шеншин, известный лирик, проезжая по Моховой, опускал в карете окно и плевал на университет. Харкнет и плюнет: тьфу! Кучер так привык к этому, что всякий раз, проезжая мимо университета, останавливался». Имя Фета вызывало колоссальное раздражение в журналах, близких к демократическим кругам. Известный своей нетерпимостью критик Писарев в «Цветах невинного юмора» писал об итоговом собрании стихотворений Фета, вышедшем в 1863 году: «Со временем продадут его пудами для оклеивания комнат под обои и для завертывания сальных свечей, мещерского сыра и копченой рыбы. Г. Фет унизится таким образом до того, что он в первый раз станет приносить своими произведениями некоторую долю практической пользы»… А критик «Русского слова» соглашался с Писаревым: «Такое занятие, как выдумывать такие стихи, ничем не отличается от перебирания пальцами, которому с наслаждением предаются многие купчихи… – И дальше: – Он (Фет) в стихах придерживается гусиного миросозерцания…»
В течение двадцати лет Фет занимался только хозяйством: ставил мельницы, создал крупный конный завод, почти десять лет прослужил мировым судьей. Выпадающий досуг заполнял занятиями философией. Особенно близким был ему Шопенгауэр. «Шопенгауэр, – писал поэт, – для меня не только последняя крупная философская ступень, это для меня откровение, возможный человеческий ответ на те умственные вопросы, которые сами собой возникают в душе каждого». Он вполне разделял известное мнение Шопенгауэра о том, что история ничего в человеке и в обществе не меняет, что всякий прогресс – мираж, что любые попытки сознательного изменения строя человеческой жизни бессмысленны и безнадежны. В жизни царствовало и всегда будет царствовать страдание, считал Фет, поэтому основным свойством искусства должна быть полная его независимость от всяких «головных» понятий. В письме, адресованном К. Р. (великому князю Константину), он писал: «Цельный и всюду себе верный Шопенгауэр говорит, что искусство и прекрасное выводит нас из томительного мира бесконечных желаний в безвольный мир чистого созерцания: смотрят на Сикстинскую мадонну, слушают Бетховена и читают Шекспира не для получения следующего места или какой-либо выгоды…»
Литературное общение Фета сводилось теперь к простому общению с немногими друзьями. «Вы оба моя критика и публика, и не ведаю другой», – писал он Льву Толстому и его жене. И Толстой отвечал ему тем же чувством: «Вы человек, которого, не говоря о другом, по уму я ценю выше всех моих знакомых и который в личном общении дает один мне тот другой хлеб, которым, кроме единого, будет сыт человек». И в другом письме о стихотворении «Майская ночь»: «Развернув письмо, я – первое – прочел стихотворение, и у меня защипало в носу: я пришел к жене и хотел прочесть, но не мог от слез умиления. Стихотворение – одно из тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя; оно живое само и прелестно. Я не знаю у вас лучшего». В письме к Боткину тот же Лев Толстой искренне удивлялся: «И откуда у такого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?»
В 1873 году произошло событие, которого Фет ждал всю жизнь: царь, наконец, удовлетворил его прошение. Разночинец Фет стал потомственным дворянином, «трехсотлетним Шеншиным». Узнав об этом, Шеншин в тот же день отправил жене письмо с требованием незамедлительно заменить все метки, какие имелись в усадьбе – на столовом серебре, на белье, на почтовой бумаге. «Теперь, – писал он, – когда все, слава Богу, кончено, ты представить себе не можешь, до какой степени мне ненавистно имя Фет. Умоляю тебя никогда его ко мне не писать, если не хочешь мне опротиветь. Если спросить: как называются все страдания, все горести моей жизни, я отвечу: имя им – Фет. Со стороны легко смотреть на чужую изуродованную жизнь, но к своей собственной так легко относиться трудно…»
«Став помещиком, – писал известный литературовед Б. Бухштаб, – выхлопотав причисление „по высшему повелению“ к роду Шеншиных и тем самым получив потомственное дворянство, Фет, казалось бы, добился того, чего желал смолоду. Но глубоко раненное самолюбие не удовлетворялось и требовало новых достижений на том же пути. Притом некоторые знакомые вовсе не скрывали от Фета недоуменного или прямо иронического отношения к его превращению в Шеншина. Так, Тургенев написал ему по этому поводу: „Как Фет, Вы имели имя, как Шеншин, Вы имеете только фамилию“… На все это Фет реагирует погоней за дальнейшими почестями. Он буквально выпрашивает себе придворное звание камергера к пятидесятилетнему юбилею своей литературной деятельности. Больной старик, еле двигающийся от удушья, мучит себя дворцовыми приемами, сидит из-за них в Москве в летнюю жару, тешится своим званием, являясь в камергерском мундире всюду, куда следует и куда явно не следует…»
И все же это именно Фет сказал: «Я никогда не мог понять, чтобы искусство интересовалось чем-либо помимо красоты».
П. И. Чайковский, писал: «Считаю его (Фета) поэтом безусловно гениальным, хотя есть в этой гениальности какая-то неполнота, неравновесие, причиняющее то странное явление, что Фет писал иногда совершенно слабые, непостижимо плохие вещи… И рядом такие пьесы, от которых волосы дыбом становятся… Фет есть явление совершенно исключительное; нет никакой возможности сравнивать его с другими первоклассными или иностранными поэтами. Скорее можно сказать, что Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область (то есть в сторону музыки). Поэтому часто Фет напоминает мне Бетховена, но никогда Пушкина, Гёте или Байрона, или Мюссе. Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам, хотя бы и сильным, но ограниченным пределами слова. Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом. От этого также его часто не понимают и есть даже и такие господа, которые смеются над ним, утверждая, что стихотворение вроде «Уноси мое сердце в звенящую даль» и т. д. есть бессмыслица. Для человека ограниченного и в особенности немузыкального, пожалуй, это и бессмыслица, – но ведь недаром же Фет, несмотря на свою для меня несомненную гениальность, вовсе не популярен».
Умер 21 (3. XII) ноября 1892 года в Москве.
Яков Петрович Полонский
Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету.
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.
Ночь пройдет – и спозаранок
В степь, далеко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой…
Родился 6 (18) декабря 1819 года в Рязани.
Окончив гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета. Жил бедно, поддерживала его только бабушка – Е. Б. Воронцова. Если появлялись какие-то деньги, тратил их в кондитерской, просматривая за чашкой кофе свежие газеты и журналы, подаваемые хозяином. Из-за постоянной необходимости зарабатывать на жизнь, университет закончил только в 1844 году. Тогда же выпустил сборник стихов «Гаммы», замеченный «Отечественными записками». «Полонский обладает в некоторой степени тем, что можно назвать чистым элементом поэзии и без чего никакие умные и глубокие мысли, никакая ученость не сделает человека поэтом», – писал критик. Однако, этот некоторый успех никак не повлиял на материальное положение поэта; в ноябре того же года он уехал в Одессу.
С 1846 года Полонский жил в Тифлисе. Служил в канцелярии кавказского наместника М. С. Воронцова и редактировал газету «Закавказский вестник». Там же, в Тифлисе, вышел в 1849 году сборник стихов «Сазандар».
В 1853 году переехал в Петербург.
Жить в столице было нелегко. Полонский давал частные уроки, некоторое время служил гувернером в семье миллионера С. С. Полякова. Женился. Однажды, торопясь по делам, связанным с рождением первенца, упал с дрожек и получил серьезную травму. Несколько операций, перенесенных им, не принесли выздоровления, до конца жизни Полонский пользовался костылями. Еще большим потрясением для поэта стала смерть его жены – дочери псаломщика русской церкви в Париже Елены Устюжской. При сложной материальной жизни, жена была неоценимой помощницей поэту – сама кормила и нянчила ребенка. Впрочем, это ей было знакомо, поскольку выросла она в большой небогатой семье и, будучи старшей, вынянчила поочередно всех своих братьев и сестер. Потеряв жену, Полонский впал в отчаяние. Он пытался связаться с женой при помощи спиритических сеансов, но утешение поэту приносили только стихи. «По твоим стихам, – как-то написал он Фету, – невозможно написать твоей биографии, и даже намекать на события из твоей жизни… Увы!.. По моим стихам можно проследить всю жизнь мою…»
Стихи Полонского охотно печатались в «Современнике», в «Отечественных записках», в «Русском слове», то есть в журналах самых противоположных направлений, часто идеологически враждебных друг другу. Это лавирование между различными лагерями мешало поэту. Но сам он так объяснял это лавирование (в письме к Чехову): «Наши большие литературные органы любят, чтобы мы, писатели, сами просили их принять нас под свое покровительство – и тогда только благоволят, когда считают нас своими, а я всю свою жизнь был ничей, для того, чтобы принадлежать всем, кому я понадоблюсь, а не кому-нибудь…»
В конце пятидесятых Полонский редактировал журнал «Русское слово», затем служил цензором в Комитете иностранной цензуры, входил в совет Главного управления по делам печати. Но главное место в его жизни занимала поэзия. «Что такое – отделывать лирическое стихотворение или, поправляя стих за стихом, доводить форму до возможного для нее изящества? – писал он. – Это, поверьте, не что иное, как отделывать и доводить до возможного в человеческой природе изящества свое собственное, то или другое, чувство».
«Улеглася метелица. Путь озарен. Ночь глядит миллионами тусклых очей. Погружай меня в сон, колокольчика звон! Выноси меня, тройка усталых коней!.. У меня ли не жизнь! Чуть заря на стекле начинает лучами с морозом играть, самовар мой кипит на дубовом столе, и трещит моя печь, озаряя в угле, за цветной занавеской, кровать!.. Что за жизнь! Полинял пестрый полога цвет, я больная бреду и не еду к родным, побранить меня некому – милого нет, лишь старуха ворчит, как приходит сосед, оттого, что мне весело с ним!».
«Как это хорошо! – писал Достоевский. – Какие это мучительные стихи, и какая фантастическая раздающаяся картина. Канва одна и только намечен узор, вышивай, что хочешь… Этот самовар, этот ситцевый занавес, – так это все родное. Это как в мещанских домиках в уездном нашем городишке».
В последние годы, будучи уже признанным, Полонский еженедельно устраивал «пятницы», на которых встречались литераторы, артисты, ученые.
«Большая зала с окнами на две улицы, – вспоминала Зинаида Гиппиус. – Во всю длину залы – накрытый чайный стол (часто, бывало, думаю: и откуда такая длинная скатерть?) За столом – гости. Сухонькая, улыбающаяся хозяйка (вторая жена Полонского, Жозефина А.). У окон где-то рояль, а в самом углу, над растениями, громадная белая статуя. Амура, кажется. Ее отовсюду видно, в зале только она да этот чайный стол. Гостей всегда много, но не тесно, ибо гости меняются: когда приходят новые, – встают и уходят те, кто чай кончил. Уходят через маленькую гостиную в кабинет хозяина, который в зале никогда не присутствует. Он сидит в этой довольно узкой комнате, неизменно на своем месте, в кресле за письменным столом. Вижу этот стол и за ним, лицом к двери, большого угловатого старика – Якова Петровича. Кресло не очень низкое. Полонский сидит бодро, сутулясь чуть-чуть. Рядом – его костыли. У него нет белоснежной бороды Плещеева. Борода не короткая, но и не длинная, и весь он скорее серый, чем белый; весь в проседи. Глаза ужасно живые и прегромкий голос. То кричит весело, то трубит сердито или торжественно. Иногда стучит костылем. От приходящих в кабинет гостей его отделяет письменный стол, и гости сидят прямо перед Полонским, на стульях или на диване у стены. Он и говорит со всеми вместе, точно всегда немного с эстрады. Впрочем, бывает, что кто-нибудь садится на стул сбоку, поговорить поближе…
Полонский охотно говорит о себе, о своих стихах. Рассказывает, какие именно слова он создал, первый ввел в литературу. Если Достоевский бросил слово «стушеваться», то он, Полонский, создал «непроглядную» ночь. Меня, по правде сказать, эти «новые» слова не пленяли, уже казались банальностями. Удивило только открытие, что слово «предмет» не существовало до Карамзина: он оказался его творцом. Полонский, когда его просили, с удовольствием читал стихи, и это бывало нередко. Читал он любопытно, совсем по-своему. Так же, вероятно, как читал и не на этой домашней «эстраде», за письменным столом, а на настоящей, где мне слышать его не пришлось. Читал густо, тромбонно, с непередаваемой, устрашающей завойкой. Его чтение у меня в ушах, я могу его приблизительно «передразнить», но описать не могу. Плещеев и Вейнберг читали с тем условным пафосом, которого требовал тогдашний студент. Чтение Полонского было другое. Сначала делалось смешно, а потом нравилось. «Есть фо-орма, – но она пуста! Краси-иво – но не красота!» Эти строчки, сами по себе недурные, значительные, во всяком случае, производили большое впечатление в густом рыканье Полонского. Так же декламировал он и свое единственное, считавшееся «либеральным» стихотворение: «Что мне она? Не жена, не любовница и не родная мне дочь. Так почему ж ее доля проклятая спать не дает мне всю ночь?». Не знаю, как случилось, что другое его, воистину прекрасное стихотворение не пользовалось популярностью; и сам Полонский не читал его (при мне) и с эстрады его, кажется, редко читали другие. Легко представляю себе как громовержно продекламировал бы Яков Петрович: «Писатель, если только он волна, а океан – Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия. Писатель, если только он есть нерв великого народа, не может быть не поражен, когда поражена свобода». Но «студент» требовал, чтобы его звали «Вперед, без страха и сомненья», доверял только белым бородам, а какие стихи, хорошие или плохие, – ему было в высшей степени наплевать.
Кого только не приходилось видеть на пятницах Полонского! Писатели, артисты, музыканты… Тут и гипнотизер Фельдман, и нововременский предсказатель погоды Кайгородов, и рассказчик Горбунов, и семья Достоевского, и Антон Рубинштейн… На ежегодном же вечере-монстре в конце декабря в день рождения Полонского бывало столько любопытного народа, что, казалось, «весь Петербург» выворотил свои заветные недра. Хозяин сидел там же, на том же месте, за письменным столом, и торжественно принимал поздравления. Впрочем, однажды в этот день он продвинулся на своих костылях в залу; ненадолго, лишь пока Антон Рубинштейн, оторванный от игры в карты и набросившийся на клавиши, с таким озлоблением и с такой силой терзал рояль, точно это был его личный враг…
Все комнаты отворены и все полны народу. Никаких танцев (и карточный стол всего один, специально для Рубинштейна: по пятницам же карты никому не разрешались). Гости все солидные, с сановными лицами и даже со звездами… Жена гр. Алексея Толстого, изящно-некрасивая, под черным покрывалом, как вдовствующая императрица, улыбается тем, кого ей представляют… Мне подумалось: а ведь это ей написано: «Средь шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты…» Все ли знают, что бал этот – маскарад, «тайна» – просто маска и покрывала она редко-некрасивые черты лица…»
«Творчество требует здоровья, – говорил Полонский одному из друзей. – Врет Ломброзо, что все гении были полупомешанные или больные люди. Сильные нервы – это то же, что натянутые стальные струны у рояля: не рвутся и звучат от всякого – сильного ли, слабого ли – к ним прикосновения». И писал, вспоминая своего друга Фета: «…Все тот же огонек, что мы зажгли когда-то, не гаснет для него и в сумерках заката, он видит призраки ночные, что ведут свой шепотливый спор в лесу у перевала, там мириады звезд плывут без покрывала, и те же соловьи рыдают и поют».
Умер 18 (30) октября 1898 года.
Похоронен в Рязани.
Константин Дмитриевич Бальмонт
Я устал от нежных снов,
От восторгов этих цельных
Гармонических пиров
И напевов колыбельных.
Крылатые звуки толпятся;
С любимой мечтою
Не хочется сердцу расстаться.
Но цвет вдохновенья
Печален средь буднишних терний;
Былое стремленье
Далеко, как выстрел вечерний.
Но память былого
Все крадется в сердце тревожно…
О, если б без слова
Сказаться душой было можно!
Родился в октябре или в ноябре 1820 года в селе Новоселки, Мценского уезда Орловской губернии.
Отец – помещик Афанасий Неофитович Шеншин, мать – Шарлотта-Елизавета Фет. Шарлотту Шеншин привез из Германии, где проходил лечение. Через два года он обвенчался с нею и все их дети получили фамилию Шеншина, однако, когда первенец – Афанасий – достиг четырнадцати лет, Орловская духовная консистория установила, что мальчик рожден до заключения брака матери с Шеншиным, а значит впредь обязан именоваться не потомственным дворянином Афанасием Шеншиным, а всего лишь гессен-дармштадским подданным Афанасием Фетом. Буквально в один день из потомственного русского дворянина Фет превратился в разночинца, потерял все полагающиеся дворянину привилегии и, ко всему прочему, под всеми официальными документами обязан был отныне подписываться: «К сему иностранец Афанасий Фет руку приложил».
Стремление вернуть потерянное дворянство стало главным в жизни Фета.
Окончив немецкую школу в городе Верро (Эстония), в начале 1838 года он поступил в московский пансион профессора истории М. П. Погодина, и в том же году – в Московский университет на словесное отделение, которое окончил в 1844 году. В университете Фет подружился с поэтом Аполлоном Григорьевым. «Вместо того, чтобы ревностно ходить на лекции, – писал он позже, – я почти ежедневно писал новые стихи». Там же, в Москве, Фет исправно посещал поэтические салоны Каролины Павловой и Федора Глинки, близко познакомился с Полонским, Герценом, Аксаковыми. В 1840 году под инициалами А. Ф. вышел в свет первый сборник его стихов – «Лирический пантеон», встреченный критиками откровенно издевательски. Но уже стихи, напечатанные Фетом в 1842 году в журналах «Москвитянин» и «Отечественные записки», привлекли серьезное внимание критиков. Белинский даже заметил в обзоре «Русская литература в 1843 году», что «из живущих в Москве поэтов всех даровитее г-н Фет». Самого Фета, впрочем, все эти успехи мало радовали, он тосковал об утерянном дворянстве. «С способностью творения в нем росло равнодушие, – вспоминал Григорьев. – Равнодушие ко всему, кроме способности творить – к божьему миру, как скоро предметы оного переставали отражаться в его творческой способности, к самому себе, как скоро он переставал быть художником. Так сознал и так принял этот человек свое назначение в жизни… Страдания улеглись, затихли в нем, хотя, разумеется, не вдруг. Этот человек должен был или убить себя, или создаться таким, каким он сделался… Я не видал человека, которого бы так душила тоска, за которого бы я более боялся самоубийства… Я боялся за него, я проводил часто ночи у его постели, стараясь чем бы то ни было рассеять это страшное хаотическое брожение стихий его души…»
Окончив университет, Фет решил поступить на военную службу. Офицерский чин по законам того времени приносил разночинцу звание потомственного дворянина, в то время как на гражданской службе к такому результату приводил только чин коллежского асессора. Не имея нужных связей, в 1845 году Фет смог поступить лишь унтер-офицером в захудалый кавалерийский полк – Орденский Кирасирский, и с этого времени почти десять лет странствовал по мелким городкам и селам Херсонской губернии, где полк был расквартирован. К ужасному его разочарованию, за несколько месяцев до получения первого офицерского чина, вышел указ, по которому потомственное дворянство стал давать только чин майора (в кавалерии – ротмистра). На разочарование наложился еще трагический роман с дочерью небогатого херсонского помещика – Марией Лазич. Из-за невозможности содержать семью, может быть, несколько преувеличиваемую Фетом, он не мог жениться на Лазич. «Не могу выбросить из рук последнюю доску надежды и отдать жизнь без борьбы, – писал он другу своему И. Н. Борисову. – Я не женюсь на Лазич, и она это знает, а между тем умоляет не прерывать наших отношений. Этот гордиев узел любви, который чем более распутываю, тем туже затягиваю, я разрубить мечом не имею духу и сил… – И неожиданное признание: – Знаешь, втянулся в службу, а другое все только томит как кошмар…»
Судьба сама, и по-своему, разрешила ситуацию: Мария Лазич погибла от неосторожно брошенной спички.
В 1853 году Фет сумел, наконец, перевестись в гвардейский лейб-уланский полк, расквартированный в районе Волхова. Теперь он стал бывать в столице, подружился с Тургеневым, вошел в круг сотрудников журнала «Современник», редактируемого Некрасовым. «Фет уже был известен своими стихотворениями в литературе с сороковых годов, – не очень доброжелательно писала о нем Панаева, – но я познакомилась с ним только в начале пятидесятых. Он приехал в Петербург на продолжительное время в отпуск из полка, и я виделась с ним каждый день. Фет находился в вдохновенном настроении и почти каждое утро являлся с новым стихотворением, которое читал Некрасову, мне и всем литераторам, кто просил его прочесть. Тургенев находил, что Фет так же плодовит, как клопы, и что, должно быть, по голове его проскакал целый эскадрон, от чего и происходит такая бессмыслица в некоторых его стихотворениях, Но Фет вполне был уверен, что Тургенев приходит в восторг от его стихов, и с гордостью рассказывал, как после чтения Тургенев обнимал его и говорил, что это лучшее из написанного им…»
В 1856 году вышло собрание стихотворений Фета, вполне благожелательно встреченное критикой. К этому времени военная служба окончательно потеряла для поэта смысл: вышел новый указ, по которому потомственное дворянство могли получить лишь офицеры, дослужившиеся до чина полковника, Фет же за много лет дослужился только до поручика. Взяв отпуск, поэт уехал за границу, а вернувшись – вышел в отставку и поселился в Москве. Там же, в 1857 году, он женился на Марии Боткиной, дочери крупного торговца чаем. Невеста не была красивой, прошлое ее было затуманено каким-то неудачным романом, но Фет и не искал красоты и духовности. «Идеальный мир мой разрушен давно, – писал он Борисову. – Ищу хозяйку, с которой буду жить, не понимая друг друга. Если никто никогда не услышит жалоб моих на такое непонимание друг друга, то я буду убежден, что я исполнил мою обязанность, и только…»
Некоторое время Фет пытался жить на литературные доходы, но вскоре убедился, что это невозможно. Мешало то, что единственной задачей искусства он всегда считал умение передать во всей полноте и чистоте некий образ, в минуту некоего восторга возникающий перед художником. «Другой цели у искусства быть не может, – категорически утверждал он. – Произведение, имеющее какую бы то ни было дидактическую тенденцию, – это дрянь». Только беглые настроения стоят внимания, считал он. «В деле свободных искусств я мало ценю разум в сравнении с бессознательным инстинктом (вдохновеньем), пружины которого от нас скрыты». Современники не мало упрекали поэта в сложности, даже в непонятности, имея в виду его эпитеты: звонкий сад, тающая скрипка, румяная скромность, мертвые грезы, благовонные речи, часто прямо называя все это чепухой. Поэт, впрочем, отвечал столь же прямо: «В нашем деле истинная чепуха и есть истинная правда». И писал Полонскому: «Никто более меня не ценит милейшего, образованнейшего и широкописного Ал. Толстого, – но ведь он тем не менее какой-то прямолинейный поэт. В нем нет того безумства и чепухи, без которой я поэзии не признаю. Пусть он хоть в целом дворце обтянет все кресла и табуреты венецианским бархатом с золотой бахромой, я все-таки назову его первоклассным обойщиком, а не поэтом. Поэт есть сумасшедший и никуда не годный человек, лепечущий божественный вздор».
Поняв, что литературой прокормиться невозможно, Фет в 1860 году купил двести десятин (более 220 гектаров) земли в родном Мценском уезде Орловской губернии и переселился в деревню Степановку. В. П. Боткин успокаивал расстроенную сестру: «…это деятельность, которая займет Фета и даст ему ту душевную оседлость, которую ты, Маша, не довольно ценишь в муже, ибо литература теперь для него не представляет того, что представляла прежде, при ее созерцательном направлении». А Тургенев в письме к Полонскому с некоторым удивлением подтверждал: «Он (Фет) теперь сделался агрономом-хозяином до отчаянности. Отпустил бороду до чресл – с какими-то волосяными вихрами за и под ушами, – о литературе слышать не хочет и журналы ругает с энтузиазмом». И страшно обижался на Фета, который как-то написал ему: «Покупайте у меня рожь по 6 руб., дайте мне право тащить в суд нигилистку и свинью за проход по моей земле, не берите с меня налогов – а там хоть всю Европу на кулаки!»
Став помещиком, Фет практически ушел из литературы. Теперь он выступал в печати только с яростными призывами защитить помещичью собственность от крестьян и наемных рабочих, да укоротить призывы к прогрессу. Чехов не случайно записал в дневнике: «Мой сосед В. Н. Семенкович рассказал мне, что его дядя Фет-Шеншин, известный лирик, проезжая по Моховой, опускал в карете окно и плевал на университет. Харкнет и плюнет: тьфу! Кучер так привык к этому, что всякий раз, проезжая мимо университета, останавливался». Имя Фета вызывало колоссальное раздражение в журналах, близких к демократическим кругам. Известный своей нетерпимостью критик Писарев в «Цветах невинного юмора» писал об итоговом собрании стихотворений Фета, вышедшем в 1863 году: «Со временем продадут его пудами для оклеивания комнат под обои и для завертывания сальных свечей, мещерского сыра и копченой рыбы. Г. Фет унизится таким образом до того, что он в первый раз станет приносить своими произведениями некоторую долю практической пользы»… А критик «Русского слова» соглашался с Писаревым: «Такое занятие, как выдумывать такие стихи, ничем не отличается от перебирания пальцами, которому с наслаждением предаются многие купчихи… – И дальше: – Он (Фет) в стихах придерживается гусиного миросозерцания…»
В течение двадцати лет Фет занимался только хозяйством: ставил мельницы, создал крупный конный завод, почти десять лет прослужил мировым судьей. Выпадающий досуг заполнял занятиями философией. Особенно близким был ему Шопенгауэр. «Шопенгауэр, – писал поэт, – для меня не только последняя крупная философская ступень, это для меня откровение, возможный человеческий ответ на те умственные вопросы, которые сами собой возникают в душе каждого». Он вполне разделял известное мнение Шопенгауэра о том, что история ничего в человеке и в обществе не меняет, что всякий прогресс – мираж, что любые попытки сознательного изменения строя человеческой жизни бессмысленны и безнадежны. В жизни царствовало и всегда будет царствовать страдание, считал Фет, поэтому основным свойством искусства должна быть полная его независимость от всяких «головных» понятий. В письме, адресованном К. Р. (великому князю Константину), он писал: «Цельный и всюду себе верный Шопенгауэр говорит, что искусство и прекрасное выводит нас из томительного мира бесконечных желаний в безвольный мир чистого созерцания: смотрят на Сикстинскую мадонну, слушают Бетховена и читают Шекспира не для получения следующего места или какой-либо выгоды…»
Литературное общение Фета сводилось теперь к простому общению с немногими друзьями. «Вы оба моя критика и публика, и не ведаю другой», – писал он Льву Толстому и его жене. И Толстой отвечал ему тем же чувством: «Вы человек, которого, не говоря о другом, по уму я ценю выше всех моих знакомых и который в личном общении дает один мне тот другой хлеб, которым, кроме единого, будет сыт человек». И в другом письме о стихотворении «Майская ночь»: «Развернув письмо, я – первое – прочел стихотворение, и у меня защипало в носу: я пришел к жене и хотел прочесть, но не мог от слез умиления. Стихотворение – одно из тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя; оно живое само и прелестно. Я не знаю у вас лучшего». В письме к Боткину тот же Лев Толстой искренне удивлялся: «И откуда у такого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?»
В 1873 году произошло событие, которого Фет ждал всю жизнь: царь, наконец, удовлетворил его прошение. Разночинец Фет стал потомственным дворянином, «трехсотлетним Шеншиным». Узнав об этом, Шеншин в тот же день отправил жене письмо с требованием незамедлительно заменить все метки, какие имелись в усадьбе – на столовом серебре, на белье, на почтовой бумаге. «Теперь, – писал он, – когда все, слава Богу, кончено, ты представить себе не можешь, до какой степени мне ненавистно имя Фет. Умоляю тебя никогда его ко мне не писать, если не хочешь мне опротиветь. Если спросить: как называются все страдания, все горести моей жизни, я отвечу: имя им – Фет. Со стороны легко смотреть на чужую изуродованную жизнь, но к своей собственной так легко относиться трудно…»
«Став помещиком, – писал известный литературовед Б. Бухштаб, – выхлопотав причисление „по высшему повелению“ к роду Шеншиных и тем самым получив потомственное дворянство, Фет, казалось бы, добился того, чего желал смолоду. Но глубоко раненное самолюбие не удовлетворялось и требовало новых достижений на том же пути. Притом некоторые знакомые вовсе не скрывали от Фета недоуменного или прямо иронического отношения к его превращению в Шеншина. Так, Тургенев написал ему по этому поводу: „Как Фет, Вы имели имя, как Шеншин, Вы имеете только фамилию“… На все это Фет реагирует погоней за дальнейшими почестями. Он буквально выпрашивает себе придворное звание камергера к пятидесятилетнему юбилею своей литературной деятельности. Больной старик, еле двигающийся от удушья, мучит себя дворцовыми приемами, сидит из-за них в Москве в летнюю жару, тешится своим званием, являясь в камергерском мундире всюду, куда следует и куда явно не следует…»
И все же это именно Фет сказал: «Я никогда не мог понять, чтобы искусство интересовалось чем-либо помимо красоты».
П. И. Чайковский, писал: «Считаю его (Фета) поэтом безусловно гениальным, хотя есть в этой гениальности какая-то неполнота, неравновесие, причиняющее то странное явление, что Фет писал иногда совершенно слабые, непостижимо плохие вещи… И рядом такие пьесы, от которых волосы дыбом становятся… Фет есть явление совершенно исключительное; нет никакой возможности сравнивать его с другими первоклассными или иностранными поэтами. Скорее можно сказать, что Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область (то есть в сторону музыки). Поэтому часто Фет напоминает мне Бетховена, но никогда Пушкина, Гёте или Байрона, или Мюссе. Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам, хотя бы и сильным, но ограниченным пределами слова. Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом. От этого также его часто не понимают и есть даже и такие господа, которые смеются над ним, утверждая, что стихотворение вроде «Уноси мое сердце в звенящую даль» и т. д. есть бессмыслица. Для человека ограниченного и в особенности немузыкального, пожалуй, это и бессмыслица, – но ведь недаром же Фет, несмотря на свою для меня несомненную гениальность, вовсе не популярен».
Умер 21 (3. XII) ноября 1892 года в Москве.
Яков Петрович Полонский
Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету.
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.
Ночь пройдет – и спозаранок
В степь, далеко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой…
Родился 6 (18) декабря 1819 года в Рязани.
Окончив гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета. Жил бедно, поддерживала его только бабушка – Е. Б. Воронцова. Если появлялись какие-то деньги, тратил их в кондитерской, просматривая за чашкой кофе свежие газеты и журналы, подаваемые хозяином. Из-за постоянной необходимости зарабатывать на жизнь, университет закончил только в 1844 году. Тогда же выпустил сборник стихов «Гаммы», замеченный «Отечественными записками». «Полонский обладает в некоторой степени тем, что можно назвать чистым элементом поэзии и без чего никакие умные и глубокие мысли, никакая ученость не сделает человека поэтом», – писал критик. Однако, этот некоторый успех никак не повлиял на материальное положение поэта; в ноябре того же года он уехал в Одессу.
С 1846 года Полонский жил в Тифлисе. Служил в канцелярии кавказского наместника М. С. Воронцова и редактировал газету «Закавказский вестник». Там же, в Тифлисе, вышел в 1849 году сборник стихов «Сазандар».
В 1853 году переехал в Петербург.
Жить в столице было нелегко. Полонский давал частные уроки, некоторое время служил гувернером в семье миллионера С. С. Полякова. Женился. Однажды, торопясь по делам, связанным с рождением первенца, упал с дрожек и получил серьезную травму. Несколько операций, перенесенных им, не принесли выздоровления, до конца жизни Полонский пользовался костылями. Еще большим потрясением для поэта стала смерть его жены – дочери псаломщика русской церкви в Париже Елены Устюжской. При сложной материальной жизни, жена была неоценимой помощницей поэту – сама кормила и нянчила ребенка. Впрочем, это ей было знакомо, поскольку выросла она в большой небогатой семье и, будучи старшей, вынянчила поочередно всех своих братьев и сестер. Потеряв жену, Полонский впал в отчаяние. Он пытался связаться с женой при помощи спиритических сеансов, но утешение поэту приносили только стихи. «По твоим стихам, – как-то написал он Фету, – невозможно написать твоей биографии, и даже намекать на события из твоей жизни… Увы!.. По моим стихам можно проследить всю жизнь мою…»
Стихи Полонского охотно печатались в «Современнике», в «Отечественных записках», в «Русском слове», то есть в журналах самых противоположных направлений, часто идеологически враждебных друг другу. Это лавирование между различными лагерями мешало поэту. Но сам он так объяснял это лавирование (в письме к Чехову): «Наши большие литературные органы любят, чтобы мы, писатели, сами просили их принять нас под свое покровительство – и тогда только благоволят, когда считают нас своими, а я всю свою жизнь был ничей, для того, чтобы принадлежать всем, кому я понадоблюсь, а не кому-нибудь…»
В конце пятидесятых Полонский редактировал журнал «Русское слово», затем служил цензором в Комитете иностранной цензуры, входил в совет Главного управления по делам печати. Но главное место в его жизни занимала поэзия. «Что такое – отделывать лирическое стихотворение или, поправляя стих за стихом, доводить форму до возможного для нее изящества? – писал он. – Это, поверьте, не что иное, как отделывать и доводить до возможного в человеческой природе изящества свое собственное, то или другое, чувство».
«Улеглася метелица. Путь озарен. Ночь глядит миллионами тусклых очей. Погружай меня в сон, колокольчика звон! Выноси меня, тройка усталых коней!.. У меня ли не жизнь! Чуть заря на стекле начинает лучами с морозом играть, самовар мой кипит на дубовом столе, и трещит моя печь, озаряя в угле, за цветной занавеской, кровать!.. Что за жизнь! Полинял пестрый полога цвет, я больная бреду и не еду к родным, побранить меня некому – милого нет, лишь старуха ворчит, как приходит сосед, оттого, что мне весело с ним!».
«Как это хорошо! – писал Достоевский. – Какие это мучительные стихи, и какая фантастическая раздающаяся картина. Канва одна и только намечен узор, вышивай, что хочешь… Этот самовар, этот ситцевый занавес, – так это все родное. Это как в мещанских домиках в уездном нашем городишке».
В последние годы, будучи уже признанным, Полонский еженедельно устраивал «пятницы», на которых встречались литераторы, артисты, ученые.
«Большая зала с окнами на две улицы, – вспоминала Зинаида Гиппиус. – Во всю длину залы – накрытый чайный стол (часто, бывало, думаю: и откуда такая длинная скатерть?) За столом – гости. Сухонькая, улыбающаяся хозяйка (вторая жена Полонского, Жозефина А.). У окон где-то рояль, а в самом углу, над растениями, громадная белая статуя. Амура, кажется. Ее отовсюду видно, в зале только она да этот чайный стол. Гостей всегда много, но не тесно, ибо гости меняются: когда приходят новые, – встают и уходят те, кто чай кончил. Уходят через маленькую гостиную в кабинет хозяина, который в зале никогда не присутствует. Он сидит в этой довольно узкой комнате, неизменно на своем месте, в кресле за письменным столом. Вижу этот стол и за ним, лицом к двери, большого угловатого старика – Якова Петровича. Кресло не очень низкое. Полонский сидит бодро, сутулясь чуть-чуть. Рядом – его костыли. У него нет белоснежной бороды Плещеева. Борода не короткая, но и не длинная, и весь он скорее серый, чем белый; весь в проседи. Глаза ужасно живые и прегромкий голос. То кричит весело, то трубит сердито или торжественно. Иногда стучит костылем. От приходящих в кабинет гостей его отделяет письменный стол, и гости сидят прямо перед Полонским, на стульях или на диване у стены. Он и говорит со всеми вместе, точно всегда немного с эстрады. Впрочем, бывает, что кто-нибудь садится на стул сбоку, поговорить поближе…
Полонский охотно говорит о себе, о своих стихах. Рассказывает, какие именно слова он создал, первый ввел в литературу. Если Достоевский бросил слово «стушеваться», то он, Полонский, создал «непроглядную» ночь. Меня, по правде сказать, эти «новые» слова не пленяли, уже казались банальностями. Удивило только открытие, что слово «предмет» не существовало до Карамзина: он оказался его творцом. Полонский, когда его просили, с удовольствием читал стихи, и это бывало нередко. Читал он любопытно, совсем по-своему. Так же, вероятно, как читал и не на этой домашней «эстраде», за письменным столом, а на настоящей, где мне слышать его не пришлось. Читал густо, тромбонно, с непередаваемой, устрашающей завойкой. Его чтение у меня в ушах, я могу его приблизительно «передразнить», но описать не могу. Плещеев и Вейнберг читали с тем условным пафосом, которого требовал тогдашний студент. Чтение Полонского было другое. Сначала делалось смешно, а потом нравилось. «Есть фо-орма, – но она пуста! Краси-иво – но не красота!» Эти строчки, сами по себе недурные, значительные, во всяком случае, производили большое впечатление в густом рыканье Полонского. Так же декламировал он и свое единственное, считавшееся «либеральным» стихотворение: «Что мне она? Не жена, не любовница и не родная мне дочь. Так почему ж ее доля проклятая спать не дает мне всю ночь?». Не знаю, как случилось, что другое его, воистину прекрасное стихотворение не пользовалось популярностью; и сам Полонский не читал его (при мне) и с эстрады его, кажется, редко читали другие. Легко представляю себе как громовержно продекламировал бы Яков Петрович: «Писатель, если только он волна, а океан – Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия. Писатель, если только он есть нерв великого народа, не может быть не поражен, когда поражена свобода». Но «студент» требовал, чтобы его звали «Вперед, без страха и сомненья», доверял только белым бородам, а какие стихи, хорошие или плохие, – ему было в высшей степени наплевать.
Кого только не приходилось видеть на пятницах Полонского! Писатели, артисты, музыканты… Тут и гипнотизер Фельдман, и нововременский предсказатель погоды Кайгородов, и рассказчик Горбунов, и семья Достоевского, и Антон Рубинштейн… На ежегодном же вечере-монстре в конце декабря в день рождения Полонского бывало столько любопытного народа, что, казалось, «весь Петербург» выворотил свои заветные недра. Хозяин сидел там же, на том же месте, за письменным столом, и торжественно принимал поздравления. Впрочем, однажды в этот день он продвинулся на своих костылях в залу; ненадолго, лишь пока Антон Рубинштейн, оторванный от игры в карты и набросившийся на клавиши, с таким озлоблением и с такой силой терзал рояль, точно это был его личный враг…
Все комнаты отворены и все полны народу. Никаких танцев (и карточный стол всего один, специально для Рубинштейна: по пятницам же карты никому не разрешались). Гости все солидные, с сановными лицами и даже со звездами… Жена гр. Алексея Толстого, изящно-некрасивая, под черным покрывалом, как вдовствующая императрица, улыбается тем, кого ей представляют… Мне подумалось: а ведь это ей написано: «Средь шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты…» Все ли знают, что бал этот – маскарад, «тайна» – просто маска и покрывала она редко-некрасивые черты лица…»
«Творчество требует здоровья, – говорил Полонский одному из друзей. – Врет Ломброзо, что все гении были полупомешанные или больные люди. Сильные нервы – это то же, что натянутые стальные струны у рояля: не рвутся и звучат от всякого – сильного ли, слабого ли – к ним прикосновения». И писал, вспоминая своего друга Фета: «…Все тот же огонек, что мы зажгли когда-то, не гаснет для него и в сумерках заката, он видит призраки ночные, что ведут свой шепотливый спор в лесу у перевала, там мириады звезд плывут без покрывала, и те же соловьи рыдают и поют».
Умер 18 (30) октября 1898 года.
Похоронен в Рязани.
Константин Дмитриевич Бальмонт
Я устал от нежных снов,
От восторгов этих цельных
Гармонических пиров
И напевов колыбельных.