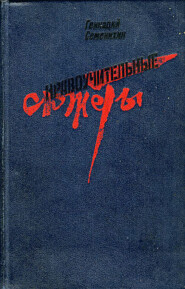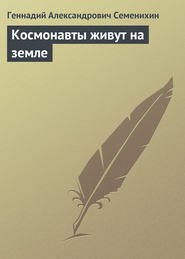По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Высота
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Улыбка сбежала с лица старшего брата, и он тяжко вздохнул.
– Теперь как и прежде. А вот в прошлом году серьезно поссорились, и это было для меня опять-таки испытанием характера.
– Из-за чего же?
– Разошлись в оценке одного ученика, – медленно проговорил Гордей, – что нередко бывает в учительской практике. Учился у нас в седьмом «А» Миша Белогривое, хилый болезненный мальчик. Был отличником, потом сполз на двойки. На педсовете Михаил Васильевич обрушил на него свой гнев, поставил вопрос об оставлении на второй год. Я промолчал, но в душе с ним не согласился. Хотелось все-таки узнать, что же мешает этому Мише Белогривову. Познакомился с ним поближе и увидел, что мальчик во многом не виноват. Невеселая жизнь у него сложилась. Мачеха паренька заедает, отец пьет горькую. Прежде чем делать выводы, надо было в быт этой семьи вмешаться, а Михаил Васильевич этого не сделал. Вот я и срезался с ним на следующем педсовете. Долго потом в душе терзался вопросом, а верно ли сделал, имел ли право покритиковать такого опытного педагога, у которого сам учусь и еще долго буду учиться. Ведь кто я такой? Учитель с пятилетним стажем, а он половину жизни своей отдал школе. Два его ученика Герои Советского Союза, один в доктора наук вышел. И все же чувство долга заставило выступить против. Долг, Павлик, не обязаловка какая-нибудь. Это выше. Меня никто не принуждал вмешиваться в это дело. Миша Белогривов ученик из другого класса, ответственности за который я не нес. Я бы мог спокойно закрыть глаза, сделать вид, будто ничего не замечаю, оправдаться перед собственной совестью. Да ведь совесть, она какая. Не позволила мимо пройти. Ведь речь шла о живом формирующемся человеке. Мы должны были сделать его хорошим полноценным гражданином, на второй-то год оставить легче всего. Вот я и распалился, нашумел.
Весь педсовет был на моей стороне, кроме одного Михаила Васильевича. Неделю он со мной не разговаривал и не здоровался. Даже в учительскую избегал заходить, если видел в приоткрытую дверь мою палку у вешалки.
Гордей затушил в пепельнице самокрутку и покосился на рюмки.
– Может, допьем, братишка?
– Стоит ли торопиться, – остановил его Павел. – Коньяк не чай – не остынет.
Гордей, улыбаясь, посмотрел на жаркое солнце, стоявшее за окном в безоблачном голубом небе.
– Опасность иная, ведь может согреться, – пошутил он.
– Нет, Гордей, – упорствовал брат, – сначала доскажи, чем все это у вас кончилось.
Гордей медленным движением руки пригладил растрепавшиеся волосы:
– Любопытно кончилось. Целую неделю старик при встрече со мной хмуро отворачивался. Я уже потерял всякую надежду, что мы с ним найдем когда-нибудь общий язык. Чувствовалось по всему, что его человеческую гордость я оскорбил до самой глубины. Видно, он и ночей не досыпал, думая о педсовете. И вдруг в один из дней, когда я медленно ковылял домой, услыхал за спиной легкий хруст снега. Сразу подумалось, человек меня догоняет изо всех сил, потому что дышит он тяжело. Оборачиваюсь и вижу седые усы Михаила Васильевича и его поблескивающие очки. «Гордей Игнатьевич, – окликнул меня старик, – остановитесь, пожалуйста, на минутку. Ну и шагаете же вы, целый километр за вами гонюсь». Какая-то добрая беззащитная улыбка тронула его губы. Старик приблизился и положил руку на мое плечо. «Гордей Игнатьевич, вы должны меня простить. Вы преподали мне справедливый, хотя и несколько жестокий урок. Правда часто жестока и нелегко воспринимается тем, кому она адресуется, Я не исключение, потому что тоже поболел и посердился на вас. Вы правы, Гордей Игнатьевич, давайте вашу руку. Видно, я устарел, совсем устарел, если перестал понимать азбучные истины. Ошибся я, неправильно отнесся к этому Мише Белогривову». Кончилось тем, что он завернул ко мне на обед, засиделись мы до глубокой ночи, и с тех пор дружба у нас еще крепче пошла. И пареньку стало лучше, создали ему все условия, хорошо он окончил класс.
Гордей улыбнулся и взглянул на брата.
– Поди, надоел тебе своими рассказами? Давай выпьем все-таки. Отменный коньяк. Надо будет с собой пару бутылок захватить. Одну себе, одну Михаилу Васильевичу, Старик по воскресным дням употребляет рюмочку, говорит, от нее здоровья прибавляет, А в лютые морозы с крепким чаем по старинке пьет.
Павел притронулся к большой тяжелой ладони старшего брата с синими вздутыми жилами.
– Ты меня этим своим рассказом никак не мог утомить. И знаешь почему? У меня в жизни похожее недавно произошло. – Гордей смерил брата внимательным заинтересованным взглядом. Все больше и больше проникаясь к нему уважением, Павел вдруг подумал о том, что вот сидит перед ним человек, которому ничего не утаивая можно все рассказать о своей уязвленной гордости. И он подробно, удивляясь тому, что это получается как-то легко, будто речь идет вовсе не о нем, а о каком-то третьем, мало знакомом ему человеке, поведал о своей размолвке с Глебовым.
– С меня ведь спрос малый, – закончил он с неловким смешком. – Взлетел, покрутился в воздухе и сел. Тут и финита. А ты – учитель, одно слово что стоит. Может, и мне дельное подскажешь?
Гордей скатал хлебный шарик, спросил в упор:
– Стало быть, всерьез поссорились?
– Да нет, – вздохнул младший брат. – Поссорились не то слово. Внешне все осталось, как было. Любезно разговариваем, даже с женами ходим по праздникам в одни и те же компании. Но вот, понимаешь, осталось что-то такое на сердце. Накипь какая-то. Я, разумеется, понимал, что правда не на моей стороне, но мучила другая мысль. Почему Глебов не мог меня поправить по-другому. Ведь мы же старые товарищи. Когда-то в дни войны я сам водил его в боевой полет, спас однажды от «мессера», зашедшего в хвост. Разве во имя дружбы не мог он поступить по-иному, не ставить вопрос так резко.
– Нет, нет, – вдруг прервал брата Гордей и даже застучал тяжелой самшитовой тростью об пол, – о мягкости не может быть и речи, надо бояться этой мягкости, если речь идет о долге. Стал бы Глебов тебя уговаривать мягко, ты бы с ним попросту не согласился. У него характер сильный, но и у тебя не слабее. Вы же, черти, оба летчики! А если бы ты не согласился, то и ошибка осталась бы неисправленной, и человек пострадал.
– Легко судить, – запротестовал Павел, – а мне-то как. Столько лет дружили, и вот… теплота, искренность, где они? Будто кто выкрал. Словно кошка начала меж нами дорогу перебегать и остановилась, а никто ее назад не повернет.
– В этом ты прав, – кивнул Гордей. – Трудно кошку с дороги дружбы заворачивать. Только пойми, что кто-то один из вас должен сделать это первым.
– Он не сделает, – убежденно заметил Павел, имея в виду Глебова. – Он гордый, да и к тому же прав.
– Значит, первый шаг должен сделать ты.
– Ты думаешь? – встрепенулся Павел.
– Не думаю, а уверен, – подтвердил старший брат. – В такой ситуации надо поломать в себе ложный стыд, Павлик. Согласен, что это тяжело бывает. Так же тяжело, как и воздушный бой в небе выиграть. А может, и еще потяжелее.
– Потяжелее, – в тон ему вымолвил Павел. – Самое тяжелое это наступать на самого себя.
– Ну, вот видишь, понятливый ученик, – засмеялся Гордей и, поднявшись, захромал по комнате без своей трости. – Впрочем, тебе виднее: легче или трудней. Ты уже у меня высоко летаешь, тебе и карты в руки.
Он опять подошел к стулу, на котором сидел младший брат, ласково взъерошил ему волосы. Но тот отрицательно покачал головой.
– Нет, Гордей, я ниже тебя летаю. Это ты со своей самшитовой клюкой высоко летаешь на высоте человеческой, – взволнованно проговорил летчик, стараясь не глядеть в упрямые глаза брата. Он чувствовал в глубине души, что новой неизведанной силой наполняет его этот прямой откровенный разговор.
Был уже поздний вечер, когда братья стали прощаться. Павел проводил Гордея до азтобусной остановки, ласково поддерживая его за локоть.
– Слушай, Павлик, – вдруг озорно воскликнул Гордей. – Вот бы сейчас песню сыграть. Ну хотя бы нашу «Рябинушку» уральскую, что ли. А то «С неба полуденного жара не подступись, конная Буденного рассыпалась в степи».
– Что ты, – рассмеялся летчик, – милиционер арестует. Сейчас же борьба за тишину.
– Значит, и про Буденного нельзя?
– Нельзя, и про Буденного.
– И с гармошкой пройти нашей уральской, на клавиши ее подавить?
– Тоже нельзя.
– Жаль. Когда-то и я очень любил с гармонью пройтись по окраине и песню спеть. Придется отложить. Чего доброго, попадешь на стенд с великолепным названием «Они позорят город-курорт».
Гордей еще больше развеселился, снова попытался пройти несколько метров без помощи трости.
– Видишь, как у меня получается. Еще десятка два ванн, и я взапуски со своими школьниками буду бегать.
Подошел большой голубой автобус, и Гордей занял место у окошка.
– Ты же смотри, – крикнул он брату сквозь шум заведенного мотора. – Первое, когда приедешь, протяни руку товарищу.
– Обещаю, – откликнулся Павел, но этого слова старший брат, очевидно, не расслышал, потому что голубой автобус качнулся и быстро проплыл мимо летчика. В освещенном окне Павел в последний раз увидел Гордея, махавшего на прощанье ему рукой. Проводив автобус, Быков медленно побрел по набережной, с наслаждением вдыхая прохладный солоноватый воздух. Покрытое темной летней ночью море с шумом плескалось о песчаный берег. Где-то высоко в звездном небе прогудел самолет, и его два маленьких огонька, зеленый и красный, опять напомнили майору Павлу Быкову о скором возвращении в далекий отсюда город, где базировался его родной полк. И Павел подумал о том, что вскоре и он так же вот высоко пролетит над землей в первом после отпуска учебно-боевом полете в одной паре со своим товарищем Глебовым, вновь и вновь переживая радостное ощущение покоряемой высоты.