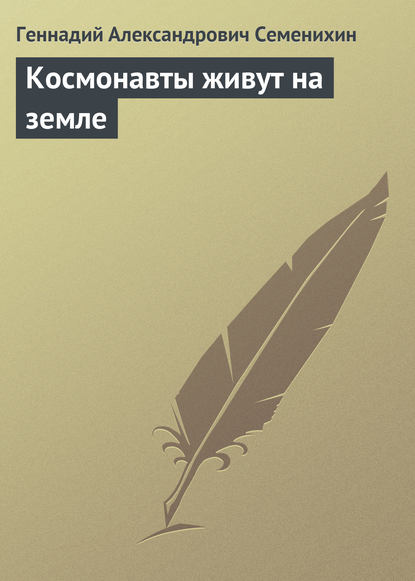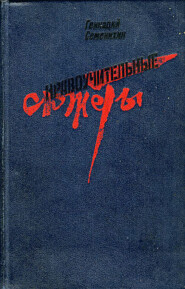По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Космонавты живут на земле
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Работай два. В десять я к тебе наведаюсь.
И ровно в десять, переделав целую кучу разных дел, побывав на занятиях, в дежурном звене, на самолетных стоянках, весь раскрасневшийся от морозного солнца, Кузьма Петрович возвратился к себе в кабинет. Мочалов сидел за столом, молча постукивая пальцами по стеклу. Серые его глаза были озабоченными, брови хмурились. Большая стопка личных дел лежала в стороне, и только два – перед ним. На верхней Ефимков прочел фамилию Горышина.
– Ну что, Сережа? – трубным голосом спросил комдив. – Отобрал кандидатов для беседы?
Мочалов отрицательно покачал головой и ладонью отбросил свисавшие на лоб пряди седеющих волос.
– Нет, Кузьма. Лишь два человека меня заинтересовали из всех представленных: Горышин и Савушкин.
– Как, только два? – удивился комдив. – А остальные? Например, Иванов, командир отличного звена, а Лабриченко, наш снайпер?..
– Так-то оно так, – спокойно согласился генерал. – Я не отнимаю у твоих подчиненных их заслуг. Но пойми, дорогой, очень жестким критерием мне приходится руководствоваться. Восемь из них уже не подходят по двум показателям: рост и вес. Два личных дела я пока задержал. Но понимаешь, Кузьма, хотелось бы более колоритного парня. Чтобы и летная биография была у него поинтереснее и сам он физически посильнее выглядел, чем эти, и к космонавтике бы тянулся.
– Кого же тебе еще порекомендовать? – задумался Ефимков и сел на просторный дерматиновый диван. – Есть тут у нас еще один паренек, да лично я не хотел бы его отпускать. Вот у него так и в самом деле тяготение к космонавтике. Года два назад Гагарин проезжал через его родной город. Так этот парнишка с пакетом к нему пробивался. А в пакете просьба: «Возьмите меня в космонавты, это мое призвание». У нас в дивизии ребята зубастые, «космонавтом» его так и прозвали.
– За этот самый случай? – равнодушно спросил генерал.
– Нет, за другое – за то, что он ночью вместо самолета-цели за звездой погнался.
Глаза Мочалова так и брызнули смехом.
– Это любопытно. А летает он сносно?
– На уровне. Самолет у него в воздухе задымил как-то. Не растерялся парень. Посадил на летное поле. Звание досрочно получил за это от самого маршала.
– А физически как?
– Так ведь жарища во время пожара в кабине, я полагаю, адская была. В обморок не падал. Из самолета на своих ногах вышел, маршалу все чин по чину доложил…
– Смотри какой, – одобрительно кивнул Мочалов. – А еще какие за ним доблести водятся?
– Ты меня, Сережа, будто корреспондент какой расспрашиваешь, – нервно улыбнулся Ефимков, смутно почувствовавший, что Гореловым его друг заинтересовался всерьез. – Больше за ним доблестей вроде никаких. Разве только что живописью увлекается. Знаешь, если бы не авиация, из него профессиональный художник мог получиться. Он у нас домик дежурного звена так разукрасил. Что ни стена – то картина.
Мочалов положил в общую кипу и те два личных дела, которые поначалу лежали отдельно.
– Слушай, друже, ты меня окончательно заинтриговал. Покажи мне эту роспись.
– Поехали, – без особого энтузиазма согласился Ефимков.
Что-то сковывало теперь его речь. Казалось, он был бы не прочь избежать дальнейших расспросов. Мочалов это понял и стал еще настойчивее.
Комдив, кряхтя, уселся за руль и сам погнал «Волгу» через аэродром по скользкой от гололеда дороге к дежурному домику. В пути был мрачен и почти не вынимал изо рта потухшую трубку. Когда командир отдыхающей дежурной пары, завидев генеральские погоны, бросился было докладывать, он за Мочалова сделал резкий нетерпеливый жест, означающий: отставить.
Войдя в домик, Сергей Степанович огляделся по сторонам. Копии веселых охотников на привале и запорожцев вызвали не его губах усмешку, но эта усмешка исчезла, когда он увидел на третьей стене картину будничного летного дня, где с точностью была выписана не только каждая фигура, но и трава, пригнувшаяся от могучего дыхания двигателей, и ромашка в руке у одного из летчиков, наблюдавших с земли за взлетом реактивных машин. А устремившаяся к звездам ракета, оставившая за собой огненный след, еще больше понравилась генералу.
– Как его фамилия?
– Старший лейтенант Алексей Горелов.
– Я что-то не припоминаю его личного дела в той кипе.
– Не было его там, – невесело сказал Ефимков, когда они вышли, – да и зачем стал бы я его рекомендовать? Парень как парень. Ничем не лучше тех десяти.
Пристально посмотрев на своего друга, Мочалов весело расхохотался. Нет, годы явно не повлияли на Ефимкова, он, как и прежде, не умел скрывать решительно ничего: ни своих радостей, ни обид. Генерал готов был биться об заклад, что Ефимков ни за что не хотел отдавать ему Горелова.
– Слушай, друже, а ты все-таки феодал.
– Это отчего же?
– Зачем от меня Горелова прячешь?
– Это что, лобовая атака?
– Считай, что так.
– Только я его вовсе не прячу, – вяло проговорил Кузьма Петрович. – Что он – невеста на смотринах, что ли? Можешь с ним хоть сейчас побеседовать, если имеешь желание.
– Конечно, имею. Мне уже интуиция подсказывает, что это самый интересный кандидат.
Кузьма Петрович с остервенением выбил из трубки пепел и скосил на друга унылые глаза. Ударив себя черной крагой по голенищу сапога, он громко и упрямо воскликнул:
– Не пущу. Не пущу его, и точка.
Они сели в «Волгу». Полковник – за руль, генерал – рядом. Включив для прогрева мотор, Кузьма Петрович рассеянно слушал его гудение.
– Ты пойми меня правильно, Сережа, – сумбурно оправдывался Ефимков, – зачислят его к вашим космонавтам, и будет он там ждать своей очереди. Год, два, пять лет. Ручкой истребителя, гляди, ворочать разучится за это время. А потом оглянется – вроде уже и прошла самая спелая полоса жизни. И космонавтом не стал, и летчиком быть разучился. А у нас он, без обиняков скажу, на широкую дорогу вышел бы. Скоро командовать эскадрильей назначу. Годик-два, и в академию учиться отправим. А оттуда на полк, а то и замом на дивизию. Талантливый, чертяка!
– Так ты же только что уверял меня, что он ничем не лучше других? – заметил насмешливо Мочалов.
Но Ефимков уже входил в раж:
– Э, да это только для присловья было говорено. Горелов – что надо. И потом, как старому другу, тебе откроюсь: он сиротой рос. Понимаешь, жизнь для него с колыбели медового пряника не заготовила. Мать, простая крестьянка, еле-еле читает и пишет. Батька в сорок третьем году в танке сгорел. Горелов еще картину об этом написал. «Обелиск над крутояром» называется. Круча, внизу Днепр бурлит, над обрывом одинокая солдатская могилка. Глянешь – по сердцу мурашки…
Мочалов уже твердо убедился, что его своенравный приятель будет как скала стоять за Горелова. Возможно, и кадровику он дал указание не приносить личного дела этого летчика. И чем упрямее возражал Ефимков, тем все сильнее росло у Мочалова желание поговорить со старшим лейтенантом Гореловым.
Тихонько трогая с места машину, Ефимков оживленно продолжал:
– И еще могу по секрету прибавить, чем дорог мне этот парнишка. Два года он у меня учился, а курсанты были всякие. И отличники, и вчерашние маменькины сынки, и стиляги. Но серьезнее, сдержаннее и умнее не было там у меня парня. Откровенно говоря, иной раз подумаю, он мне вроде родного сына. Никого сейчас так не опекаю. Вот теперь я и высказался, Сережа.
Мочалов искоса посмотрел на друга.
– Так ты что же, – спросил он, пожимая плечами, – полагаешь, что после такой красочной характеристики у меня пропадет желание с ним увидеться?
Ефимков затормозил, давая дорогу маслозаправщику, и, поглядев на генерала широко раскрытыми глазами, умоляюще произнес:
– Сережа, пощади. Откажись от этой беседы!
– Но ты же дал слово, Кузьма! – нахмурился генерал. – Да к тому же, если я побеседую с ним несколько минут, посмотрю медицинскую книжку и личное дело, это еще ничего не означает.