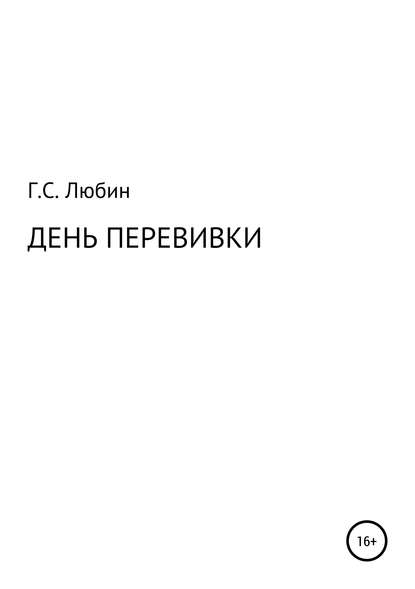По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
День перевивки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
12
Мышонок осторожно пошевелился, проверяя крепость сна Мыша. Свернувшись уютным шаром, тот тихо посвистывал носом. Мышонок отполз в сторону и увидел темное пятно мочи. Мочой пропиталась и шерсть с того бока, на котором он лежал, и этот запах напомнил Мышонку о его слабости. Опираясь на передние лапы – попытка усилия задних все еще отзывалась болью во всем подбрюшье, – он прокрался в другой угол, слегка разгреб опилки и сделал подобие норки.
Не сводя глаз со спящего Мыша, он дотянулся до перловой крупицы и проглотил ее, потом еще одну. Рядом оказалась морковная крошка, и он сжевал и ее. Есть больше не хотелось, но горело внутри и пересохло во рту. Стеклянная сосок бутыли с водой торчала между прутьями решетки совсем рядом с Мышем. Опасность разбудить хозяина клетки был огромной, но еще страшнее была жажда. Медленно-медленно, содрогаясь от ужаса, Мышонок подобрался к соску и прильнул к нему, ощущая, как капельки благодатной влаги стекают по языку. Напившись вволю, он задом дополз до своего угла и перевел дух. Только теперь он почувствовал, насколько измотан. Надо было поспать несколько мгновений, чтобы восстановить силы, и, хотя это было непозволительным риском, он провалился в тревожное забытье…
Ближе к вечеру Ольга принесла ужин – большую горсть комбикорма и столовую ложку творога. Мышонок лежал, свернувшись, в своем углу и наблюдал, как проснувшийся Мыш сладко потянулся, стряхивая опилки, покосолапил к кормушке и долго хрустел ароматными гранулами. Доев их и завершив дело творогом, он долго вылизывался в своем углу, прежде чем уснуть.
Дождавшись полной темноты, Мышонок выбрался в середину клетки и жадно подобрал крошки комбикорма и несколько крупинок творога, затерявшихся среди опилок. Впервые за целый день он ощущал нечто вроде голода, и хотя найденные объедки не принесли сытости, чувство потребности в еде почему-то обрадовало его. «Ничего», – подумал он, вжимаясь в деревянные стружки в поисках тепла, – «ничего…».
13
С утра Николая в лаборатории не было: накопились дела «по индусам». Индийская фармкомпания открыла свое представительство и предложила ему стать региональным боссом. Работа обещала быть выгодной, но, верный здравому принципу «не класть все яйца в одну корзину», он выторговал у индусов разрешение не уходить из лаборатории, чтобы совмещать науку и бизнес. Замысел был, как у Корейко: герой Ильфа и Петрова, как известно, до четырех часов был за Советскую власть, а после четырех – против.
На деле все оказалось куда сложнее: первая мысль при пробуждении была об индусах, а последняя, перед засыпанием – о них же. Чужие деньги – не мыши: не могли ждать ни минуты. Мыши же могли, и приходилось раз за разом откладывать эксперименты, чтобы успеть и с составлением отчета, и с регистрацией лекарств, и с мониторингом рядовых распространителей. Бизнес поглощал всего без остатка, засасывал, довлел…
Управляя машиной, он привычно нашарил глазами часы: время к обеду. Есть не хотелось – частило сердце, поламывало в затылке: перло давление. Подумал – хорошо, что вторник: день перевивки. Значит, Геннадий на месте – отмажет перед шефом, придумает что-нибудь.
Мысли о Геннадии почему-то не уходили. «Интересно, как он болеет», – подумал с любопытством, безуспешно пытаясь вспомнить, когда тот последний раз бюллетенил. Свободной от руля рукой размял затылок, привычно нашарил в кармане таблетку атенолола. «Играется в свои фантазии, как дите, придуривается. Жирная свинья…»
14
Вечера угнетали Зинаиду более всего: они предвещали самое ужасное – секс. Не то чтобы была она бесчувственной или, по-современному, «фригидной». Но страстность в женщине пробуждают мужские ласки, помноженные на время, – а с этим ей не повезло.
От первого супруга она понесла, даже не успев толком понять, что же такое эта так называемая «близость» – похотливая возня или райское блаженство. Потом беременность, трудные роды – как будто они бывают легкими, – выхаживание младенца. Сынок, немного недоношенный, оказался худеньким, слабеньким. Зинаида, забыв себя и белый свет, выкармливала, поднимала, вытягивала в жизнь – и «выкачался» малый каким-то чудом, выкарабкался.
Ценой мамкиной молодости…
Из-за того, что страсть в ней так и не проснулась, годы безмужья переносила Зинаида спокойно, как будто так и уготовано женской природой. Лишь однажды, засыпая за сериалом, – а там постельная сцена, да такая смачная, с чувством, прямо на полу, – ощутила вдруг жар необыкновенный где-то внизу живота и захотелось того же и так же. Рука непроизвольно приникла к промежности и ощутила плоть – свою, но вроде как чужую: набухшую, влажную, горячую. И так стало томно-сладостно, невыразимо приятно – но загремел ключами, входя, сын, и сразу все исчезло. Осталось лишь какое-то непонятное томление в низу живота – тягостное, ноющее, как зубная боль. Зинаида еще долго ворочалась с боку на бок, унимая его, и, наконец, уснула. Утром не помнилось ничего…
Второй муж обрушил на нее всю страсть застоявшегося «без бабы» мужского тела, и Зинаида, подстраиваясь под него, старалась угодить. Тем более, что и требовалось не так много: вовремя томно застонать, чуть подвигать тазом, шепнуть в конце благодарно: «Ко-о-тик…»
И все бы ничего – да время, черт бы его побрал: пришла для мужа пора отставки, пенсиона, невостребованности. Не обученный осмысленному заполнению досуга, – а его никогда и не было, досуга-то: в будни – служба, в выходные – поездки в деревню, – муж занемог безделием. В ненастье он часами сидел перед телевизором; в хорошую погоду спускался во двор и просиживал время с мужиками в таких же, как у него, висящих на коленях «трениках» и шлепках на босую ногу.
У него доставало терпения и желания не уходить до прихода Зинаиды и, заметив ее издали, он махал рукой и торопился навстречу. Потом они подымались к себе на этаж, и в душной тесноте лифтовой кабины Зинаида ощущала исходящий от него дешевый винный перегар. За ужином она укоризненно ему выговаривала, а он не оправдывался, а молча виновато жевал.
Но бывали дни, когда Зинаиду никто не встречал. Не слыша, не реагируя на приветствия завсегдатаев приподъездной скамейки, она взлетала по ступенькам к лифту, на ходу нащупывая вспотевшей рукой ключи. Зная все заранее, она надеялась до последнего мгновения – того самого, когда распахивалась тяжелая дверь и взору открывалось тело мужа, неудобно-неестественно скукоженное на диване. Шибало водочным духом, и, стараясь не шуметь, она проходила на кухню и сидела там, бессильно уронив руки на колени.
Потом она шла в комнату переодеться. Странно, но каким-то шестым чувством ощутив ее присутствие, муж отрывал от подушки лицо с красными, словно от долгой бессонницы, глазами. Приподнявшись на одной руке, хватал ее другой и увлекал на диван, с силой подминая под себя и жадно наваливаясь. Мощь этого звериного порыва, как ни пыталась она внутренне отстраниться, передавалась и ей. И она невольно начинала растворяться в нарастающем возбуждении, разливавшемся по всему телу, – но слышался хриплый, на выдохе, стон, и муж обмякал и затихал удовлетворенно. Она лежала еще некоторое время, вслушиваясь в пульсацию сердца, отдающуюся в свинцово отяжелевшей от крови матке, потом вставала и беззвучно плакала на кухне, не вытирая струившихся слез…
Не так давно в автобусе она услышала разговор двух женщин о чудодейственной иконе с необычным, сказочным названием – Неупиваемая Чаша, – хранимой в подземных катакомбах далекой Псково-Печерской Лавры. Из того, что говорили собеседницы, она поняла главное: икона творит чудеса и исцеляет болящих от пьянства – даже давно и безнадежно. Нужно только добраться и попросить с верою.
Будучи, как все, скорее суеверной, чем религиозной, Зинаида никогда в жизни не помышляла о душе, о другом мире, о Провидении. Но здесь, в переполненном душном автобусе – как проняло вдруг. Прошибло, озарило откровением, и она всю ночь на спала: все думала, думала…
На следующий день она задержалась на работе, дожидаясь, когда Геннадий спустится в «шахту». За долги годы в лаборатории они никогда «по душам» не общались – так только, по службе. Но из всех людей, ее окружавших, этот человек был единственный – она почему-то ни мгновения не сомневалась, – кому можно было довериться, открыться в том, что не для постороннего уха.
Геннадий, как всегда, слушал молча, не перебивая, лишь время от времени устало потирая надбровья. Зинаида вдруг увидела его глаза – обычно бесцветно укрытые за очками, они были небесно-голубыми, такими располагающими, – и волна доверия этому совершенно чужому человеку захлестнула ее.
За окном сгущались сумерки, а Зинаида все говорила и говорила, будто на исповеди, о своей беде и надеждах. Молодые мужчина и женщина, они сидели рядом, совершенно одни, не ощущая ничего обыденного, плотского, земного – словно брат и сестра…
15
То ли от постоянного напряжения, то ли что-то происходило с организмом, но дни после перевивки дались Мышонку очень мучительно. Он чувствовал, что все больше слабеет. Особенно угнетал недосып – ночь была единственным промежутком, когда была возможность подобрать хоть какую-то еду, оставшуюся от Мыша. Этих крох не хватало, но спать хотелось больше, чем есть. У Мышонка все время кружилась голова и все расплывалось перед глазами. Отчаянно хотелось ткнуться носом в опилки и забыться. Но он твердо знал: спать нельзя. Во сне он беззащитен. Значит, сон – это смерть.
За это время он хорошо изучил повадки Мыша. С приходом Ольги тот просыпался, съедал положенное им двоим и неспешно вылизывался. Завершив туалет, он немного прогуливался вдоль бортиков клетки – ужасающий момент, когда Мышонок забивался в угол и просто умирал со страху, – потом прислушивался к шумам соседей и пытался рассмотреть их через прутья. Наконец, ему это наскучивало, и, взглянув напоследок на Мышонка, он устраивался на предобеденную дрему. К концу дня он снова был на ногах, чтобы съесть принесенный Ольгой ужин. Деловито хрустя комбикормом, он зловеще косился в сторону Мышонка, и у того от ужаса стыла кровь.
Мышонок всем нутром чувствовал: до тех пор, пока он способен держаться на ногах, Мыш его не убъет: скорее не из жалости, а из-за лени, необходимости лишнего движения. Громадные порции еды, поглощаемые Мышем, явно начинали сказываться, и с каждым днем чудище двигалось по клетке все тяжелей и одышливей.
16
Странным было то, Мыш толстел не равномерно всем туловищем, но как-то нездорово, неестественно – в основном, животом. Мышонок много раз видел расплывшихся от жира и возраста сородичей, но в их отяжелевших фигурах все равно сохранялось какое-то изящество, звериная грация, элегантность движений. У Мыша было все не так: он неумолимо превращался просто в ожиревше-отечный меховой шар, неспособный к мало-мальски быстрому движению. И еще – глаза: взгляд Мыша, свирепость которого прежде подчеркивали налитые кровью глаза, все более тускнел, словно подернутый осоловелой пленкой равнодушия.
К исходу второй недели он уже не вставал из своего угла. В клетке было неопрятно из-за горы перловки и комбикорма, накопившихся за последний день: Мыш есть уже не мог, а Мышонок, наученный довольствоваться малым, на большее не претендовал.
Всякий день Геннадий заходил в мышиный бокс и подолгу стоял над клеткой Мышонка.
– А доходяга ничего, кажется, выжил – заметила как-то Ольга, раскладывая батоны.
– Выжить-то выжил, да чего-то не толстеет никак… – задумчиво обронил Геннадий и ушел. Ольга наклонилась над клеткой, присмотрелась, пожала плечами: точно, шельмец, не толстеет!..
17
С утра во вторник Геннадий появился в боксе раньше обычного. Деловито достав Мыша – тот повис на хвосте безжизненным мешком головой вниз, – перенес его в отдельную клетку.
– Будешь вскрывать? – спросил кто-то из сотрудников.
– Да, пора уже, до вечера не дотянет…
Потом долго и пристально смотрел на Мышонка. Опухоль – неудержимо агрессивная, беспощадная карцинома Эрлиха – явно не прижилась. Не выросла. Издохла.
И это ошеломляло.
Почувствовав взгляд человека, зверек выбежал из угла на середину клетки, встал на задние лапы и, ухватившись передними за прутья решетки, повис на них, раскачиваясь, как на брусьях. Казалось, он очень хочет сократить дистанцию, приблизиться, как будто что-то рассказать.
Геннадий снял с клетки алюминиевую бирку, извлек из нее старую этикетку и, смяв, бросил в урну. Достав из кармана чистый лист бумаги и сложив его вчетверо, написал аршинными буквами: «НЕ ТРОГАТЬ. ЖИВОТНОЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ».
– Держись, братец. Живи!..
Почему-то не уходил, наблюдал. Мышонок просунул кончик морды между прутьями и замер. Черные живые бусины смотрели на Геннадия, и глаза человека и животного встретились. Некоторое время они вглядывались друг в друга, не шелохнувшись.
Мышонок вдруг встрепенулся, засуетился – из коридора послышалось тяжелое шарканье разношенных шлепанцев. Приближалась раздача батонов, и надо было подготовиться…
.