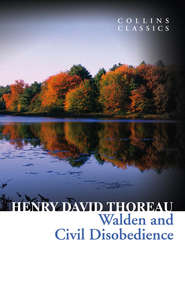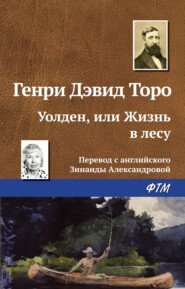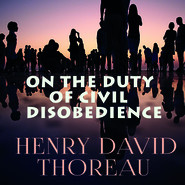По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Уолден, или Жизнь в лесу
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пруд, покрытый зимним льдом, склоняет Торо к особо внимательному наблюдению. Как тщательному изучению весеннего таяния снегов, так и побуждению тщательно рассмотреть зимнее замерзание пузырьков воздуха – «узких, продолговатых, перпендикулярных льду, около полудюйма в длину, острых конусов, направленных остриями вверх». Во время оттепели они расширялись и сливались, «часто напоминали серебряные монеты, высыпанные из мешка, лежащие друг на друге». В конце фразы он поднимает свое почти ничтожное исследование «бесконечного числа крошечных пузырьков» до звучного вывода: «Они – словно маленькие духовые ружья, стреляющие в лед, чтобы он трескался и ухал». А потом быстро переходит на другую тему – тайну микроорганизмов, когда спрашивает: «Почему вода в ведре быстро тухнет, а замороженная всегда остается свежей?» Как бы то ни было, этот вопрос растворяется в сухой шутке: «Поговаривают, что в том и есть отличие между страстями и разумом».
Как строительство железных дорог открывает новую геологию, так и рубка льда для хозяйственных нужд зимой 1846–1847 годов дает Торо новые возможности для изучения. Он замечает различия в его оттенках так же точно, как его современник, художник-пейзажист Фредерик Эдвин Черч, переносивший на холст айсберги. В начале 1846 года Торо осознал, какие возможности дает замерзший Уолденский пруд для проведения значимых исследовательских работ. «При помощи компаса, цепи и эхолота», пробивая дыры по прямым линиям в разных направлениях, он зондирует глубину, представляя читателю нарисованную карту пруда в масштабе «40 родов на дюйм», а также схему дна. Долгое время ходили слухи, что пруд бездонен: «Удивительно, сколько еще люди будут верить в бездонность пруда, не удосужившись измерить его глубину». Землемер с гордостью объявляет: «Но могу заверить своих читателей, что у Уолдена достаточно твердое дно, а глубина хоть и необычно велика, но совсем не поразительна». Пруды мельче, чем мы себе представляем: «Большинство прудов, если их опустошить, станут лугами, не глубже тех, что мы часто видим». Большинство загадок в точности так же являются плодами отсутствия попыток терпеливого научного изучения. Те, кто впервые читают «Уолден», могут быть удивлены тем, насколько большая часть его энергии посвящена эмпирическому исследованию и выявлению. Романтичный служитель природы носит изысканные очки, более подобающие Франклину и философам. Цель Торо – примирить нас, после веков смутного человеческого эгоизма, с Природой как она есть, безжалостной и беспощадной. Необходимо, чтобы нас призвали из коллективных удобств и иллюзий деревенской жизни.
«Нам нужен стимул дикой природы… Природы никогда не будет достаточно. Нас должна наполнять силами демонстрация ее неистощимой силы, могущества и титанических возможностей… Нам надо быть свидетелями того, что есть что-то, выходящее за границы обыденности. Что какая-то жизнь свободно пасется там, куда мы никогда не зайдем. Нас веселит, когда мы наблюдаем стервятника, питающегося падалью. Она вызывает у нас отвращение и уныние, он же получает от такой пищи здоровье и силы».
Торо рассказывает, что на тропе к его домику лежала дохлая лошадь, чей запах его отталкивал, но приободрял тем, что «она придавала уверенности в хорошем аппетите и несокрушимости бытия». Видение «Природы с окровавленными клыками и когтями», вызывавшей сожаление у Теннисона и других христиан Викторианской эпохи, лишь воодушевляло отшельника: «Мне нравилось видеть, что Природа настолько изобилует жизнью, что может позволить себе пожертвовать несметным числом существ, охотящихся друг на друга. Ее нежные создания могут так невозмутимо стираться с лица земли, словно их и не было никогда, – например, головастики, которых глотают цапли, или черепахи и жабы, раздавленные на дорогах. Иногда она проливает целые дожди из плоти и крови. При таком обилии случайностей не стоит придавать им значения. Мудрец может подумать, что Вселенная непорочна. Ведь яд не ядовит, и ни одна рана не смертельна. Но сочувствия весьма шатки…»
Он, некоторым образом, провозглашает смертную основу нашего органического существования и при этом требует не только принять мироздание, как предлагает другой представитель трансценденталистов, Маргарет Фуллер, но и ликовать в нем.
Собственную смерть (от туберкулеза, в возрасте сорока четырех лет) Торо встретил с безмятежностью, восхитившей большинство жителей Конкорда. Известны его слова тем, кто пытался подготовить умирающего к переходу в иное состояние: «Мир един в моменте». Он не совсем отрицал бессмертие души. Некоторые его фразы допускают такую возможность, и рядом с приведенными выше фразами писатель вспоминает, как «дикая речная долина и леса купались в таком чистом и ярком свете, что пробудил бы и мертвых». И делает вывод: «Не может быть более убедительного доказательства бессмертия. В таком свете все должно жить». Хотя его значение не совсем ясно, можно считать это всплеском животного оптимизма после длиннейшего, реалистичного восторжения природой, как химической, молекулярной и математической конструкцией. Природа удержана в крепких руках науки и лишена антропоморфизма даже в замысловатой форме, выраженной неоплатонизмом Эмерсона.
Больше никакого идеализма, никаких платонических форм, никаких блестящих архетипов, существующих независимо от отдельных вещей. «Нет идей вне вещей», – скажет в следующем веке Уильям Карлос Уильямс, подарив девиз модернизму. Поэзия Уильямса, Элиота и Паунда показывала, что вещи, пусть даже собранные фрагментарно и образно, без выписанных эмоциональных и логических связок, придают живость языку и непосредственность связке писателя с читателем. Нас до сих пор восхищает именно «вещизм» прозы Торо, неуемная энергия, с которой он перескакивает от детали к детали, от образа к образу, в то же время влача некоторую часть метафизического бремени трансцендентализма. Без этого бремени, которое заметно легче в посмертно изданных работах «Леса Мэна» и «Кейп-Код», он удерживается в шаге от звания внимательного и красноречивого автора травелогов. Однако хаотическая, окутанная туманами вершина горы Ктаадн – «сырье планеты, сброшенное из невидимой каменоломни» – и обломки судов, и перекрученные ветром яблони Кейп-Кода позволяют нам почувствовать метафизический трепет человека, столкнувшегося в лице безжалостной природы с образом чего-то гнетущего внутри самого себя и очищающего одновременно.
Последние годы жизни Торо, когда взгляды аболиционистов и рабовладельцев дошли до настойчивых предзнаменований кровавой войны, были отмечены (и даже заслужили печальную славу) его пылкой поддержкой налетчика Джона Брауна, с которым он коротко встретился в Конкорде и нашел его «весьма здравомыслящим человеком, вдумчивым и практичным», обладающим «тактом и благоразумием», а также спартанскими привычками, к тому же питающимся скудно, как солдат. Миролюбивый Торо превозносит этого мрачного убийцу по практичной причине: Браун предпринимает действия, жестокие действия против санкционированного насилия рабовладельческого государства:
«Это был его личный принцип, что у человека есть признанное право применить насилие к рабовладельцу с целью спасти раба. Я согласен с ним… Я не хочу ни убивать, ни быть убитым, но предвижу обстоятельства, при которых оба этих события стали бы неизбежными. Мы сохраняем так называемый мир в нашем обществе, ежедневно совершая мелкое насилие».
Взгляды Торо роднят его с революционерами 1960-х. За установленным порядком он видел насилие, за частной собственностью – порабощение, а за газетными «новостями» – сейчас это шире распространено, чем сорок лет назад – личное мнение. «Обман и иллюзии принимаются за чистейшую правду, в то время как действительность кажется вымышленной». Слово «реальность» многократно повторяется в «Уолдене»: «Возьмемся за себя, начнем работать и протиснем ноги через грязь и тину мнений, предубеждений, традиций, иллюзий и видимости… пока не доберемся до твердого дна и лежащих на своем месте камней, которые сможем назвать реальностью… Мы жаждем только реальности, будь то жизнь или смерть. Если мы действительно умираем, пусть услышится хрип в наших глотках и почувствуется холод в конечностях. Но если живы, займемся своим делом».
Темному безбрежью безразличия материальной Природы мы можем противопоставить только краткий свет своей осознанности, подобно лампе в хижине. Пробуждающее благословение «Уолдена» заставит нас почувствовать, что это честная борьба на равных. Соединенные Штаты 1850 года, с населением двадцать три миллиона человек, были достаточно маленькой страной, чтобы воспринимать их единым целым. Хотя Торо и был знаменит своей одиночной жизнью в лесу, словно Мелвилл – «человек среди каннибалов», он слыл общительным. Когда писатель в 1856 году навещал своих друзей, семью Лумис из Кембриджа, ему вручили новорожденную Мейбл Лумис, и в этот неловкий момент он держал ее головой вниз.
Потом она прославилась как первый редактор поэзии Эмили Дикинсон, а в двадцатом веке – как главный пример сексуально удовлетворенной и свободной викторианской женщины в социально-историческом романе Питера Гэя «Нежная страсть». В 1852 году Торо, будучи уже знакомым с большинством писателей Новой Англии, посетил комнату Уолта Уитмена в Бруклине, где тот жил в неряшливой обстановке со своим слабоумным братом. Хотя у них были разные мнения относительно обывателя – Уитмен позже определил янки как обладающих «чрезмерно обостренным чувством высокомерия», а Торо заявил о стихах некоторых нью-йоркских поэтов как о «мягко говоря, нехороших, просто чувственных… словно это слова животных» – оба произвели друг на друга приятное впечатление. «Он замечательный человек», – написал Торо об Уитмене в письме, а о сборнике его стихов – «В целом они кажутся мне очень смелыми и американскими, за некоторым исключением. Я не верю, что все произнесенные проповеди, даже вместе взятые, сравнимы по силе наставлений».
Со временем «Листья травы» и «Уолден» стали двумя великими свидетельствами американского индивидуализма, заверяя Новый Свет, которому всегда не хватало уверений в ценности, силе и красоте свободной личности.
Джон Апдайк
Май, 2003 г.
Хозяйство
Эти страницы – точнее, большая их часть – написаны в лесу, в миле от любой живой души, в доме, построенном мною на берегу Уолденского пруда, в городке Конкорд, штат Массачусетс. Пропитание добывалось исключительно собственным трудом. Так я прожил два года и два месяца. А теперь снова вернулся на время к цивилизованной жизни.
Я не стал бы посвящать читателей во все подробности моей жизни, если бы не настойчивые расспросы земляков, интересующихся моим бытием. Кто-то счел бы их неуместными, но мне они таковыми не кажутся. А учитывая обстоятельства, они более чем естественны и уместны. Некоторые спрашивали, чем я питался, не страдал ли от одиночества, не боялся ли и тому подобное. Других интересовало, сколько жертвовалось на благотворительность. А многодетные любопытствовали, скольких бедных детишек я содержал. Так что прошу прощения у тех читателей, кому безразлична моя персона, если попытаюсь ответить на подобные вопросы в книге. В большинстве их повествование не ведется от первого лица, и местоимение «я» опускается, но здесь оно сохранится. И это будет главным отличием от прочих писателей, если говорить о собственном эго. Мы склонны забывать, что рассказ обычно ведется от первого лица. Я не говорил бы о себе так много, если б знал кого-то, как себя самого. К сожалению, недостаток опыта вынуждает ограничиться самоописанием. Со своей стороны, я жду от каждого автора простого и честного рассказа о собственной жизни, а не сплетен о других. Пусть пишет, словно родным из дальних краев, ведь если эти истории реальны, то непременно произошли за тридевять земель.
Пожалуй, эти страницы адресованы в основном бедным студентам. Остальные читатели могут удовлетвориться тем, что им близко. Никто, надевая пальто, не старается порвать его по швам, ведь оно может кому-то подойти по размеру.
Я должен кое-что сказать. Это касается не столько китайцев или обитателей Сандвичевых островов, сколько вас, читающих эти страницы, – то есть жителей Новой Англии. Кое-что об условиях вашей жизни – в особенности внешних условиях или обстоятельствах – в этом городе, как и любом другом. Неизбежна ли их сегодняшняя убогость, можно ли их улучшить или нет. Я немало ходил по Конкорду, и везде – в лавках, в конторах, в полях – мне казалось, что местные жители накладывают на себя епитимью тысячами разных способов. Я слышал об индийских браминах, восседающих меж четырех костров и смотрящих прямо на солнце. А иногда висящих вниз головой над пламенем или смотрящих в небеса через плечо, «пока не утрачивается возможность вновь принять естественное положение, а через искривленную шею в желудок не лезет ничего, кроме жидкостей». Я слышал о пожизненно самоприкованных цепью у подножия дерева, или измеряющих своими телами, подобно гусеницам, просторы обширных империй, или стоящих на одной ноге на вершине столба. Но даже эти формы сознательного самобичевания вряд ли более невероятны, чем сцены, наблюдаемые мной ежедневно. Двенадцать подвигов Геракла пустячны по сравнению с теми, что совершали мои соседи. Ведь их всего двенадцать, и каждый был конечен. Но эти люди из Конкорда никак не прогонят и не захватят в плен чудовище, и не закончат тяжкий труд. У них не было сподвижника Иолая, прижигающего раскаленным железом шею, с которой только что слетела голова гидры, чтобы на этом месте не выросло две новых.
Я вижу юношей, живущих в моем городе и имеющих несчастье унаследовать фермы, дома, амбары, скот и сельскохозяйственный инвентарь. Все это легче получить, чем потом избавиться. Им было бы лучше родиться в чистом поле и вскормиться волчицей – тогда яснее представляешь, какая пашня ждет твой плуг. Кто сделал их рабами земли? Почему они должны батрачить на своих шестидесяти акрах, когда человек обречен за жизнь съесть лишь пригоршню грязи? Почему, едва появившись на свет, они роют себе могилы? Им приходится жить навьюченными всем скарбом, как бы ни было это тяжело. Я встречал множество бессмертных душ, почти раздавленных и удушенных своим тяжким бременем. Ползущих по дороге жизни, волоча амбар размером семьдесят пять на сорок футов, свои Авгиевы конюшни, которые никогда не будут вычищены, и в придачу сотню акров земли – пашню, покос, пастбище и лесную делянку! Те же, кто не вписан в завещание, лишены ненужной обузы и обслуживают всего нескольких кубических футов собственной плоти, находя это вполне достаточным.
Но люди жестоко заблуждаются. Душа человеческая обречена лечь в землю и превратиться в компост. Воображаемая судьба, обычно называемая необходимостью, заставляет, согласно одной старой книге, копить сокровища, какие обязательно попортят моль и ржавчина, или украдет вор. Жизнь сия глупа, и они поймут это в конце ее, а то и раньше. Говорят, что Девкалион и его жена Пирра создали эллинов, бросая за спину камни:
Inde genus durum sumus, experiensque laborum,
Et documenta damus qua simus origine nati[1 - Следовательно, мы – выносливый народ, испытываем лишения и доказываем свое происхождение, от которого мы произошли на свет.].
Или, как написал поэт Рэли в своей звучной манере:
С тех пор наш род жестокосердный,
терпящий боль и заботы,
Доказывает, что плоть – из камня.
Не стоит слепо повиноваться глупому оракулу, бросающему за спину камни не глядя.
Большинство людей невежественны, даже в нашей сравнительно свободной стране. Они настолько заняты надуманными делами и чрезмерно тяжким трудом, что не успевают попользоваться лучшими дарами жизни. Непосильная работа скрючила их пальцы и вогнала в дрожь. Получается, что трудяга не способен раскрыть полноту своей натуры. Он не может вести себя искренне с людьми, иначе его труд упадет в цене. У него нет времени на то, чтобы не быть просто машиной. Как он может помнить о своем невежестве (а это крайне необходимо для развития), если все время практикуется? Мы должны время от времени бесплатно кормить и одевать его, принимать от всего сердца, прежде чем судить о нем. Лучшие свойства нашей натуры, подобно румяным яблокам, могут сохраняться только при бережном обращении. Но мы не относимся трепетно ни к себе, ни к другим.
Как известно, некоторые из нас бедны. Им трудно жить, иногда, фигурально выражаясь, еле переводя дух. Иногда читающие эту книгу не способны заплатить за обед или сменить изношенную одежду. Тратят на чтение взятое взаймы или украденное время, чтоб хотя бы на часок позабыть о своих кредиторах. Совершенно очевидно, какой жалкой и нелепой жизнью они живут – знакомо по опыту. Вы всегда на пределе, пытаетесь стать бизнесменом и избавиться от долгов, которые издревле были пучиной, называемой римлянами aes alienum, «чужая медь», по металлу их монет. Живете и умираете, вас хоронят на эту чужую медь. Всегда обещаете заплатить, обещаете заплатить завтра, но умираете сегодня, по уши в долгах. Ищете, как выслужиться, как втереться в доверие любым способом, лишь бы не противозаконным, чтобы не попасть в каталажку. Обманываете, льстите, голосуете, покрываетесь скорлупой вежливости или напускаете вид тонкого и туманного великодушия, лишь бы убедить соседа заказать у вас обувь, шляпу, верхнюю одежду, бакалею или экипаж. Наживаете болячки, чтобы отложить запас на случай болезни, спрятать его в старом комоде, в потаенной щели или, для сохранности, в кирпичном здании банка. Не важно куда, не важно, много или мало.
Удивительно, насколько мы бываем легкомысленными, придавая столько внимания чуждой нам форме порабощения, называемой «рабством негров». При том, что и север, и юг заполонены множеством видов жестокого рабства. Тяжело иметь южного надсмотрщика, а северного – еще тяжелее. Но хуже, если ты сам себе надсмотрщик. И еще рассуждают о божественной природе человека! Посмотрите на возницу, что тащится по дороге на рынок днем и ночью. Разве в нем есть что-то божественное?
ЭТИ СТРАНИЦЫ – ТОЧНЕЕ, БОЛЬШАЯ ИХ ЧАСТЬ – НАПИСАНЫ В ЛЕСУ, В МИЛЕ ОТ ЛЮБОЙ ЖИВОЙ ДУШИ, В ДОМЕ, ПОСТРОЕННОМ МНОЮ НА БЕРЕГУ УОЛДЕНСКОГО ПРУДА, В ГОРОДКЕ КОНКОРД, ШТАТ МАССАЧУСЕТС.
ПРОПИТАНИЕ ДОБЫВАЛОСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СОБСТВЕННЫМ ТРУДОМ. ТАК Я ПРОЖИЛ ДВА ГОДА И ДВА МЕСЯЦА.
А ТЕПЕРЬ СНОВА ВЕРНУЛСЯ НА ВРЕМЯ К ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЖИЗНИ.
Его высшее предназначение – кормить и поить своих кляч! Что для него собственная судьба в сравнении с торговыми интересами? Стремится ли к тому, чтобы стать сквайром, вызывающим ажитации? Насколько подобен богу, насколько бессмертен? Посмотрите, как трепещет и подхалимничает, как неосознанно и вечно чего-то боится, не будучи ни бессмертным, ни божественным, но рабом и узником собственного мнения о себе, славы, заслуженной собственными деяниями. Общественное мнение – вовсе не тиран по сравнению с нашим самомнением. Именно то, что человек думает о себе, определяет или даже предопределяет его судьбу.
Найдется ли аболиционист Уилберфорс, помогающий самоосвобождению даже на Карибских островах фантазии и вест-индского воображения? А наши дамы до смертного дня вышивают подушечки и не подают ни малейших признаков интереса к своей судьбе. Словно убивают время, не поранив вечность.
Множество людей живет безнадежно. То, что зовется смирением, на поверку лишь вынужденное отчаяние. Из отчаявшегося города вы уезжаете в отчаявшуюся деревню, где утешаетесь бесстрашием норок и ондатр. Устоявшаяся, но неосознанная отчаянность выражена даже человеческими играми и развлечениями. В них нет радости, ведь они случаются только после работы. Но мудрость не допускает отчаянных поступков.
Когда мы размышляем над тем, что катехизис определяет главной целью человека и его истинными потребностями, кажется, что люди умышленно выбрали обычный образ жизни, потому что предпочли его любому другому. На самом деле они искренне убеждены, что выбора нет. Но смышленые и здоровые натуры помнят восход солнца на чистом небе. От предубеждений никогда не поздно отказаться. Ни одному образу мыслей или образу действий, даже самому древнему, нельзя доверять безоглядно. То, что сегодня твердится или принимается за истину, завтра окажется ложью, легким дымком мнений, уверенно принятым за тучу, должную пролить благодатный дождь на поля. Старики уверяют, что вы не сможете исполнить задуманное, а вы пробуете – и оказывается, что можете. Потому старые дела – для стариков, новые – для молодых. Предки когда-то не обладали знаниями, чтобы добыть топливо для костра, а потомки кладут сухие дрова под котел и мчатся вокруг земного шара со скоростью птиц, что убило бы предков. В качестве наставника старость не лучше, а хуже юности, ведь она утратила намного больше, чем приобрела. Не уверен даже в том, что мудрейший человек, прожив свою жизнь, понял хоть что-то о ее безусловной ценности. У стариков нет ни одного важного совета молодым, ведь их собственный опыт чрезвычайно ограничен, а их жизни стали полным провалом – как они уверены, по уважительным причинам. Возможно, у них сохранились остатки веры, противоречащей этому опыту, а они просто не так молоды, как были. Я прожил на этой планете около тридцати лет и до сих пор не услышал от старших мало-мальски ценных или хотя бы искренних советов. Они не сказали и уже не скажут ничего по существу. Моя жизнь – огромный опыт, еще не испытанный, но проку в том, что они его уже испытали, нет. Если у меня и есть опыт, который я считаю ценным, мои наставники точно ничего об этом не говорили.
Один фермер разглагольствует: «Нельзя жить только на растительной пище, потому что она не дает питания костям». И он добросовестно посвящает часть дня снабжению своего организма строительным материалом для костей. Меж тем, пока говорит, идет за быками, чьи кости взрощены на травянистой пище, и они тащат его вместе с тяжелым плугом через все препятствия. Некоторые вещи на самом деле необходимы только в определенных кругах, самых беспомощных и ущербных, в то время как в других они – предметы роскоши, а в прочих и вовсе неизвестны.
Кому-то кажется, что вся человеческая жизнь изучена предками, – и высоты, и низины, – и они обо всем позаботились. По словам Ивлина, «мудрый Соломон указывал даже нужные расстояния между деревьями, а римские преторы решали, как часто вы можете заходить на землю соседа для сбора желудей, упавших на нее, чтобы это не считалось нарушением права владения, и какая доля ему принадлежит». Гиппократ оставил указания, как мы должны стричь ногти: вровень с кончиками пальцев, не короче и не длиннее. Несомненно, сами скука и уныние, истощающие разнообразие и радости жизни, восходят к Адамовым временам. Но человеческие способности не измерены, и невозможно судить человека по делам его предков – так мало всего было испробовано. Какими бы ни были до сего времени твои неудачи, «не огорчайся, дитя мое, ибо кто может установить, что ты не сделал?».
Мы можем исследовать наши жизни тысячами простых испытаний. Представить, к примеру, что солнце, дарующее урожаю бобов зрелость, одновременно освещает целую планетарную систему. Если бы я помнил об этом, то избежал бы некоторых ошибок. Это не просто свет, при котором я работаю мотыгой. Ведь звезды – вершины чудесных треугольников! Представьте, сколько далеких живых существ в разных уголках Вселенной одновременно размышляют об одном. Природа и человеческая жизнь столь же многообразны, как устройство наших тел. Кто может описать возможности другого человека? И может ли быть большее чудо, чем на мгновение взглянуть на жизнь по-иному? Мы могли бы за один час побывать во всех эпохах мира и во всех мирах эпох. Нет опыта столь увлекательного и познавательного, включая историю, поэзию и мифологию.
Большую часть из того, что мои соседи называют хорошим, я в глубине души считаю плохим, и если я в чем-то раскаиваюсь, то, скорее, в своем хорошем поведении. Какой дьявол внушил мне благонравие? Вы, старик семидесяти лет небесславной жизни, можете высказать мне глубочайшую мудрость, но я слышу настойчивый внутренний голос, и он требует держаться подальше от ваших советов.
Одно поколение отказывается от затей предыдущего, как от севших на мель кораблей.
Думаю, мы можем намного больше доверяться жизни. Отказаться от части заботы о себе и искренне даровать ее другим. Природа приспособлена к нашей слабости, как и к силе. Беспрестанная тревога и напряжение у некоторых превратились в форму болезни, почти неизлечимую. В наших привычках преувеличивать важность своей работы. «И сколько же еще не сделано! А что, если захвораешь?» – вот насколько мы насторожены. Решив не жить верой, если можно ее избежать, весь день проводим в тревоге, а вечером нехотя читаем молитвы и обрекаем себя на неопределенность.
Мы настолько полностью и бесхитростно подчинены жизни, что почитаем ее и отрицаем возможность изменений. Утверждаем, что это единственный путь. Но ведь путей столь много, сколько радиусов, идущих из центра окружности. Любое изменение есть чудо, требующее размышлений, но именно чудеса происходят каждый момент. Конфуций сказал: «Истинное знание состоит в том, чтобы знать, что мы знаем то, что знаем. И не знаем того, чего не знаем». Предположу, что, если хоть один человек уразумеет доступное лишь воображению, остальные построят на этом свои жизни.
Давайте на минуту задумаемся о том, с чем связана большая часть упомянутых тревог и забот и насколько необходимо тревожиться или заботиться. Есть некоторые преимущества в простой сельской жизни, даже посреди внешней цивилизации. Хотя бы для понимания, что на самом деле необходимо и как можно это получить. Полезно просмотреть старые торговые книги и узнать, что люди обычно покупали в лавках, что запасали. То есть выяснить самые необходимые продукты. Ведь все современные усовершенствования почти не влияют на основные законы существования и наши скелеты наверняка не отличаются от скелетов наших предков.
Между тем под «предметами первой необходимости» я подразумеваю добываемые человеком с самого начала или ставшие после долгого использования настолько нужными, что лишь немногие (да почти и никто) пытаются обойтись без них, будь то из-за невежества, бедности или согласно мировоззрению.
В этом смысле существует только один предмет первой необходимости – Пища. Для бизона в прерии – несколько дюймов вкусной травы и вода, чтобы напиться, если только он не ищет Кров в лесу или в тени горы. Ни одному из животных не требуется большего, чем Пища и Кров. Предметы первой необходимости для человека в нашем климате можно довольно точно распределить на несколько групп: Пища, Кров, Одежда и Топливо; ведь без этого мы не готовы свободно и успешно решать истинные проблемы. Человек изобрел не только дома, но и одежду, и приготовленную пищу. Благодаря случайно обнаруженному теплу огня и его использованию, бывший поначалу роскошью, обогрев постепенно перерос в насущную необходимость. Мы видим, как коты и собаки приобретают ту же вторую натуру. Благодаря должным Крову и Одежде мы по праву сохраняем собственное внутреннее тепло. Но при избытке Топлива, когда внешнее тепло превышает наше внутреннее, возможно приготовление пищи. Натуралист Дарвин рассказывает об обитателях Огненной Земли: в то время, когда его партия, состоящая из хорошо одетых людей, жалась к огню, дрожа от холода, обнаженные дикари, сидевшие поодаль от огня, к его величайшему удивлению, «обливались потом, словно поджариваясь». Как нам рассказывают, обитатель Новой Голландии свободно ходит обнаженным, когда европеец дрожит от холода в своей одежде. Нельзя ли сочетать закаленность дикарей с умом цивилизованного человека? По мнению ученого Либиха, человеческое тело – печь, а пища – топливо, поддерживающее внутреннее горение в легких. В холодную погоду мы едим больше, в теплую – меньше. Жизненное тепло есть результат медленного горения, а болезнь или смерть наступают, когда пламя слишком быстрое, или гаснет из-за нехватки топлива, или из-за какого-то дефекта тяги. Конечно, жизненное тепло нельзя путать с пламенем, но аналогия верна. Из вышеизложенного следует, что выражение «животная жизнь» почти синонимично выражению «жизненное тепло». Ведь Пищу можно считать топливом, поддерживающим огонь внутри нас, а Топливо тратится лишь на приготовление этой Пищи или увеличение тепла наших тел извне. Кров и Одежда также служат сохранению тепла, создаваемого и поглощаемого.
Итак, главнейшая потребность наших тел – сохранять тепло, жизненное тепло внутри. Не зря мы суетимся вокруг Пищи, Одежды и Крова, а также постелей – нашей ночной одежды. Разоряем птичьи гнезда и выщипываем пух с грудок птиц, чтобы приготовить этот кров внутри крова – как крот, чья постель из травы и листвы находится в самой глубине норы! Бедняк имеет обыкновение жаловаться на холодный мир; и именно холодом, не только социальным, но и физическим, объясняется большая часть наших страданий. В некоторых широтах лето дает человеку возможность райской жизни. Топливо, за исключением нужного для приготовления Пищи, в это время не нужно. Солнце греет вовсю, и многим плодам, для того чтобы стать пригодными в пищу, достаточно его лучей. Пища там в целом более разнообразна и ее легче добыть, а Одежда и Кров нужны меньше или не нужны вовсе.
В наши дни и в нашей стране, как я могу судить по опыту, в предметы первой необходимости входят некоторые орудия: нож, топор, лопата, тачка и тому подобное, а для занимающихся наукой – лампа, канцелярские принадлежности и несколько книг, но их можно приобрести почти за бесценок. Хотя некоторые, поступая неразумно, отправляются на другую сторону земного шара, в варварские и пагубные для здоровья регионы, и на десять – двадцать лет посвящают себя торговле с тем, чтобы просто жить – другими словами, сохранять в себе комфортное тепло – и умереть в Новой Англии. Обладающие несметным богатством поддерживают не просто комфортное тепло, а противоестественный жар. Как я изложил выше, они, несомненно, приготовлены ? la mode.
Большинство предметов роскоши и многие из так называемых жизненных удобств не только не нужны, но и, несомненно, мешают развитию человечества. Касательно роскоши и комфорта, мудрейшие всегда жили более простой и скромной жизнью, чем бедняки. Древние китайские, индуистские, персидские и греческие философы были классом, беднее которого нет, если говорить о внешнем богатстве, но богаче которого быть невозможно, если говорить о внутреннем. Мы знаем о них не так много. Примечательно то, что мы знаем о них хотя бы то, что знаем. Это же касается более современных реформаторов и меценатов. Никто не может быть беспристрастным или мудрым наблюдателем человеческой жизни, если только не находится на той возвышенности, которую нам следует называть добровольной бедностью. Плоды роскошной жизни столь же роскошны, будь то в сельском хозяйстве, торговле, литературе или искусстве. Теперь есть профессора философии, но нет философов, хотя преподавать похвально, лишь если ты похвально жил. Быть философом – это не просто иметь острый ум и даже не основать школу, а так любить мудрость, чтобы жить в соответствии с ее предписаниями. Жить просто, независимо, великодушно, уверенно. Это значит решать жизненные проблемы не только теоретически, но и на практике. Успех великих ученых и мыслителей зачастую схож с царедворческим – он не королевский, но и не человеческий. Гении преодолевают трудности, чтобы жить традиционно, как их отцы, и никоим образом не зачинают более благородную породу. Но почему люди вырождаются? Что заставляет род угасать? Какова природа роскоши, ослабляющей и разрушающей народы? Уверены ли мы, что ее совершенно нет в наших собственных жизнях? Философ опережает свое время, даже если говорить о внешней стороне его жизни. Он не сыт, не укрыт, не одет, не согрет, в отличие от своих современников. Как человек может быть философом и не поддерживать свое жизненное тепло наилучшим образом?
Как строительство железных дорог открывает новую геологию, так и рубка льда для хозяйственных нужд зимой 1846–1847 годов дает Торо новые возможности для изучения. Он замечает различия в его оттенках так же точно, как его современник, художник-пейзажист Фредерик Эдвин Черч, переносивший на холст айсберги. В начале 1846 года Торо осознал, какие возможности дает замерзший Уолденский пруд для проведения значимых исследовательских работ. «При помощи компаса, цепи и эхолота», пробивая дыры по прямым линиям в разных направлениях, он зондирует глубину, представляя читателю нарисованную карту пруда в масштабе «40 родов на дюйм», а также схему дна. Долгое время ходили слухи, что пруд бездонен: «Удивительно, сколько еще люди будут верить в бездонность пруда, не удосужившись измерить его глубину». Землемер с гордостью объявляет: «Но могу заверить своих читателей, что у Уолдена достаточно твердое дно, а глубина хоть и необычно велика, но совсем не поразительна». Пруды мельче, чем мы себе представляем: «Большинство прудов, если их опустошить, станут лугами, не глубже тех, что мы часто видим». Большинство загадок в точности так же являются плодами отсутствия попыток терпеливого научного изучения. Те, кто впервые читают «Уолден», могут быть удивлены тем, насколько большая часть его энергии посвящена эмпирическому исследованию и выявлению. Романтичный служитель природы носит изысканные очки, более подобающие Франклину и философам. Цель Торо – примирить нас, после веков смутного человеческого эгоизма, с Природой как она есть, безжалостной и беспощадной. Необходимо, чтобы нас призвали из коллективных удобств и иллюзий деревенской жизни.
«Нам нужен стимул дикой природы… Природы никогда не будет достаточно. Нас должна наполнять силами демонстрация ее неистощимой силы, могущества и титанических возможностей… Нам надо быть свидетелями того, что есть что-то, выходящее за границы обыденности. Что какая-то жизнь свободно пасется там, куда мы никогда не зайдем. Нас веселит, когда мы наблюдаем стервятника, питающегося падалью. Она вызывает у нас отвращение и уныние, он же получает от такой пищи здоровье и силы».
Торо рассказывает, что на тропе к его домику лежала дохлая лошадь, чей запах его отталкивал, но приободрял тем, что «она придавала уверенности в хорошем аппетите и несокрушимости бытия». Видение «Природы с окровавленными клыками и когтями», вызывавшей сожаление у Теннисона и других христиан Викторианской эпохи, лишь воодушевляло отшельника: «Мне нравилось видеть, что Природа настолько изобилует жизнью, что может позволить себе пожертвовать несметным числом существ, охотящихся друг на друга. Ее нежные создания могут так невозмутимо стираться с лица земли, словно их и не было никогда, – например, головастики, которых глотают цапли, или черепахи и жабы, раздавленные на дорогах. Иногда она проливает целые дожди из плоти и крови. При таком обилии случайностей не стоит придавать им значения. Мудрец может подумать, что Вселенная непорочна. Ведь яд не ядовит, и ни одна рана не смертельна. Но сочувствия весьма шатки…»
Он, некоторым образом, провозглашает смертную основу нашего органического существования и при этом требует не только принять мироздание, как предлагает другой представитель трансценденталистов, Маргарет Фуллер, но и ликовать в нем.
Собственную смерть (от туберкулеза, в возрасте сорока четырех лет) Торо встретил с безмятежностью, восхитившей большинство жителей Конкорда. Известны его слова тем, кто пытался подготовить умирающего к переходу в иное состояние: «Мир един в моменте». Он не совсем отрицал бессмертие души. Некоторые его фразы допускают такую возможность, и рядом с приведенными выше фразами писатель вспоминает, как «дикая речная долина и леса купались в таком чистом и ярком свете, что пробудил бы и мертвых». И делает вывод: «Не может быть более убедительного доказательства бессмертия. В таком свете все должно жить». Хотя его значение не совсем ясно, можно считать это всплеском животного оптимизма после длиннейшего, реалистичного восторжения природой, как химической, молекулярной и математической конструкцией. Природа удержана в крепких руках науки и лишена антропоморфизма даже в замысловатой форме, выраженной неоплатонизмом Эмерсона.
Больше никакого идеализма, никаких платонических форм, никаких блестящих архетипов, существующих независимо от отдельных вещей. «Нет идей вне вещей», – скажет в следующем веке Уильям Карлос Уильямс, подарив девиз модернизму. Поэзия Уильямса, Элиота и Паунда показывала, что вещи, пусть даже собранные фрагментарно и образно, без выписанных эмоциональных и логических связок, придают живость языку и непосредственность связке писателя с читателем. Нас до сих пор восхищает именно «вещизм» прозы Торо, неуемная энергия, с которой он перескакивает от детали к детали, от образа к образу, в то же время влача некоторую часть метафизического бремени трансцендентализма. Без этого бремени, которое заметно легче в посмертно изданных работах «Леса Мэна» и «Кейп-Код», он удерживается в шаге от звания внимательного и красноречивого автора травелогов. Однако хаотическая, окутанная туманами вершина горы Ктаадн – «сырье планеты, сброшенное из невидимой каменоломни» – и обломки судов, и перекрученные ветром яблони Кейп-Кода позволяют нам почувствовать метафизический трепет человека, столкнувшегося в лице безжалостной природы с образом чего-то гнетущего внутри самого себя и очищающего одновременно.
Последние годы жизни Торо, когда взгляды аболиционистов и рабовладельцев дошли до настойчивых предзнаменований кровавой войны, были отмечены (и даже заслужили печальную славу) его пылкой поддержкой налетчика Джона Брауна, с которым он коротко встретился в Конкорде и нашел его «весьма здравомыслящим человеком, вдумчивым и практичным», обладающим «тактом и благоразумием», а также спартанскими привычками, к тому же питающимся скудно, как солдат. Миролюбивый Торо превозносит этого мрачного убийцу по практичной причине: Браун предпринимает действия, жестокие действия против санкционированного насилия рабовладельческого государства:
«Это был его личный принцип, что у человека есть признанное право применить насилие к рабовладельцу с целью спасти раба. Я согласен с ним… Я не хочу ни убивать, ни быть убитым, но предвижу обстоятельства, при которых оба этих события стали бы неизбежными. Мы сохраняем так называемый мир в нашем обществе, ежедневно совершая мелкое насилие».
Взгляды Торо роднят его с революционерами 1960-х. За установленным порядком он видел насилие, за частной собственностью – порабощение, а за газетными «новостями» – сейчас это шире распространено, чем сорок лет назад – личное мнение. «Обман и иллюзии принимаются за чистейшую правду, в то время как действительность кажется вымышленной». Слово «реальность» многократно повторяется в «Уолдене»: «Возьмемся за себя, начнем работать и протиснем ноги через грязь и тину мнений, предубеждений, традиций, иллюзий и видимости… пока не доберемся до твердого дна и лежащих на своем месте камней, которые сможем назвать реальностью… Мы жаждем только реальности, будь то жизнь или смерть. Если мы действительно умираем, пусть услышится хрип в наших глотках и почувствуется холод в конечностях. Но если живы, займемся своим делом».
Темному безбрежью безразличия материальной Природы мы можем противопоставить только краткий свет своей осознанности, подобно лампе в хижине. Пробуждающее благословение «Уолдена» заставит нас почувствовать, что это честная борьба на равных. Соединенные Штаты 1850 года, с населением двадцать три миллиона человек, были достаточно маленькой страной, чтобы воспринимать их единым целым. Хотя Торо и был знаменит своей одиночной жизнью в лесу, словно Мелвилл – «человек среди каннибалов», он слыл общительным. Когда писатель в 1856 году навещал своих друзей, семью Лумис из Кембриджа, ему вручили новорожденную Мейбл Лумис, и в этот неловкий момент он держал ее головой вниз.
Потом она прославилась как первый редактор поэзии Эмили Дикинсон, а в двадцатом веке – как главный пример сексуально удовлетворенной и свободной викторианской женщины в социально-историческом романе Питера Гэя «Нежная страсть». В 1852 году Торо, будучи уже знакомым с большинством писателей Новой Англии, посетил комнату Уолта Уитмена в Бруклине, где тот жил в неряшливой обстановке со своим слабоумным братом. Хотя у них были разные мнения относительно обывателя – Уитмен позже определил янки как обладающих «чрезмерно обостренным чувством высокомерия», а Торо заявил о стихах некоторых нью-йоркских поэтов как о «мягко говоря, нехороших, просто чувственных… словно это слова животных» – оба произвели друг на друга приятное впечатление. «Он замечательный человек», – написал Торо об Уитмене в письме, а о сборнике его стихов – «В целом они кажутся мне очень смелыми и американскими, за некоторым исключением. Я не верю, что все произнесенные проповеди, даже вместе взятые, сравнимы по силе наставлений».
Со временем «Листья травы» и «Уолден» стали двумя великими свидетельствами американского индивидуализма, заверяя Новый Свет, которому всегда не хватало уверений в ценности, силе и красоте свободной личности.
Джон Апдайк
Май, 2003 г.
Хозяйство
Эти страницы – точнее, большая их часть – написаны в лесу, в миле от любой живой души, в доме, построенном мною на берегу Уолденского пруда, в городке Конкорд, штат Массачусетс. Пропитание добывалось исключительно собственным трудом. Так я прожил два года и два месяца. А теперь снова вернулся на время к цивилизованной жизни.
Я не стал бы посвящать читателей во все подробности моей жизни, если бы не настойчивые расспросы земляков, интересующихся моим бытием. Кто-то счел бы их неуместными, но мне они таковыми не кажутся. А учитывая обстоятельства, они более чем естественны и уместны. Некоторые спрашивали, чем я питался, не страдал ли от одиночества, не боялся ли и тому подобное. Других интересовало, сколько жертвовалось на благотворительность. А многодетные любопытствовали, скольких бедных детишек я содержал. Так что прошу прощения у тех читателей, кому безразлична моя персона, если попытаюсь ответить на подобные вопросы в книге. В большинстве их повествование не ведется от первого лица, и местоимение «я» опускается, но здесь оно сохранится. И это будет главным отличием от прочих писателей, если говорить о собственном эго. Мы склонны забывать, что рассказ обычно ведется от первого лица. Я не говорил бы о себе так много, если б знал кого-то, как себя самого. К сожалению, недостаток опыта вынуждает ограничиться самоописанием. Со своей стороны, я жду от каждого автора простого и честного рассказа о собственной жизни, а не сплетен о других. Пусть пишет, словно родным из дальних краев, ведь если эти истории реальны, то непременно произошли за тридевять земель.
Пожалуй, эти страницы адресованы в основном бедным студентам. Остальные читатели могут удовлетвориться тем, что им близко. Никто, надевая пальто, не старается порвать его по швам, ведь оно может кому-то подойти по размеру.
Я должен кое-что сказать. Это касается не столько китайцев или обитателей Сандвичевых островов, сколько вас, читающих эти страницы, – то есть жителей Новой Англии. Кое-что об условиях вашей жизни – в особенности внешних условиях или обстоятельствах – в этом городе, как и любом другом. Неизбежна ли их сегодняшняя убогость, можно ли их улучшить или нет. Я немало ходил по Конкорду, и везде – в лавках, в конторах, в полях – мне казалось, что местные жители накладывают на себя епитимью тысячами разных способов. Я слышал об индийских браминах, восседающих меж четырех костров и смотрящих прямо на солнце. А иногда висящих вниз головой над пламенем или смотрящих в небеса через плечо, «пока не утрачивается возможность вновь принять естественное положение, а через искривленную шею в желудок не лезет ничего, кроме жидкостей». Я слышал о пожизненно самоприкованных цепью у подножия дерева, или измеряющих своими телами, подобно гусеницам, просторы обширных империй, или стоящих на одной ноге на вершине столба. Но даже эти формы сознательного самобичевания вряд ли более невероятны, чем сцены, наблюдаемые мной ежедневно. Двенадцать подвигов Геракла пустячны по сравнению с теми, что совершали мои соседи. Ведь их всего двенадцать, и каждый был конечен. Но эти люди из Конкорда никак не прогонят и не захватят в плен чудовище, и не закончат тяжкий труд. У них не было сподвижника Иолая, прижигающего раскаленным железом шею, с которой только что слетела голова гидры, чтобы на этом месте не выросло две новых.
Я вижу юношей, живущих в моем городе и имеющих несчастье унаследовать фермы, дома, амбары, скот и сельскохозяйственный инвентарь. Все это легче получить, чем потом избавиться. Им было бы лучше родиться в чистом поле и вскормиться волчицей – тогда яснее представляешь, какая пашня ждет твой плуг. Кто сделал их рабами земли? Почему они должны батрачить на своих шестидесяти акрах, когда человек обречен за жизнь съесть лишь пригоршню грязи? Почему, едва появившись на свет, они роют себе могилы? Им приходится жить навьюченными всем скарбом, как бы ни было это тяжело. Я встречал множество бессмертных душ, почти раздавленных и удушенных своим тяжким бременем. Ползущих по дороге жизни, волоча амбар размером семьдесят пять на сорок футов, свои Авгиевы конюшни, которые никогда не будут вычищены, и в придачу сотню акров земли – пашню, покос, пастбище и лесную делянку! Те же, кто не вписан в завещание, лишены ненужной обузы и обслуживают всего нескольких кубических футов собственной плоти, находя это вполне достаточным.
Но люди жестоко заблуждаются. Душа человеческая обречена лечь в землю и превратиться в компост. Воображаемая судьба, обычно называемая необходимостью, заставляет, согласно одной старой книге, копить сокровища, какие обязательно попортят моль и ржавчина, или украдет вор. Жизнь сия глупа, и они поймут это в конце ее, а то и раньше. Говорят, что Девкалион и его жена Пирра создали эллинов, бросая за спину камни:
Inde genus durum sumus, experiensque laborum,
Et documenta damus qua simus origine nati[1 - Следовательно, мы – выносливый народ, испытываем лишения и доказываем свое происхождение, от которого мы произошли на свет.].
Или, как написал поэт Рэли в своей звучной манере:
С тех пор наш род жестокосердный,
терпящий боль и заботы,
Доказывает, что плоть – из камня.
Не стоит слепо повиноваться глупому оракулу, бросающему за спину камни не глядя.
Большинство людей невежественны, даже в нашей сравнительно свободной стране. Они настолько заняты надуманными делами и чрезмерно тяжким трудом, что не успевают попользоваться лучшими дарами жизни. Непосильная работа скрючила их пальцы и вогнала в дрожь. Получается, что трудяга не способен раскрыть полноту своей натуры. Он не может вести себя искренне с людьми, иначе его труд упадет в цене. У него нет времени на то, чтобы не быть просто машиной. Как он может помнить о своем невежестве (а это крайне необходимо для развития), если все время практикуется? Мы должны время от времени бесплатно кормить и одевать его, принимать от всего сердца, прежде чем судить о нем. Лучшие свойства нашей натуры, подобно румяным яблокам, могут сохраняться только при бережном обращении. Но мы не относимся трепетно ни к себе, ни к другим.
Как известно, некоторые из нас бедны. Им трудно жить, иногда, фигурально выражаясь, еле переводя дух. Иногда читающие эту книгу не способны заплатить за обед или сменить изношенную одежду. Тратят на чтение взятое взаймы или украденное время, чтоб хотя бы на часок позабыть о своих кредиторах. Совершенно очевидно, какой жалкой и нелепой жизнью они живут – знакомо по опыту. Вы всегда на пределе, пытаетесь стать бизнесменом и избавиться от долгов, которые издревле были пучиной, называемой римлянами aes alienum, «чужая медь», по металлу их монет. Живете и умираете, вас хоронят на эту чужую медь. Всегда обещаете заплатить, обещаете заплатить завтра, но умираете сегодня, по уши в долгах. Ищете, как выслужиться, как втереться в доверие любым способом, лишь бы не противозаконным, чтобы не попасть в каталажку. Обманываете, льстите, голосуете, покрываетесь скорлупой вежливости или напускаете вид тонкого и туманного великодушия, лишь бы убедить соседа заказать у вас обувь, шляпу, верхнюю одежду, бакалею или экипаж. Наживаете болячки, чтобы отложить запас на случай болезни, спрятать его в старом комоде, в потаенной щели или, для сохранности, в кирпичном здании банка. Не важно куда, не важно, много или мало.
Удивительно, насколько мы бываем легкомысленными, придавая столько внимания чуждой нам форме порабощения, называемой «рабством негров». При том, что и север, и юг заполонены множеством видов жестокого рабства. Тяжело иметь южного надсмотрщика, а северного – еще тяжелее. Но хуже, если ты сам себе надсмотрщик. И еще рассуждают о божественной природе человека! Посмотрите на возницу, что тащится по дороге на рынок днем и ночью. Разве в нем есть что-то божественное?
ЭТИ СТРАНИЦЫ – ТОЧНЕЕ, БОЛЬШАЯ ИХ ЧАСТЬ – НАПИСАНЫ В ЛЕСУ, В МИЛЕ ОТ ЛЮБОЙ ЖИВОЙ ДУШИ, В ДОМЕ, ПОСТРОЕННОМ МНОЮ НА БЕРЕГУ УОЛДЕНСКОГО ПРУДА, В ГОРОДКЕ КОНКОРД, ШТАТ МАССАЧУСЕТС.
ПРОПИТАНИЕ ДОБЫВАЛОСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СОБСТВЕННЫМ ТРУДОМ. ТАК Я ПРОЖИЛ ДВА ГОДА И ДВА МЕСЯЦА.
А ТЕПЕРЬ СНОВА ВЕРНУЛСЯ НА ВРЕМЯ К ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЖИЗНИ.
Его высшее предназначение – кормить и поить своих кляч! Что для него собственная судьба в сравнении с торговыми интересами? Стремится ли к тому, чтобы стать сквайром, вызывающим ажитации? Насколько подобен богу, насколько бессмертен? Посмотрите, как трепещет и подхалимничает, как неосознанно и вечно чего-то боится, не будучи ни бессмертным, ни божественным, но рабом и узником собственного мнения о себе, славы, заслуженной собственными деяниями. Общественное мнение – вовсе не тиран по сравнению с нашим самомнением. Именно то, что человек думает о себе, определяет или даже предопределяет его судьбу.
Найдется ли аболиционист Уилберфорс, помогающий самоосвобождению даже на Карибских островах фантазии и вест-индского воображения? А наши дамы до смертного дня вышивают подушечки и не подают ни малейших признаков интереса к своей судьбе. Словно убивают время, не поранив вечность.
Множество людей живет безнадежно. То, что зовется смирением, на поверку лишь вынужденное отчаяние. Из отчаявшегося города вы уезжаете в отчаявшуюся деревню, где утешаетесь бесстрашием норок и ондатр. Устоявшаяся, но неосознанная отчаянность выражена даже человеческими играми и развлечениями. В них нет радости, ведь они случаются только после работы. Но мудрость не допускает отчаянных поступков.
Когда мы размышляем над тем, что катехизис определяет главной целью человека и его истинными потребностями, кажется, что люди умышленно выбрали обычный образ жизни, потому что предпочли его любому другому. На самом деле они искренне убеждены, что выбора нет. Но смышленые и здоровые натуры помнят восход солнца на чистом небе. От предубеждений никогда не поздно отказаться. Ни одному образу мыслей или образу действий, даже самому древнему, нельзя доверять безоглядно. То, что сегодня твердится или принимается за истину, завтра окажется ложью, легким дымком мнений, уверенно принятым за тучу, должную пролить благодатный дождь на поля. Старики уверяют, что вы не сможете исполнить задуманное, а вы пробуете – и оказывается, что можете. Потому старые дела – для стариков, новые – для молодых. Предки когда-то не обладали знаниями, чтобы добыть топливо для костра, а потомки кладут сухие дрова под котел и мчатся вокруг земного шара со скоростью птиц, что убило бы предков. В качестве наставника старость не лучше, а хуже юности, ведь она утратила намного больше, чем приобрела. Не уверен даже в том, что мудрейший человек, прожив свою жизнь, понял хоть что-то о ее безусловной ценности. У стариков нет ни одного важного совета молодым, ведь их собственный опыт чрезвычайно ограничен, а их жизни стали полным провалом – как они уверены, по уважительным причинам. Возможно, у них сохранились остатки веры, противоречащей этому опыту, а они просто не так молоды, как были. Я прожил на этой планете около тридцати лет и до сих пор не услышал от старших мало-мальски ценных или хотя бы искренних советов. Они не сказали и уже не скажут ничего по существу. Моя жизнь – огромный опыт, еще не испытанный, но проку в том, что они его уже испытали, нет. Если у меня и есть опыт, который я считаю ценным, мои наставники точно ничего об этом не говорили.
Один фермер разглагольствует: «Нельзя жить только на растительной пище, потому что она не дает питания костям». И он добросовестно посвящает часть дня снабжению своего организма строительным материалом для костей. Меж тем, пока говорит, идет за быками, чьи кости взрощены на травянистой пище, и они тащат его вместе с тяжелым плугом через все препятствия. Некоторые вещи на самом деле необходимы только в определенных кругах, самых беспомощных и ущербных, в то время как в других они – предметы роскоши, а в прочих и вовсе неизвестны.
Кому-то кажется, что вся человеческая жизнь изучена предками, – и высоты, и низины, – и они обо всем позаботились. По словам Ивлина, «мудрый Соломон указывал даже нужные расстояния между деревьями, а римские преторы решали, как часто вы можете заходить на землю соседа для сбора желудей, упавших на нее, чтобы это не считалось нарушением права владения, и какая доля ему принадлежит». Гиппократ оставил указания, как мы должны стричь ногти: вровень с кончиками пальцев, не короче и не длиннее. Несомненно, сами скука и уныние, истощающие разнообразие и радости жизни, восходят к Адамовым временам. Но человеческие способности не измерены, и невозможно судить человека по делам его предков – так мало всего было испробовано. Какими бы ни были до сего времени твои неудачи, «не огорчайся, дитя мое, ибо кто может установить, что ты не сделал?».
Мы можем исследовать наши жизни тысячами простых испытаний. Представить, к примеру, что солнце, дарующее урожаю бобов зрелость, одновременно освещает целую планетарную систему. Если бы я помнил об этом, то избежал бы некоторых ошибок. Это не просто свет, при котором я работаю мотыгой. Ведь звезды – вершины чудесных треугольников! Представьте, сколько далеких живых существ в разных уголках Вселенной одновременно размышляют об одном. Природа и человеческая жизнь столь же многообразны, как устройство наших тел. Кто может описать возможности другого человека? И может ли быть большее чудо, чем на мгновение взглянуть на жизнь по-иному? Мы могли бы за один час побывать во всех эпохах мира и во всех мирах эпох. Нет опыта столь увлекательного и познавательного, включая историю, поэзию и мифологию.
Большую часть из того, что мои соседи называют хорошим, я в глубине души считаю плохим, и если я в чем-то раскаиваюсь, то, скорее, в своем хорошем поведении. Какой дьявол внушил мне благонравие? Вы, старик семидесяти лет небесславной жизни, можете высказать мне глубочайшую мудрость, но я слышу настойчивый внутренний голос, и он требует держаться подальше от ваших советов.
Одно поколение отказывается от затей предыдущего, как от севших на мель кораблей.
Думаю, мы можем намного больше доверяться жизни. Отказаться от части заботы о себе и искренне даровать ее другим. Природа приспособлена к нашей слабости, как и к силе. Беспрестанная тревога и напряжение у некоторых превратились в форму болезни, почти неизлечимую. В наших привычках преувеличивать важность своей работы. «И сколько же еще не сделано! А что, если захвораешь?» – вот насколько мы насторожены. Решив не жить верой, если можно ее избежать, весь день проводим в тревоге, а вечером нехотя читаем молитвы и обрекаем себя на неопределенность.
Мы настолько полностью и бесхитростно подчинены жизни, что почитаем ее и отрицаем возможность изменений. Утверждаем, что это единственный путь. Но ведь путей столь много, сколько радиусов, идущих из центра окружности. Любое изменение есть чудо, требующее размышлений, но именно чудеса происходят каждый момент. Конфуций сказал: «Истинное знание состоит в том, чтобы знать, что мы знаем то, что знаем. И не знаем того, чего не знаем». Предположу, что, если хоть один человек уразумеет доступное лишь воображению, остальные построят на этом свои жизни.
Давайте на минуту задумаемся о том, с чем связана большая часть упомянутых тревог и забот и насколько необходимо тревожиться или заботиться. Есть некоторые преимущества в простой сельской жизни, даже посреди внешней цивилизации. Хотя бы для понимания, что на самом деле необходимо и как можно это получить. Полезно просмотреть старые торговые книги и узнать, что люди обычно покупали в лавках, что запасали. То есть выяснить самые необходимые продукты. Ведь все современные усовершенствования почти не влияют на основные законы существования и наши скелеты наверняка не отличаются от скелетов наших предков.
Между тем под «предметами первой необходимости» я подразумеваю добываемые человеком с самого начала или ставшие после долгого использования настолько нужными, что лишь немногие (да почти и никто) пытаются обойтись без них, будь то из-за невежества, бедности или согласно мировоззрению.
В этом смысле существует только один предмет первой необходимости – Пища. Для бизона в прерии – несколько дюймов вкусной травы и вода, чтобы напиться, если только он не ищет Кров в лесу или в тени горы. Ни одному из животных не требуется большего, чем Пища и Кров. Предметы первой необходимости для человека в нашем климате можно довольно точно распределить на несколько групп: Пища, Кров, Одежда и Топливо; ведь без этого мы не готовы свободно и успешно решать истинные проблемы. Человек изобрел не только дома, но и одежду, и приготовленную пищу. Благодаря случайно обнаруженному теплу огня и его использованию, бывший поначалу роскошью, обогрев постепенно перерос в насущную необходимость. Мы видим, как коты и собаки приобретают ту же вторую натуру. Благодаря должным Крову и Одежде мы по праву сохраняем собственное внутреннее тепло. Но при избытке Топлива, когда внешнее тепло превышает наше внутреннее, возможно приготовление пищи. Натуралист Дарвин рассказывает об обитателях Огненной Земли: в то время, когда его партия, состоящая из хорошо одетых людей, жалась к огню, дрожа от холода, обнаженные дикари, сидевшие поодаль от огня, к его величайшему удивлению, «обливались потом, словно поджариваясь». Как нам рассказывают, обитатель Новой Голландии свободно ходит обнаженным, когда европеец дрожит от холода в своей одежде. Нельзя ли сочетать закаленность дикарей с умом цивилизованного человека? По мнению ученого Либиха, человеческое тело – печь, а пища – топливо, поддерживающее внутреннее горение в легких. В холодную погоду мы едим больше, в теплую – меньше. Жизненное тепло есть результат медленного горения, а болезнь или смерть наступают, когда пламя слишком быстрое, или гаснет из-за нехватки топлива, или из-за какого-то дефекта тяги. Конечно, жизненное тепло нельзя путать с пламенем, но аналогия верна. Из вышеизложенного следует, что выражение «животная жизнь» почти синонимично выражению «жизненное тепло». Ведь Пищу можно считать топливом, поддерживающим огонь внутри нас, а Топливо тратится лишь на приготовление этой Пищи или увеличение тепла наших тел извне. Кров и Одежда также служат сохранению тепла, создаваемого и поглощаемого.
Итак, главнейшая потребность наших тел – сохранять тепло, жизненное тепло внутри. Не зря мы суетимся вокруг Пищи, Одежды и Крова, а также постелей – нашей ночной одежды. Разоряем птичьи гнезда и выщипываем пух с грудок птиц, чтобы приготовить этот кров внутри крова – как крот, чья постель из травы и листвы находится в самой глубине норы! Бедняк имеет обыкновение жаловаться на холодный мир; и именно холодом, не только социальным, но и физическим, объясняется большая часть наших страданий. В некоторых широтах лето дает человеку возможность райской жизни. Топливо, за исключением нужного для приготовления Пищи, в это время не нужно. Солнце греет вовсю, и многим плодам, для того чтобы стать пригодными в пищу, достаточно его лучей. Пища там в целом более разнообразна и ее легче добыть, а Одежда и Кров нужны меньше или не нужны вовсе.
В наши дни и в нашей стране, как я могу судить по опыту, в предметы первой необходимости входят некоторые орудия: нож, топор, лопата, тачка и тому подобное, а для занимающихся наукой – лампа, канцелярские принадлежности и несколько книг, но их можно приобрести почти за бесценок. Хотя некоторые, поступая неразумно, отправляются на другую сторону земного шара, в варварские и пагубные для здоровья регионы, и на десять – двадцать лет посвящают себя торговле с тем, чтобы просто жить – другими словами, сохранять в себе комфортное тепло – и умереть в Новой Англии. Обладающие несметным богатством поддерживают не просто комфортное тепло, а противоестественный жар. Как я изложил выше, они, несомненно, приготовлены ? la mode.
Большинство предметов роскоши и многие из так называемых жизненных удобств не только не нужны, но и, несомненно, мешают развитию человечества. Касательно роскоши и комфорта, мудрейшие всегда жили более простой и скромной жизнью, чем бедняки. Древние китайские, индуистские, персидские и греческие философы были классом, беднее которого нет, если говорить о внешнем богатстве, но богаче которого быть невозможно, если говорить о внутреннем. Мы знаем о них не так много. Примечательно то, что мы знаем о них хотя бы то, что знаем. Это же касается более современных реформаторов и меценатов. Никто не может быть беспристрастным или мудрым наблюдателем человеческой жизни, если только не находится на той возвышенности, которую нам следует называть добровольной бедностью. Плоды роскошной жизни столь же роскошны, будь то в сельском хозяйстве, торговле, литературе или искусстве. Теперь есть профессора философии, но нет философов, хотя преподавать похвально, лишь если ты похвально жил. Быть философом – это не просто иметь острый ум и даже не основать школу, а так любить мудрость, чтобы жить в соответствии с ее предписаниями. Жить просто, независимо, великодушно, уверенно. Это значит решать жизненные проблемы не только теоретически, но и на практике. Успех великих ученых и мыслителей зачастую схож с царедворческим – он не королевский, но и не человеческий. Гении преодолевают трудности, чтобы жить традиционно, как их отцы, и никоим образом не зачинают более благородную породу. Но почему люди вырождаются? Что заставляет род угасать? Какова природа роскоши, ослабляющей и разрушающей народы? Уверены ли мы, что ее совершенно нет в наших собственных жизнях? Философ опережает свое время, даже если говорить о внешней стороне его жизни. Он не сыт, не укрыт, не одет, не согрет, в отличие от своих современников. Как человек может быть философом и не поддерживать свое жизненное тепло наилучшим образом?