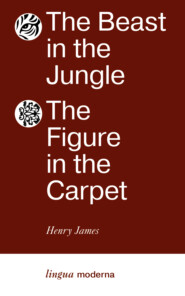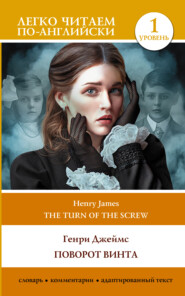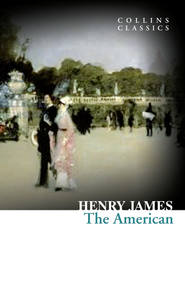По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Золотая чаша
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Все, что вообще есть хорошего. Весь мир, такой прекрасный, – или все то, что прекрасно в этом мире. Я хочу сказать, мы столько всего видим.
Он взглянул на нее, думая о том, что сама она – одна из прекрасных, одна из прекраснейших вещей этого прекрасного мира. Но ответил он так:
– Вы слишком много видите, и это приводит иногда к большим осложнениям. По крайней мере, если не считать тех случаев, – поправился он, подумав, – когда вы видите слишком мало.
Но он не скрывал, что понимает ее мысль и что предостережение его было, пожалуй, излишним. В своей жизни князь достаточно повидал романтического вздора, но в этих людях как-то не было заметно ничего вздорного, ничего нельзя было поставить им в вину, кроме лишь невинных удовольствий – удовольствий, за которыми не следует наказания. Им доставляло радость воздавать должное окружающему без каких-либо потерь для себя самих. Забавно только, заметил князь со всем подобающим почтением, что ее отец, хоть он и старше, и мудрее, и мужчина вдобавок, в этом отношении ничуть не лучше – то есть не хуже – ее самой.
– Ах, он гораздо лучше, – воскликнула она, – в смысле гораздо хуже. Он неисправимый романтик по отношению к тому, что он ценит в жизни – и, по-моему, это прекрасно. Вот и его приезд сюда – я не знаю, что может быть романтичнее.
– Ты имеешь в виду то, что он задумал для своего родного города?
– Да, коллекция, музей, который он хочет подарить городу, – ты же знаешь, он только этим и занят. Это труд всей его жизни. Все его поступки подчинены одной цели.
Молодой человек в своем теперешнем расположении духа готов был вновь улыбнуться, как улыбнулся ей тогда.
– Той же цели подчинено и его согласие на наш брак?
– Да, милый, безусловно, – по крайней мере, в каком-то смысле, – ответила она. – Между прочим, Америкэн-Сити – не его родной город. Город моложе его, хоть он и не стар. Но он там начинал, у него осталось чувство к этому городу, и город вырос, как говорит папа, наподобие своего рода благотворительной программы. А ты – часть его коллекции, – объяснила она, – один из тех предметов, которые можно приобрести только здесь, за океаном. Ты – редкость, диковинка, нечто очень красивое, очень ценное. Может быть, не совсем уникальное, но настолько выдающееся, что найдется очень немного равных тебе. Ты принадлежишь к досконально изученному разряду явлений. Ты, что называется, музейный экспонат.
– Понимаю. И, похоже, – отважился он, – я стою кучу денег.
– Понятия не имею, сколько ты стоишь, – серьезно ответила она, и он пришел в восторг от того, как она это сказала. На мгновение он даже сам себе показался вульгарным. Но постарался справиться с этим, как умел.
– А разве это не выяснилось бы, если бы пришлось расстаться со мной? В этом случае пришлось бы оценить мою стоимость.
Она окинула его взглядом своих чудесных глаз, словно его стоимость была для нее очевидна.
– Да, если ты имеешь в виду, чем я согласилась бы заплатить, лишь бы не потерять тебя.
И снова он вспоминал свой ответ.
– Не говори обо мне – это ведь ты не из нашего века. Ты – существо из более утонченной и бесстрашной эпохи, ты не посрамила бы и Чинквеченто[2 - Чинквеченто (Cinquecento) (ит.) – XVI век, расцвет итальянского Возрождения.]в час его наивысшего золотого расцвета. А я его недостоин, и, если бы не знал кое-какие из экспонатов твоего отца, мог бы, пожалуй, опасаться, что знатоки раскритикуют Америкэн-Сити в пух и прах. Уж не планируешь ли ты, – спросил он затем с комически-жалобной гримасой, – отправить меня туда на хранение, для пущей надежности?
– Что ж, возможно, до этого еще дойдет.
– Я готов ехать, куда ты пожелаешь.
– Сперва посмотрим – это случится только при крайней необходимости. Некоторые вещи, – продолжала она, – разумеется, особо крупные и неповоротливые, папа оставляет, и очень многие уже оставил, на хранение здесь и в Париже, в Италии, в Испании, в хранилищах, сейфах, банках, в самых замечательных тайниках. Мы с ним словно парочка пиратов – таких, знаешь, театральных пиратов, которые подмигивают друг другу и говорят «Ха-ха!», приближаясь к тому месту, где зарыты их сокровища. Наши сокровища зарыты практически повсюду, кроме тех вещей, которые нам нравится постоянно видеть, держать их при себе во время своих поездок. Это предметы поменьше, мы их расставляем в гостиницах и в снятых на время домах, чтобы те стали, по возможности, не такими уродливыми. Конечно, это опасно, приходится следить за их сохранностью. Но папа очень любит красивые вещи – любит, как он говорит, ради них самих, и готов рискнуть, лишь бы его окружали подобные предметы. До сих пор нам необычайно везло, – не преминула заметить Мегги, – у нас еще ни разу ничего не украли. А ведь самые лучшие вещи часто бывают очень маленькими. Ты, наверное, знаешь, что ценность вещи чаще всего никак не связана с ее размером. Но у нас ничего не пропало, – закончила она свою речь, – даже самого крошечного предмета.
Князь рассмеялся:
– Мне нравится, в какую категорию ты меня поместила! Я буду одним из мелких предметов, которые вы с отцом распаковываете, чтобы украсить гостиничный номер или комнату в снятом на время доме, вот вроде этой чудесной комнаты, – чтобы поставить на полку рядом с семейными фотографиями и свежими журналами. Во всяком случае, я не настолько велик, чтобы меня закопать.
– О, – отозвалась она, – мы тебя не закопаем, милый, пока ты жив. Разве что для тебя отправиться в Америкэн-Сити – все равно что похоронить себя заживо.
– Прежде, чем высказываться по этому поводу, хотелось бы увидеть свою могилу.
Таким образом, ему все-таки удалось оставить за собой последнее слово; словесное состязание на том и закончилось, если не считать одного замечания, которое просилось к нему на язык еще в начале разговора, но тогда он удержал эту реплику, которая теперь вернулась вновь.
– Я надеюсь, ты веришь одному, что касается меня, – не знаю, хорошее оно, плохое или никакое.
Даже ему самому эти слова показались чересчур торжественными, но Мегги ответила весело:
– Ах, не ограничивай меня, пожалуйста, только «одним»! Я во столько всего верю, что связано с тобой, – даже если большая часть меня разочарует, кое-что еще останется. Я уж об этом позаботилась. Я разделила свою веру на водонепроницаемые отсеки. Как-нибудь не потонем!
– Ты веришь, что я не лицемер? Ты понимаешь, что я никогда не лгу, не обманываю, не притворяюсь? Этот отсек, по крайней мере, достаточно водонепроницаемый?
Князь вспоминал, что этот вопрос, заданный с довольно сильным чувством, заставил ее на мгновение задержать на нем свой взгляд и вспыхнуть, как будто его слова прозвучали еще более странно, чем было задумано. Он сразу заметил, что всякий серьезный разговор о верности и правдивости, а точнее – об их отсутствии, заставал Мегги врасплох, как будто для нее подобные мысли были совершенно новыми и непривычными. Он и раньше обращал на это внимание: то было чисто английское, чисто американское убеждение, что о сложных вещах, таких, как «любовь», можно говорить только в шутку. В подобные темы не следует «углубляться». Поэтому серьезный тон его вопроса прозвучал преждевременным, чтобы не сказать больше. Впрочем, подобный промах стоило совершить, хотя бы ради той чуть ли не преувеличенной шутливости, за которой она инстинктивно укрылась.
– Водонепроницаемый – самый большущий из отсеков? Да ведь там находится и каюта люкс, и главная палуба, и машинное отделение, и кладовка стюарда! Это, по сути, весь корабль и есть. Там и капитанский мостик, и весь багаж – хоть сейчас в плавание. – Она часто пользовалась такими сравнениями на пароходные и железнодорожные темы – это шло от близкого знакомства с самыми разными средствами сообщения, от опыта постоянных путешествий, в чем он пока не мог с ней тягаться; ему еще только предстояло освоиться с достижениями современной техники, и отчасти примечательность его положения состояла в том, что он способен был, не дрогнув, предвкушать обилие всевозможной механики в своем ближайшем будущем.
В сущности, хотя он был вполне доволен своей помолвкой, а невесту находил очаровательной, но главная «романтика» заключалась для него именно в этой своеобразной особенности, что придавало определенную контрастность состоянию его души, и князь был достаточно умен, чтобы сознавать это. Он был достаточно умен, чтобы ощущать глубокое смирение, чтобы стремиться избегать малейшей жесткости или прожорливости, не настаивать на тех или иных выгодах, короче – всячески остерегаться высокомерия и жадности. Довольно странно, по правде говоря, что он ощущал эту последнюю опасность – и это, помимо всего прочего, может служить хорошей иллюстрацией его воззрений на опасности, идущие изнутри. По мнению князя, сам он был лишен вышеупомянутых пороков, что весьма его радовало. Однако весь его род был ими наделен в полной мере, а князь постоянно ощущал неразрывную связь со своими предками, обретающимися в его сознании, подобно неотвязному аромату, пропитавшему его одежду, руки, волосы, все его существо, будто после погружения в некую химическую субстанцию – никаких конкретных проявлений ее воздействия не было заметно, и тем не менее князь все время ощущал свою беззащитность перед этим воздействием. Он прекрасно знал историю своего рода задолго до собственного рождения, знал во всех подробностях, и оттого источник воздействия не вызывал у него ни малейших сомнений. Князь спрашивал себя: если он осуждает все уродство своей семейной истории, что есть его осуждение, как не одна из сторон того смирения, которое он так тщательно в себе воспитывал? И что такое этот важнейший жизненный шаг, на который он только что решился, как не стремление положить начало новой истории, чтобы она, насколько это возможно, противоречила старой и даже попросту обесценила ее? Если доставшееся ему наследство никуда не годится, значит, нужно создать нечто совершенно иное. Он со всем смирением отдавал себе отчет в том, что материалом для такого созидания должны стать миллионы мистера Вервера. Больше ему не на что было рассчитывать; он уже пытался, но вынужден был посмотреть правде в лицо. При всем том он был не настолько уж смиренен, как если бы знал за собой какое-то особенное легкомыслие или глупость. У него была мысль, которая, возможно, позабавит историка, изучающего жизнь этого молодого человека: если уж ты настолько глуп, чтобы ошибиться в подобном вопросе, то неизбежно сознаешь это. Итак, он не ошибается: его будущее, возможно, будет связано с наукой. Во всяком случае, ничто в нем самом не исключает такого исхода. Он готов вступить в союз с наукой – ибо что есть наука, как не отсутствие суеверий при условии наличия денег? Жизнь его будет полна разнообразной механики, которая служит противоядием от суеверий, которые, в свою очередь, происходят от архивов, по крайней мере в качестве побочного продукта. Князь размышлял об этих вещах – о том, что он, во всяком случае, не совсем никчемная личность и принимает достижения века грядущего, – пытаясь этими раздумьями возместить перекос в восприятии себя самого своей будущей женой и ее отцом. Минутами он содрогался, ловя себя на мысли о том, что ему простили бы и полную никчемность. Для этих нелепых людей он был бы достаточно хорош даже и в таком виде. Настолько нетребователен верверовский романтизм! Они, бедняжки, и не ведают, что такое значит – быть по-настоящему никчемным. Он-то знал – он все это видел, испытал, измерил и ощутил на себе. В сущности, от этих воспоминаний следовало попросту отгородиться – вот точно так же, как только что на его глазах железная штора отгородила витрину рано закрывшейся лавки от затухающего летнего дня, с грохотом опустившись при повороте какого-нибудь там рычага. И снова его окружает механика, со всех сторон стеклянные витрины, деньги, власть, власть богатых людей. Что ж, он и сам теперь один из них, из богатых; он на их стороне или, в более приятной формулировке, они теперь на его стороне.
Нечто в этом духе бормотал он на ходу. Это было бы смешно, – подобная мораль из подобного источника, – если бы не соответствовало каким-то непонятным образом торжественности момента, той торжественности, давящее присутствие которой я попытался изобразить в начале своего рассказа. Также занимало его мысли намечавшееся в самом скором времени прибытие родичей. Он должен был встретить их на следующее утро на вокзале Чаринг-Кросс: младший брат – тот раньше старшего вступил в брак, но жена его, еврейской расы, однако с весомым приданым, достаточным, чтобы позолотить пилюлю, была по своему теперешнему положению лишена возможности путешествовать; сестра с мужем, самые англизированные из миланцев; дядюшка с материнской стороны, самый недействующий из дипломатов; и кузен, проживающий в Риме, дон Оттавио, самый никому не нужный из родственников и бывших депутатов, – жалкая горстка единокровной родни, намеревавшейся, несмотря на все мольбы Мегги о скромной свадьбе, сопровождать жениха к алтарю. Не слишком внушительный эскорт, но у самой Мегги, судя по всему, и того не наберется, ибо у нее, с одной стороны, не имеется достаточного количества родственников, а с другой – она не пожелала возместить их нехватку, приглашая на церемонию всех встречных и поперечных. Князь, заинтригованный таким подходом к делу, полностью ему покорился, усматривая в этом приятное свидетельство ее разборчивости, что весьма ему импонировало. Мегги объяснила, что у них с отцом нет близких родственников и не хочется заменять их искусственными, поддельными родичами, набранными с бору по сосенке. О, знакомых у них предостаточно, но брак – дело интимное. Если имеются родные, можно в придачу пригласить и знакомых, но нельзя приглашать только знакомых, лишь бы прикрыть наготу и создать видимость того, чего нет на самом деле. Она точно знала, что имеет в виду и чего хочет, а он был вполне готов подчиниться, видя и в том и в другом доброе предзнаменование. Он ожидал найти в ней сильную личность, он желал этого; такой и должна быть его жена, и он не боялся, что личность окажется чересчур сильной. В свое время ему случалось иметь дело с людьми, наделенными сильным характером, а именно с тремя-четырьмя деятелями церкви и прежде всего с кардиналом, своим двоюродным дедушкой, принимавшим активное участие в его воспитании и обучении; и ничего огорчительного для князя из этого не воспоследовало. И потому он с радостью приветствовал проявления той же черты в характере девушки, которой предстояло стать для него самым близким человеком.
Итак, в настоящую минуту он испытывал такое ощущение, словно все бумаги у него находятся в полном порядке и счета подведены, как никогда прежде, остается только захлопнуть портфель. Несомненно, портфель этот сам собой раскроется вновь с приездом компании из Рима; может быть, даже раньше, нынче же вечером, во время обеда на Портленд-Плейс, где мистер Вервер раскинул свой шатер, подобно Александру Македонскому, окружившему себя богатствами, отнятыми у Дария. Но в данную минуту, как я уже говорил, князя занимало, чем заполнить два-три часа, находившиеся в его непосредственном распоряжении. Он останавливался на углах, у перекрестков; на него волнами накатывало ощущение, о котором шла речь в начале нашей повести, источник которого был ясен, в отличие от исхода, – ощущение, что необходимо что-то сделать для себя, пока еще не поздно. Расскажи он об этом кому-нибудь из своих друзей, его подняли бы на смех. Не для себя разве, не для собственного ли блага собирается он взять в жены невероятно привлекательную девушку, чье очарование сочетается с самыми ощутимыми «перспективами»? Уж конечно, не только ради нее. Впрочем, князь был настолько склонен ощущать, не формулируя, что вскоре перед его мысленным взором явственно проступил образ друга, чье отношение нередко оказывалось ироничным. Отрешившись от мелькающих вокруг лиц, князь сосредоточился на этом своем внезапном порыве. Молодость и красоту пропускал он мимо себя, даже не повернув головы, но образ миссис Ассингем в скором времени заставил его окликнуть кеб. Ее-то молодость и красота в значительной мере ушли в прошлое, но застать ее дома (вещь вполне возможная) означало бы «сделать» наконец то, на что еще оставалось время, а именно – придать некую осмысленность своему беспокойному состоянию и, тем самым, может быть, избавиться от этого досадного чувства. Да что там – стоило князю признаться про себя, что предстоящее паломничество стоит затраченных на него усилий – она жила довольно далеко, на длинной Кадоган-Плейс, – как он сразу почувствовал себя спокойнее. Весьма уместно будет формально поблагодарить ее, причем именно сейчас, рассуждал князь сам с собой по дороге, – видимо, это его и тревожило. Правда, он было на мгновение неправильно истолковал этот импульс, истолковал его как побуждение смотреть в другую сторону – не в ту, которой адресовались взятые им на себя обязательства.
Миссис Ассингем как раз и олицетворяла собой те самые обязательства – эта симпатичная дама послужила направляющей силой, приведшей их в движение. Она заложила основу его брака, точно так же, как предок, папа римский, заложил основу всего его рода; впрочем, князь довольно смутно представлял себе, чего ради она это сделала, разве что опять-таки из какого-то извращенного романтизма. Князь ее не подкупал, не подговаривал, ничего не дал ей взамен, даже до сих пор не поблагодарил толком. Стало быть, если и была у нее, выражаясь вульгарно, какая-то корысть, то исключительно связанная с Верверами.
Но князь нашел в себе силы вспомнить, что он далек от мысли, будто миссис Ассингем получила банальное вознаграждение за свои хлопоты. Он абсолютно уверен, что ничего подобного не было, ибо если люди и вправду делятся на тех, кто берет подарки, и тех, кто не берет, то эта дама, безусловно, относится к правой стороне, к разряду гордецов. С другой стороны, в таком случае ее бескорыстие поистине чудовищно, ведь оно подразумевает бездонное доверие. Она замечательно дружески настроена по отношению к Мегги – можно даже сказать, что наличие такой подруги является для Мегги «даром судьбы», в числе прочих ее даров, но выразилась эта привязанность в том, что миссис Ассингем намеренно свела их вместе. Познакомившись с князем зимою в Риме, встретив его затем в Париже и с самого начала почувствовав к нему «симпатию», как она впоследствии откровенно ему рассказывала, миссис Ассингем мысленно предназначила его для своей юной подруги и, несомненно, в таком духе и представила его ей. Но симпатия по отношению к Мегги – вот в этом-то все и дело! – немногого бы стоила, не будь рядом симпатии к самому князю. На чем же основывалось это непрошеное и ничем не вознагражденное чувство? Что хорошего мог он для нее сделать? (Очень похожий вопрос возникал и в отношении мистера Вервера.) В представлении князя вознаградить женщину (равно как и вызвать у нее интерес) значило – ухаживать за нею. Он же, насколько мог судить, ни минуты не ухаживал за миссис Ассингем, и она, он был уверен, ни на минуту не вообразила себе этого. В те дни ему нравилось отмечать про себя женщин, за которыми он не ухаживал: он видел в этом приятный символ нового этапа своей жизни, в отличие от того времени, когда он любил отмечать именно тех, за кем ухаживал. И при всем при том миссис Ассингем никогда не подавала ни малейшего намека на злость или обиду. Да видела ли она в нем вообще хоть какие-нибудь недостатки? Трудно понять, что движет этими людьми, и оттого становится даже немного страшно; это усиливает ощущение загадочности – единственное, что омрачает его удачу. Он вспомнил, как читал в детстве удивительную повесть Аллана По, соотечественника его будущей жены, – вот, между прочим, доказательство, что и у американца может быть воображение, – повесть о Гордоне Пиме, который, потерпев кораблекрушение и дрейфуя в маленькой лодочке по воле волн, подплыл так близко к северному полюсу – или к южному? – как никто еще до него не плавал, и вдруг оказался перед стеной белого тумана, похожей на занавес из ослепительного света, скрывающего все вокруг, подобно непроглядному мраку, но по цвету напоминающего молоко или свежевыпавший снег. Минутами у князя появлялось чувство, что его лодка тоже приближается к подобному таинственному явлению. Состояние духа его новых друзей, и в том числе миссис Ассингем, во многом походило на огромный белый занавес. Он больше привык к пунцовым драпировкам, даже до черноты, занавешивающим нечто темное и зловещее. Если за ними скрывались какие-то сюрпризы, то сюрпризы эти чаще всего бывали сопряжены со значительными потрясениями.
Впрочем, сейчас его окружали совершенно иные глубины, не грозившие как будто никакими потрясениями. Другое озадачивало князя – подыскивая подходящее название, он определил бы эту неизвестную величину как избыток доверия по отношению к его собственной особе. Очень часто за прошедший месяц он с замиранием сердца вновь и вновь изумлялся тому, грубо выражаясь, какие надежды возлагают на него окружающие. Самое удивительное, что от него как будто не ждали каких-то определенных свершений, а скорее, просто-напросто с полной безмятежностью предполагали у него некие неназванные, но неисчислимые и необыкновенные достоинства. Словно князь был старинной монетой удивительной чеканки и небывалого по чистоте золота, с великолепным средневековым гербом, «стоимость» которой, выраженная в современных соверенах и полукронах, достаточно велика, но говорить о стоимости подобных монет попросту неуместно, так как ценность их гораздо глубже и тоньше. Этот образ отражал для князя открывавшееся перед ним будущее: сделаться чьей-то собственностью, ценность которой, однако, не исчерпывается стоимостью ее составных частей. А что это означает на практике, как не то, что ему никогда не придется проверить собственную стоимость? Как не то, что, пока его не «разменяют», ни он сам и ни кто-либо другой не сможет узнать, сколько он в состоянии предъявить фунтов, шиллингов и пенсов? В настоящую минуту ответа на эти вопросы не было и быть не могло. Одно только было ясно: ему приписывают какие-то качества. Его принимают всерьез. Где-то там, в белом тумане, скрывается присущая им серьезность; она-то и заставляет их относиться к нему соответственно. Этим качеством наделена даже миссис Ассингем, одаренная чуть более ехидным характером, что она не раз доказывала на деле. Пока князь мог сказать только одно: он еще не сделал ничего, что могло бы разрушить чары. А что будет, если сегодня вечером он спросит ее напрямик, что скрывается за непроницаемым покровом? Это, по сути, было бы все равно что спросить, чего от него ждут. Она, скорее всего, скажет: «Ах, тут дело, знаешь ли, в том, каким мы ожидаем тебя видеть!» – а уж на это ему ровным счетом нечего будет ответить, кроме как признаться в полном своем неведении по этому поводу. Может быть, тогда чары развеются – если он скажет, что не имеет ни малейшего представления? Да и откуда было взяться такому представлению? Он и сам относился к себе серьезно, очень серьезно, но ведь тут не просто капризы и претензии. Со своей самооценкой он бы так или иначе справился, а вот они, что бы там ни говорили, рано или поздно захотят испытать его на практике. А поскольку испытание на практике неизбежно находится в пропорции с нагромождением приписываемых ему достоинств, получаются такие масштабы, какие ему, во всяком случае, охватить не под силу. Кто, кроме миллиардера, может определить достойный эквивалент для миллиарда? Вот что на самом деле скрывается за таинственной завесой, но, выходя из кеба на Кадоган-Плейс, князь чувствовал, что немного приблизился к занавесу. И он дал себе слово по крайней мере попытаться отогнуть краешек.
2
– Сейчас не самое лучшее время, знаете ли, – сказал он Фанни Ассингем вслед за тем, как выразил свою радость по поводу того, что застал ее дома, а потом за чашечкой чая рассказал ей последние новости о документах, подписанных час тому назад высокими договаривающимися сторонами, и о телеграмме от родственников, которые прибыли накануне утром в Париж и от души радовались происходящему, бедняжечки.
– Мы по сравнению с вами люди простые, обыкновенная деревенская родня, – заметил он между прочим. – Для сестры с мужем Париж – это чуть ли не край света. А уж Лондон находится практически на другой планете. Для них Лондон – нечто вроде Мекки, как и для многих из нас, но нынче они впервые по-настоящему отправились с караваном в путь; до сих пор «старушка Англия» представлялась им преимущественно как своего рода лавка, торгующая изделиями из кожи и резины, в которые они и старались по возможности одеваться. А стало быть, вы увидите на их лицах бесконечные улыбки, на всех без исключения. Вы уж, пожалуйста, будьте с ними помягче. Мегги просто бесподобна и готовится с размахом. Непременно хочет, чтобы sposi[3 - Супруги (ит.).]и мой дядюшка поселились у нее. Остальные поедут ко мне. Я заказал для них комнаты в отеле – и это, кстати, напоминает мне о совершившейся час назад процедуре с торжественным подписанием всяческих важных бумаг.
– Неужели трусите? – спросила хозяйка дома со смехом.
– Ужасно трушу. Мне теперь остается одно: дожидаться, пока чудовище приблизится вплотную. Не лучшее время: болтаешься между небом и землей. Ничего еще не получил, но можешь все потерять. Мало ли что может случиться.
Она рассмеялась, и это на какую-то секунду вызвало у князя раздражение: ему почудилось, что смех доносится из-за белого занавеса. Иначе говоря, смех этот свидетельствовал о нерушимом душевном спокойствии миссис Ассингем и потому тревожил вместо того, чтобы успокаивать. А ведь князь для того и пришел сюда в своем мистическом нетерпении, чтобы его успокоили, умиротворили, дали всему происходящему такое объяснение, которое он мог бы понять и принять.
– Так значит, – спросила миссис Ассингем, – вы называете брак чудовищем? Признаю, брак – дело довольно страшное, и это в лучшем случае, но, бога ради, не убегайте от него, если у вас на уме бегство.
– О, убежать сейчас значило бы – убежать от вас, – ответствовал князь. – Я вам уже достаточно часто повторял, что целиком полагаюсь на вас: вы поможете мне достойно пережить все это. – Ему понравилось, как она восприняла его слова, сидя в уголке дивана, понравилось настолько, что он более развернуто оформил словами свой порыв откровенности – если это и в самом деле была откровенность. – Я отправляюсь в великое путешествие по морям неведомого; корабль мой снаряжен, снасти налажены, груз уложен в трюм и набрана команда. Но вся беда в том, что я, как видно, не могу пуститься в плавание в одиночку. Необходимо, чтобы корабль мой был одним из пары, чтобы в безбрежном океане его повсюду сопровождал – как бишь это называется? – консорт. Я не прошу вас находиться постоянно вместе со мной на палубе, но мне необходимо видеть перед собою ваши паруса, чтобы не сбиться с курса. Сам я, торжественно заверяю вас, не разбираюсь даже в показаниях компаса. Но я вполне в состоянии следовать за лоцманом. Вам придется быть моим лоцманом.
– А знаете вы разве, – спросила она, – куда я вас заведу?
– Да ведь до сих пор вы замечательно руководили мною. Без вас я бы и сюда не добрался. Вы снабдили меня кораблем и если не ввели за ручку на палубу, то, по крайней мере, великодушно проводили до самого дока. Ваш собственный корабль весьма кстати стоит у соседнего причала, вы не можете меня бросить на произвол судьбы в такой ответственный момент.
И снова она весело засмеялась – как показалось князю, даже чересчур весело; похоже, с удивлением заметил молодой человек, она тоже немного нервничает; короче говоря, она реагировала на его слова так, словно он не высказывал глубокие истины, а просто болтал всякий милый вздор для ее развлечения.
– Корабль, мой милый князь? – улыбнулась она. – Ну какой там у меня корабль? Этот маленький домик – вот и весь наш с Бобом корабль. Мы и за то благодарны судьбе. Мы долго бродили по свету, перебивались, можно сказать, с хлеба на воду, негде было даже голову преклонить. Но вот, наконец, пришло время нам отдохнуть.
На это молодой человек откликнулся возмущенным протестом: