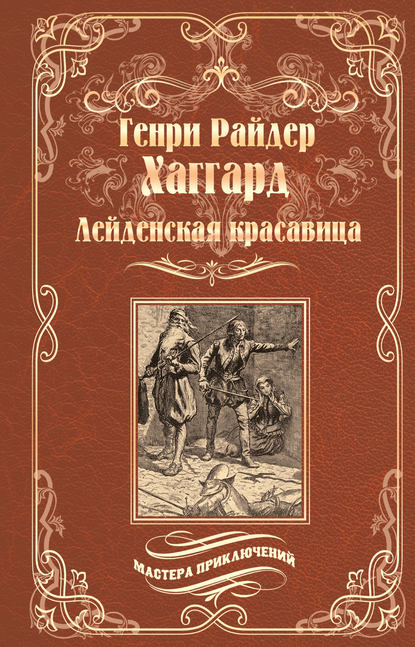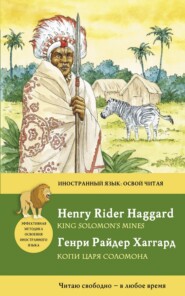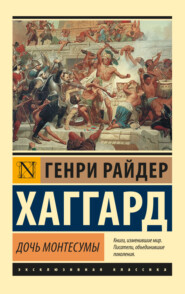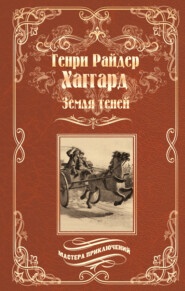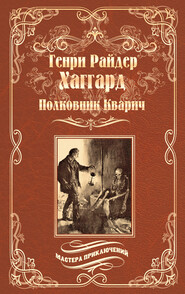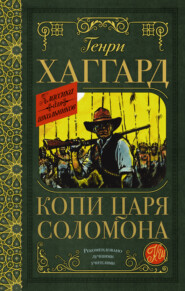По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лейденская красавица
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тогда, менеер, если бы я был обыкновенный человек, я внял бы голосу умирающего от голода населения и сдался.
– А если бы вы были великим человеком?
– Если бы я был великим человеком… Тогда я открыл бы плотины и снова допустил бы морские волны биться о стены Лейдена. Армия не может жить в соленой воде, менеер.
– Но при этом вы потопили бы фермеров и разорили страну на двадцать лет.
– Совершенно верно. Но когда надо спасти зерно, кто думает о спасении соломы?
– Слушаю вас, сеньор. Ваша пословица хороша, хотя мне никогда не приходилось слышать ее.
– Немало хороших вещей идет из Испании, менеер, в том числе и это красное вино. Позвольте выпить еще стакан с вами, и, если не возражаете, я скажу вам: вы – человек, с которым приятно встретиться и со стаканом в руке, и с мечом.
– Надеюсь, что вы всегда будете обо мне такого мнения, – отвечал ван де Верф, осушая свой кубок, – встретимся ли мы с вами за столом или на поле битвы.
После этого Питер отправился домой и, прежде чем лечь спать, тщательно записал все, что слышал от испанца о военных диспозициях как атакующих, так и осажденных, а под своими заметками написал пословицу о зерне и соломе. Не было видимой причины, почему ван де Верфу, простому гражданину, занятому торговлей, пришло в голову сделать это, но он оказался предусмотрительным молодым человеком. Он как будто знал, что может произойти многое, чего никак нельзя предвидеть в данную минуту. Случилось так, что через много лет ему пришлось воспользоваться советами Монтальво. Все, знакомые с историей Нидерландов, знают, как бургомистр Питер ван де Верф спас Лейден от испанцев.
Что касается Дирка ван Гоорля, он добрел до своей квартиры, опираясь на руку дона Хуана де Монтальво.
Глава IV. Три пробуждения
На другое утро после санного бега в Лейдене было три человека, с мыслями которых при их пробуждении небезынтересно познакомиться читателю. Первый из них – Дирк ван Гоорль, которому всегда приходилось рано вставать по своим обязанностям и которого в это утро отчаянная головная боль разбудила как раз в ту минуту, когда часы на городской башне пробили половину пятого. Ничто не оказывает такого неприятного влияния на расположение духа, как пробуждение от сильной головной боли в половине пятого, среди холодного мрака зимнего утра. Однако, лежа и раздумывая, Дирк пришел к убеждению, что его дурное расположение духа происходит не только от головной боли или холода.
Одно за другим ему вспомнились события предыдущего дня. Прежде всего он опоздал ко времени, назначенному для встречи с Лизбетой, что очевидно рассердило ее. Затем появился капитан Монтальво и увез ее, как коршун уносит цыпленка из-под носа у наседки, между тем как он сам, Дирк, осел этакий, даже не нашел слова протеста. После этого, считая себя обязанным держать пари за сани, в которых сидела Лизбета, несмотря на то что ими правил испанец, он проиграл десять флоринов, и это было вовсе не по душе такому расчетливому молодому человеку, как он. Остальное время праздника на льду он провел в поисках Лизбеты, таинственно исчезнувшей с испанцем, причем не только скучал, но еще и беспокоился. Наконец, настал ужин, где опять граф выхватил у него из-под носа Лизбету, предоставив ему стать кавалером тети Клары, которую он не любил, считая за старую дуру, и которая, испортив его новый камзол, в конце концов объявила, что он не умеет одеваться. И это еще не все: Дирк чувствовал, что выпил больше, чем следовало, так как об этом ему докладывала его голова. А в довершение всего он вернулся домой под руку с этим самым испанцем и, ей Богу, на пороге своего дома клялся ему в верной дружбе.
Без сомнения, граф оказался необычайно добрым малым для испанца. Что же касается поступка на бегах, он дал ему вполне удовлетворительное объяснение и принял свое поражение как джентльмен. Что могло быть любезнее и тактичнее упоминания о Питере в его застольной речи? Также и в своем отношении к несчастной Марте, историю которой Дирк знал хорошо, – и это было важнее всего остального, – Монтальво выказал себя терпимым и добрым человеком.
Надо сказать сразу, что Дирк был лютеранин: он был принят в эту секту два года тому назад[13 - Хаггард, видимо, заблуждается, называя своего героя лютеранином – к тому времени нидерландцы были в основном кальвинистами (см. ранее примеч. о Мартине Лютере).]. Быть лютеранином в те дни в Нидерландах значило – это едва ли нуждается в объяснении – жить, вечно чувствуя у себя на шее железный ошейник и имея перед глазами колесо или костер. Это обстоятельство заставляло смотреть на религию более серьезно, чем большинство смотрит на нее в нашем столетии. Однако и в то время страшные казни, которыми каралось вероотступничество, не удерживали многих бюргеров и людей низшего класса от поклонения Богу по-своему. Из всех присутствовавших на ужине у Лизбеты большинство, в том числе и Питер ван де Верф, были тайными приверженцами новой веры. Но, оставляя в стороне религиозные соображения, Дирк не мог не пожалеть в душе, что добродушный испанец так красив и что он так умеет ценить красоту лейденских дам, особенно Лизбеты, которая, как ему признался сам Монтальво, произвела на него сильное впечатление. Больше всего Дирк опасался, что подобное восхищение могло оказаться обоюдным. В конце концов, испанский идальго и комендант крепости – лицо незаурядное, и, к несчастью, Лизбета также была католичка. Дирк любил Лизбету. Он любил ее с терпеливой искренностью, характерной для его национальности и его собственного темперамента. Но, кроме уже упомянутых выше причин, разница религий воздвигала стену между ними. Лизбета, конечно, и не подозревала ничего подобного. Она даже не знала, что Дирк принадлежит к новой вере. Он же без разрешения старейшин своей секты не мог открыться ей – слишком опасно было вверить молодой девушке жизнь многих людей и их семей.
В этом заключалась причина, почему он, при всей своей преданности Лизбете, даже думая, что она неравнодушна к нему, ни одним словом не намекнул ей на свое чувство и не сватался к ней. Как мог он, лютеранин, предлагать католичке стать его женой, не сказав ей всей правды? А если бы он открыл ей все и она решилась бы рисковать собой, какое право имел он завлекать ее в эти ужасные сети? Предположив даже, что она не изменила бы своей вере, имея на то полное право, он, в свою очередь, обязан был бы стараться обратить ее, а детей их, если бы они появились у них, пришлось бы воспитать в вере отца. Рано или поздно явился бы доносчик – один из тех ужасных доносчиков, тень которых нависала над тысячами нидерландских семей, а за ним офицер, потом монах, судья и, наконец, палач и костер.
Что стало бы в таком случае с Лизбетой? Она могла бы доказать свою невиновность в ереси, если к тому времени действительно не была бы еще виновна в ней, но какова стала бы жизнь любящей женщины, муж и дети которой томились бы в тюрьмах папской инквизиции? В этом заключалась главная причина, почему Дирк молчал даже в те минуты, когда испытывал сильнейшее искушение заговорить, хотя внутреннее чувство и подсказывало ему, что его молчание истолковывалось иначе – приписывалось избытку осторожности, равнодушию или излишней щепетильности.
Вторым человеком, мысли которого, безусловно, интересны читателю, была Лизбета. У нее хоть и не болела голова (а этим и в ее время часто страдали женщины ее класса), но были другие огорчения, с которыми ей предстояло справиться.
Когда она стала разбираться в них и раздумывать, все они разрешались чувством негодования на Дирка ван Гоорля. Дирк опоздал на свидание, приводя смешное оправдание про остывающий колокол, как будто ей было до этого дело. Результатом была встреча с этой ужасной женщиной, Мартой-Кобылой, затем с Черной Мег и, наконец, с испанцем. Здесь опять Дирк выказал непростительное равнодушие и недогадливость, допустив Лизбету принять против воли приглашение испанца. Дирк даже высказал свое согласие на это. Затем одно за другим следовали события этого злополучного карнавала – бег, покушение на соперника, кошмар, о котором в продолжение вечера ей постоянно напоминало лицо Монтальво: допрос Марты, ее собственная не преднамеренная, но несомненная ложь, катание наедине с человеком, принудившим ее произнести ложную клятву, появление перед всеми с ним как с добровольно выбранным ею спутником, наконец, ужин, во время которого испанец явился ее кавалером, между тем как простодушная компания гостей ухаживала за ним, как за существом высшего порядка, случайно попавшим в их среду.
Какие намерения были у Монтальво? Без сомнения, Лизбета была в этом уверена, он намеревался показать, что ухаживает за ней, иначе нельзя было истолковать его поступки. И теперь – это было самое ужасное – она в сущности была у него в руках, потому что при желании ему ничего не стоило доказать, что она произнесла ложную клятву. Самая ложь также тяготила Лизбету, хотя и была произнесена с добрым намерением, если только действительно хорошо было спасать фанатичку от ее судьбы.
Без сомнения, испанец был дурной человек, хотя и привлекательный, и поступил дурно, при всем своем умении держать себя и при всех своих блестящих манерах. Но чего можно было ожидать от испанца, преследовавшего свои собственные цели? Дирк один… один он во всем виноват… и не столько своей вчерашней ненаходчивостью, сколько своим поведением вообще. Почему он не устроил так, чтобы обезопасить ее от подобных случаев, на которые всегда рискует наткнуться женщина ее красоты и положения? Святым известно, что со своей стороны она сделала все, чтобы дать ему случай высказаться. Она дошла до пределов того, что может позволить себе девушка, и ни один Дирк на свете не заставит ее сделать ни одного шага дальше. И что ей так понравилось его глупое лицо? Почему она отказала такому-то и такому-то, все приличным женихам, и стала в такое положение, что молодые люди уже не подходят к ней, как бы подозревая, что она дала слово своему родственнику? Прежде она уверяла себя, что ее привлекает в Дирке что-то такое, что она чувствует, но не видит: скрытое благородство характера, слабо проявляющееся внешне. Но где же оно, это благородство? Без сомнения, настоящий мужчина должен был бы вступиться и не ставить ее в такое ложное положение. Средства к жизни не могли служить препятствием, она не пришла бы к нему с пустыми руками и даже, напротив, принесла бы с собой кое-что. К несчастью, к своей досаде, она продолжала любить его. Если бы не это, она никогда, никогда не сказала бы ему больше ни одного слова.
Последним из наших героев, проснувшимся в это знаменательное утро между девятью и десятью часами, когда Дирк уже успел два часа просидеть у себя в конторе, а Лизбета – побывать на рынке, был блестящий офицер, граф дон Хуан де Монтальво. Открыв свои темные глаза, он несколько секунд смотрел в потолок, собираясь с мыслями. Затем, сев в постели, он залился хохотом. Вся эта история была слишком потешна, чтоб веселому человеку не посмеяться ей. Этот простофиля Дирк ван Гоорль, взбешенная, но беспомощная Лизбета, надутые крепкоголовые нидерландцы, которых он всех заставил играть в нужной ему тональности, как струны на скрипке, – да, все это было восхитительно.
Как читатель мог уже догадаться, Монтальво не был типичным испанцем – героем романа или историческим лицом. Он не был ни мрачен или сосредоточен, ни особенно мстителен или кровожаден. Напротив, он был веселого характера, без всяких правил, остроумный и добрый малый, за что пользовался всеобщим расположением. Кроме того, он был храбрый, хороший солдат, симпатичный в некотором смысле и, странно сказать, не ханжа. Говоря по правде, в те времена это было редкостью. Его религиозные взгляды так расширились, что в конце концов у него их вовсе не осталось. Поэтому он только изредка поддавался какому-нибудь мимолетному суеверию, вообще же не питал никаких духовных надежд или страхов, что, по его мнению, доставляло ему много преимуществ в жизни. В действительности, если бы того требовали его планы, Монтальво готов был стать кальвинистом, лютеранином, магометанином или даже анабаптистом – смотря по требованиям минуты. Он объяснил бы это тем, что артисту удобно нарисовать какую угодно картину на чистом полотне.
Между тем эта способность приспосабливаться, это отсутствие убеждений и нравственного чувства, которые должны были бы облегчить графу житейские сношения, были главной причиной его слабости. Судьба сделала его солдатом, и он нес эту судьбу, как нес бы всякую другую. Но по природе он был актер, и изо дня в день он играл в жизни то одну, то другую роль, но никогда не был самим собой, потому что не имел определенного характера. Однако где-то глубоко в душе Монтальво скрывалось что-то постоянное и самостоятельное, и это что-то было и не доброе, и не злое. Оно очень редко проявлялось наружу, рука обстоятельств должна была глубоко погрузиться в душу графа, чтобы извлечь это нечто. Но несомненно, непреклонный, жестокий испанский дух, готовый всем пожертвовать ради того, чтобы спастись или даже выдвинуться, жил в нем. Лизбета видела именно этот дух в глазах Монтальво накануне, когда, не надеясь больше на победу, граф пытался убить своего противника, рискуя быть убитым самому. И не в последний раз она видела эту скрытую черту характера Монтальво – еще два раза ей суждено было натолкнуться на нее и дрожать перед ней.
Хотя Монтальво вообще не любил жестокости, но при случае мог сам быть жесток до крайней степени. Хотя он ценил друзей и желал иметь их, однако мог сделаться самым низким предателем. Без причины он не тронул бы ни одно живое существо, однако, найдя причину достаточной, он мог спокойно обречь на смерть целый город. И при этом ему было бы нелегко: он стал бы сожалеть об обреченных и впоследствии вспоминал бы о них с грустью и даже с участием. Этим он отличался от большинства своих соотечественников и современников, которые сделали бы то же, но гораздо жестче, руководствуясь честными принципами, и впоследствии радовались бы всю жизнь при воспоминании о своем деле.
У Монтальво была одна господствующая страсть: не война и не женщины, но деньги. Однако он любил не сами деньги, так как не был скуп и, будучи игроком, никогда не мог отложить ни гроша, – он любил тратить деньги, сорить ими.
В отличие от многих своих соотечественников, он мало обращал внимания на женщин, даже не любил их общества и увлечение ими считал обузой. Но он любил вызывать их восхищение, так что за неимением лучшего готов был выбиваться из сил, чтобы приобрести себе поклонницу в лице какой-нибудь служанки или рыбной торговки.
Все его усилия были направлены на то, чтобы всюду, где бы он ни показался, затмить в глазах городских красавиц всех остальных, и ради этого он поддерживал многочисленные любовные интриги, в сущности, вовсе не забавлявшие его. Удовлетворение тщеславия влекло за собой расходы, так как красавицы требовали денег и подарков, ему самому необходимы были наряды, лошади и все прочее, удовлетворяющее самому утонченному вкусу. Знакомых надо было принимать у себя, и притом так, чтобы у них являлось чувство, что их угощал испанский гранд.
Считаться грандом никогда не обходится дешево: и в наше время не один обедневший пэр знает, какая обуза титул без состояния. Монтальво носил титул – он был дворянин, но единственным его достоянием была башня, выстроенная одним из его воинственных предков в местности, прекрасно приспособленной для целей этого предка – ограбления проезжих во время их пути по узкому ущелью. Когда же путешественники перестали ездить этим путем или каким-то другим причинам разбойничество перестало составлять прибыльный промысел, доходы семьи Монтальво уменьшились и, наконец, совсем иссякли. Таким образом, последний представитель древнего рода оказался в положении заурядного военного, но, к несчастью для себя, обладающего разнообразными наклонностями, роковой страстью к игре и неимоверно гордящегося своим происхождением.
Быть может, Хуан де Монтальво сам не отдавал себя ясного отчета в этом, но у него было две цели в жизни: во-первых, удовлетворять все свои капризы и прихоти, а во-вторых, – и эта цель была второстепенной и несколько туманной, – восстановить свое родовое богатство. Обе цели сами по себе были вполне законны, и в те времена, когда можно было с успехом ловить рыбу в мутной воде, а человеку способному и настойчивому нетрудно было добиться блестящего положения, не представлялось причины сомневаться в том, что Монтальво добьется осуществления своих планов. Однако пока ему, несмотря на несколько представившихся случаев, ничего не удалось, хотя Монтальво было уже за тридцать. Причины неудач были различные, но в основании их лежал недостаток постоянства и изобретательности.
Человек, постоянно играющий роль, занимает многих, но не убеждает никого. Монтальво не мог убедить никого. Когда он разговаривал с монахами о тайнах религии, то даже монахи, в те времена большей частью люди недалекие, чувствовали, что присутствуют только при умственном упражнении. Когда он говорил о войне, его слушателям казалось, что в душе он только и думает что о любви. Когда он пел о любви, то особа, к которой он обращал свои речи, инстинктивно чувствовала, что он любит только самого себя, а не ее. И в этом женщины подходили ближе всего к истине: Монтальво действительно любил только самого себя. Ради самого себя он нуждался в больших деньгах, и целью его жизни стало так или иначе добыть эти деньги.
Но и в шестнадцатом столетии богатство не давалось само собой в руки каждому искателю приключений. Жалованье военные получали маленькое, и не всегда аккуратно, посторонний заработок был редок и быстро тратился. Даже выкуп за одного или двух богатых пленников скоро исчерпывался уплатой таких долгов чести, от которых нельзя было увернуться. Оставалась, конечно, возможность женитьбы. И в такой стране, как Нидерланды, где было много богатых невест, это не представлялось затруднительным для знатного, красивого, любезного испанца. Действительно, настало время, когда Монтальво должен был или жениться, или разориться: его долги, особенно карточные, возросли до громадной суммы, и он не мог ступить шагу, не встретив кредитора. К несчастью для него, многие из этих кредиторов имели доступ к властям, и таким образом произошло, что Монтальво получил извещение о необходимости предотвратить скандал из-за долгов вместе с угрозой, что в противном случае ему придется вернуться в Испанию, куда, правду сказать, его вовсе не тянуло. Одним словом, роковой час расплаты, который он всеми силами старался отдалить, настал, и женитьба, богатая женитьба являлась единственным выходом. Это был грустный итог для человека, имевшего свои причины, чтобы не желать вступать в брак. Но приходилось покориться.
Так случилось, что граф Монтальво, остановив свое внимание на красивой и богатой Лизбете ван Хаут как на единственной подходящей ему партии в Лейдене, пригласил молодую девушку в свои сани во время бега и очень старался быть приятным гостем в ее доме.
Пока все шло удачно, и более того, начало охоты было даже занимательным. Местное же общество после того, как Лизбета приняла приглашение быть его дамой во время бега и потом так долго каталась с ним наедине в лунную ночь, что, без сомнения, составляло теперь предмет бесконечных сплетен, было вполне подготовлено ко всякого рода вниманию, какое графу вздумалось бы оказать ей. И почему ему не поухаживать за девушкой свободной, по происхождению стоявшей ниже, но по богатству выше его? Правда, он знал, что ее имя соединялось с именем Дирка ван Гоорля. Он знал также, что молодые люди привязаны друг к другу, так как возвращаясь прошлой ночью, Дирк, может быть, имея на то причины, почтил его конфиденциальным полупризнанием. Но какое ему до этого дело, если они еще не помолвлены? А если б даже были помолвлены, то и тогда, разве не все равно? Но все же Дирк ван Гоорль являлся препятствием и, несмотря на то что он казался добрым малым и Монтальво было жаль его, необходимо было убрать его с дороги. Граф был убежден, что Лизбета – одно из тех упорных созданий, которые отказались бы от брака с ним, пока молодой лейденец не исчезнет с горизонта. А между тем Монтальво не желал дуэли хотя бы потому, что в дуэли всегда может произойти какая-нибудь неожиданность, а это был бы плохой исход. Точно так же не желал он быть замешанным в убийстве: во-первых, потому, что ему чрезвычайно неприятна была сама мысль об убийстве кого-либо без крайней на то необходимости, а во-вторых, потому, что убийство – не лучший путь, чтобы решить свои проблемы. Кроме того, нельзя было заранее предсказать, как взглянут власти на исчезновение молодого нидерландца почтенной фамилии.
Надо было подумать о другом средстве. Если этот молодой человек умрет, нельзя заранее сказать, как Лизбета отнесется к его смерти. Ей, может, вдруг вздумается отказаться от замужества или оплакивать своего жениха лет пять. Оба решения оказались бы одинаково невыгодными для планов Монтальво. А между тем, пока Дирк жив, есть ли возможность заставить Лизбету перенести на другого ее расположение? Таким образом, получалось, что Дирку необходимо умереть. С четверть часа Монтальво раздумывал над этим вопросом и, наконец, когда он уже готов был предоставить все дело случаю, в его голове блеснула блестящая, гениальная мысль.
Дирк не умрет, он будет жить, но его жизнь будет куплена ценою руки Лизбеты ван Хаут. Если она любит Дирка только вполовину того, как предполагает Монтальво, то, вероятно, согласится выйти замуж за кого угодно ради спасения дорогой головы: ведь девять десятых женщин способны на такой сентиментальный идиотизм. Кроме того, этот план имел и другие хорошие стороны, он был выгоден для всех. Дирк спасется от смерти, за что должен быть благодарен. Лизбета, кроме чести союза с графом, хотя, быть может, и временного, будет чувствовать небесное сияние добродетели, происходящее из сознания, что она сделала нечто весьма прекрасное и трагическое. Между тем как сам Монтальво, благодаря которому все получат такие выгоды, также воспользуется кое-чем.
Затруднение было в одном: как создать такое положение вещей? Как поставить Дирка в такое безвыходное положение, чтобы Лизбета проявила свое благородство ради его спасения? Вот если бы Дирк был еретиком! А не окажется ли он им и в самом деле? Трудно себе представить фигуру, более подходящую для роли еретика: плосколицый, с манерами святоши и носящий темные чулки. Монтальво заметил, что все еретики, мужчины и женщины, носили чулки темного цвета, может быть, имея в виду умерщвление плоти. Одно только несколько противоречило предположению Монтальво: молодой человек пил слишком много за ужином накануне. Впрочем, и между еретиками попадались такие, которые не прочь были выпить. И лучшие люди иногда спотыкаются. Еще старый монах-кастилец, учивший графа латыни, говорил: «Humanum est» etc[14 - «Человеческое есть» и т. д. (лат.).].
Таким образом, размышления Монтальво сводились к следующему: для того чтобы выпутаться из затруднительного положения, необходимо, во-первых, чтобы Лизбета ван Хаут через три месяца стала его женой. Во-вторых, если окажется невозможным устранить с дороги Дирка ван Гоорля, отбив у него привязанность молодой девушки или возбудив ее ревность (вопрос: возможно ли заставить женщину так приревновать этого пентюха, чтобы она с досады решилась выйти за другого?), надо принять более суровые меры. В-третьих, эти более суровые меры должны состоять в том, чтобы принудить Лизбету спасти ее возлюбленного от костра, соединившись браком с человеком, ради нее вошедшим в сделку со своей совестью и подстроившим это спасение. В-четвертых, самый лучший способ приведения всего этого в исполнение – доказать, что возлюбленный – еретик, а если, к несчастью, этого нельзя будет доказать, то все же выставить его еретиком. И в-пятых, пока как можно чаще видеться с менеером ван Гоорлем, потому что, вообще, при существующих обстоятельствах, сближение необходимо, а кроме того, у него при случае можно и денег перехватить.
Розыски еретиков тоже стоят денег, так как придется прибегнуть к услугам шпионов. Само собой разумеется, что друг Дирк, голландский каплун, должен сам доставить масло, на котором его станут жарить. И Монтальво закончил свое размышление так же, как начал его, громким раскатом смеха, после чего он встал и принялся за вкусный завтрак.
Был уже шестой час пополудни, когда капитан и исполняющий должность коменданта Монтальво вернулся со службы домой. Надо сказать, что он был усердный и дельный служака. Его встретил солдат-денщик, выбранный им за молчаливость и скрытность, ожидая приказаний.
– Женщина здесь? – спросил Монтальво.
– Здесь, ваше сиятельство, хоть и нелегко ее было доставить сюда: я застал ее в постели, больной.
– Какое мне дело, что было трудно? Где она?
– В вашей комнате, ваше сиятельство!
– Хорошо. Смотри, чтоб никто не помешал нам, а когда она выйдет отсюда, следи за ней, пока она не дойдет до дома.
Солдат снова взял под козырек, а Монтальво вошел в комнату, тщательно заперев дверь за собой. Комната была не освещена, но через большое сводчатое окно лился яркий лунный свет, и при нем Монтальво увидел сидящую на стуле с прямой спинкой темную закутанную фигуру. Было что-то странное, почти сверхъестественное в этой фигуре, сидевшей в молчаливом ожидании. Она напомнила ему – иногда фантазия его разыгрывалась совершенно некстати – хищную птицу, сидящую на обрубке высохшего дерева в ожидании рассвета, когда она собирается слететь на ожидающую ее добычу.
– Это ты, тетушка Мег? – спросил он совершенно серьезно. – Совсем как в старое время, в Халле, не правда ли?
Освещенная луной фигура повернула голову. Монтальво увидел, как свет отразился на белках ее глаз.
– Кто же как не я, ваше сиятельство, – отвечал охрипший от простуды голос, напоминавший карканье ворона, – хотя, правду сказать, не вашими молитвами жива. Крепкое надо иметь здоровье, чтобы не захворать, выкупавшись в проруби.
– Не ворчи: мне некогда слушать твою воркотню. Что тебя выкупали вчера, так поделом, за твою проклятую недогадливость. Разве ты не видела, что я веду свою линию, а ты портишь мне все. Я сделался бы посмешищем для своих людей, если б стал слушать, как ты предостерегаешь меня против девицы, расположение которой я желаю сохранить.
– А если бы вы были великим человеком?
– Если бы я был великим человеком… Тогда я открыл бы плотины и снова допустил бы морские волны биться о стены Лейдена. Армия не может жить в соленой воде, менеер.
– Но при этом вы потопили бы фермеров и разорили страну на двадцать лет.
– Совершенно верно. Но когда надо спасти зерно, кто думает о спасении соломы?
– Слушаю вас, сеньор. Ваша пословица хороша, хотя мне никогда не приходилось слышать ее.
– Немало хороших вещей идет из Испании, менеер, в том числе и это красное вино. Позвольте выпить еще стакан с вами, и, если не возражаете, я скажу вам: вы – человек, с которым приятно встретиться и со стаканом в руке, и с мечом.
– Надеюсь, что вы всегда будете обо мне такого мнения, – отвечал ван де Верф, осушая свой кубок, – встретимся ли мы с вами за столом или на поле битвы.
После этого Питер отправился домой и, прежде чем лечь спать, тщательно записал все, что слышал от испанца о военных диспозициях как атакующих, так и осажденных, а под своими заметками написал пословицу о зерне и соломе. Не было видимой причины, почему ван де Верфу, простому гражданину, занятому торговлей, пришло в голову сделать это, но он оказался предусмотрительным молодым человеком. Он как будто знал, что может произойти многое, чего никак нельзя предвидеть в данную минуту. Случилось так, что через много лет ему пришлось воспользоваться советами Монтальво. Все, знакомые с историей Нидерландов, знают, как бургомистр Питер ван де Верф спас Лейден от испанцев.
Что касается Дирка ван Гоорля, он добрел до своей квартиры, опираясь на руку дона Хуана де Монтальво.
Глава IV. Три пробуждения
На другое утро после санного бега в Лейдене было три человека, с мыслями которых при их пробуждении небезынтересно познакомиться читателю. Первый из них – Дирк ван Гоорль, которому всегда приходилось рано вставать по своим обязанностям и которого в это утро отчаянная головная боль разбудила как раз в ту минуту, когда часы на городской башне пробили половину пятого. Ничто не оказывает такого неприятного влияния на расположение духа, как пробуждение от сильной головной боли в половине пятого, среди холодного мрака зимнего утра. Однако, лежа и раздумывая, Дирк пришел к убеждению, что его дурное расположение духа происходит не только от головной боли или холода.
Одно за другим ему вспомнились события предыдущего дня. Прежде всего он опоздал ко времени, назначенному для встречи с Лизбетой, что очевидно рассердило ее. Затем появился капитан Монтальво и увез ее, как коршун уносит цыпленка из-под носа у наседки, между тем как он сам, Дирк, осел этакий, даже не нашел слова протеста. После этого, считая себя обязанным держать пари за сани, в которых сидела Лизбета, несмотря на то что ими правил испанец, он проиграл десять флоринов, и это было вовсе не по душе такому расчетливому молодому человеку, как он. Остальное время праздника на льду он провел в поисках Лизбеты, таинственно исчезнувшей с испанцем, причем не только скучал, но еще и беспокоился. Наконец, настал ужин, где опять граф выхватил у него из-под носа Лизбету, предоставив ему стать кавалером тети Клары, которую он не любил, считая за старую дуру, и которая, испортив его новый камзол, в конце концов объявила, что он не умеет одеваться. И это еще не все: Дирк чувствовал, что выпил больше, чем следовало, так как об этом ему докладывала его голова. А в довершение всего он вернулся домой под руку с этим самым испанцем и, ей Богу, на пороге своего дома клялся ему в верной дружбе.
Без сомнения, граф оказался необычайно добрым малым для испанца. Что же касается поступка на бегах, он дал ему вполне удовлетворительное объяснение и принял свое поражение как джентльмен. Что могло быть любезнее и тактичнее упоминания о Питере в его застольной речи? Также и в своем отношении к несчастной Марте, историю которой Дирк знал хорошо, – и это было важнее всего остального, – Монтальво выказал себя терпимым и добрым человеком.
Надо сказать сразу, что Дирк был лютеранин: он был принят в эту секту два года тому назад[13 - Хаггард, видимо, заблуждается, называя своего героя лютеранином – к тому времени нидерландцы были в основном кальвинистами (см. ранее примеч. о Мартине Лютере).]. Быть лютеранином в те дни в Нидерландах значило – это едва ли нуждается в объяснении – жить, вечно чувствуя у себя на шее железный ошейник и имея перед глазами колесо или костер. Это обстоятельство заставляло смотреть на религию более серьезно, чем большинство смотрит на нее в нашем столетии. Однако и в то время страшные казни, которыми каралось вероотступничество, не удерживали многих бюргеров и людей низшего класса от поклонения Богу по-своему. Из всех присутствовавших на ужине у Лизбеты большинство, в том числе и Питер ван де Верф, были тайными приверженцами новой веры. Но, оставляя в стороне религиозные соображения, Дирк не мог не пожалеть в душе, что добродушный испанец так красив и что он так умеет ценить красоту лейденских дам, особенно Лизбеты, которая, как ему признался сам Монтальво, произвела на него сильное впечатление. Больше всего Дирк опасался, что подобное восхищение могло оказаться обоюдным. В конце концов, испанский идальго и комендант крепости – лицо незаурядное, и, к несчастью, Лизбета также была католичка. Дирк любил Лизбету. Он любил ее с терпеливой искренностью, характерной для его национальности и его собственного темперамента. Но, кроме уже упомянутых выше причин, разница религий воздвигала стену между ними. Лизбета, конечно, и не подозревала ничего подобного. Она даже не знала, что Дирк принадлежит к новой вере. Он же без разрешения старейшин своей секты не мог открыться ей – слишком опасно было вверить молодой девушке жизнь многих людей и их семей.
В этом заключалась причина, почему он, при всей своей преданности Лизбете, даже думая, что она неравнодушна к нему, ни одним словом не намекнул ей на свое чувство и не сватался к ней. Как мог он, лютеранин, предлагать католичке стать его женой, не сказав ей всей правды? А если бы он открыл ей все и она решилась бы рисковать собой, какое право имел он завлекать ее в эти ужасные сети? Предположив даже, что она не изменила бы своей вере, имея на то полное право, он, в свою очередь, обязан был бы стараться обратить ее, а детей их, если бы они появились у них, пришлось бы воспитать в вере отца. Рано или поздно явился бы доносчик – один из тех ужасных доносчиков, тень которых нависала над тысячами нидерландских семей, а за ним офицер, потом монах, судья и, наконец, палач и костер.
Что стало бы в таком случае с Лизбетой? Она могла бы доказать свою невиновность в ереси, если к тому времени действительно не была бы еще виновна в ней, но какова стала бы жизнь любящей женщины, муж и дети которой томились бы в тюрьмах папской инквизиции? В этом заключалась главная причина, почему Дирк молчал даже в те минуты, когда испытывал сильнейшее искушение заговорить, хотя внутреннее чувство и подсказывало ему, что его молчание истолковывалось иначе – приписывалось избытку осторожности, равнодушию или излишней щепетильности.
Вторым человеком, мысли которого, безусловно, интересны читателю, была Лизбета. У нее хоть и не болела голова (а этим и в ее время часто страдали женщины ее класса), но были другие огорчения, с которыми ей предстояло справиться.
Когда она стала разбираться в них и раздумывать, все они разрешались чувством негодования на Дирка ван Гоорля. Дирк опоздал на свидание, приводя смешное оправдание про остывающий колокол, как будто ей было до этого дело. Результатом была встреча с этой ужасной женщиной, Мартой-Кобылой, затем с Черной Мег и, наконец, с испанцем. Здесь опять Дирк выказал непростительное равнодушие и недогадливость, допустив Лизбету принять против воли приглашение испанца. Дирк даже высказал свое согласие на это. Затем одно за другим следовали события этого злополучного карнавала – бег, покушение на соперника, кошмар, о котором в продолжение вечера ей постоянно напоминало лицо Монтальво: допрос Марты, ее собственная не преднамеренная, но несомненная ложь, катание наедине с человеком, принудившим ее произнести ложную клятву, появление перед всеми с ним как с добровольно выбранным ею спутником, наконец, ужин, во время которого испанец явился ее кавалером, между тем как простодушная компания гостей ухаживала за ним, как за существом высшего порядка, случайно попавшим в их среду.
Какие намерения были у Монтальво? Без сомнения, Лизбета была в этом уверена, он намеревался показать, что ухаживает за ней, иначе нельзя было истолковать его поступки. И теперь – это было самое ужасное – она в сущности была у него в руках, потому что при желании ему ничего не стоило доказать, что она произнесла ложную клятву. Самая ложь также тяготила Лизбету, хотя и была произнесена с добрым намерением, если только действительно хорошо было спасать фанатичку от ее судьбы.
Без сомнения, испанец был дурной человек, хотя и привлекательный, и поступил дурно, при всем своем умении держать себя и при всех своих блестящих манерах. Но чего можно было ожидать от испанца, преследовавшего свои собственные цели? Дирк один… один он во всем виноват… и не столько своей вчерашней ненаходчивостью, сколько своим поведением вообще. Почему он не устроил так, чтобы обезопасить ее от подобных случаев, на которые всегда рискует наткнуться женщина ее красоты и положения? Святым известно, что со своей стороны она сделала все, чтобы дать ему случай высказаться. Она дошла до пределов того, что может позволить себе девушка, и ни один Дирк на свете не заставит ее сделать ни одного шага дальше. И что ей так понравилось его глупое лицо? Почему она отказала такому-то и такому-то, все приличным женихам, и стала в такое положение, что молодые люди уже не подходят к ней, как бы подозревая, что она дала слово своему родственнику? Прежде она уверяла себя, что ее привлекает в Дирке что-то такое, что она чувствует, но не видит: скрытое благородство характера, слабо проявляющееся внешне. Но где же оно, это благородство? Без сомнения, настоящий мужчина должен был бы вступиться и не ставить ее в такое ложное положение. Средства к жизни не могли служить препятствием, она не пришла бы к нему с пустыми руками и даже, напротив, принесла бы с собой кое-что. К несчастью, к своей досаде, она продолжала любить его. Если бы не это, она никогда, никогда не сказала бы ему больше ни одного слова.
Последним из наших героев, проснувшимся в это знаменательное утро между девятью и десятью часами, когда Дирк уже успел два часа просидеть у себя в конторе, а Лизбета – побывать на рынке, был блестящий офицер, граф дон Хуан де Монтальво. Открыв свои темные глаза, он несколько секунд смотрел в потолок, собираясь с мыслями. Затем, сев в постели, он залился хохотом. Вся эта история была слишком потешна, чтоб веселому человеку не посмеяться ей. Этот простофиля Дирк ван Гоорль, взбешенная, но беспомощная Лизбета, надутые крепкоголовые нидерландцы, которых он всех заставил играть в нужной ему тональности, как струны на скрипке, – да, все это было восхитительно.
Как читатель мог уже догадаться, Монтальво не был типичным испанцем – героем романа или историческим лицом. Он не был ни мрачен или сосредоточен, ни особенно мстителен или кровожаден. Напротив, он был веселого характера, без всяких правил, остроумный и добрый малый, за что пользовался всеобщим расположением. Кроме того, он был храбрый, хороший солдат, симпатичный в некотором смысле и, странно сказать, не ханжа. Говоря по правде, в те времена это было редкостью. Его религиозные взгляды так расширились, что в конце концов у него их вовсе не осталось. Поэтому он только изредка поддавался какому-нибудь мимолетному суеверию, вообще же не питал никаких духовных надежд или страхов, что, по его мнению, доставляло ему много преимуществ в жизни. В действительности, если бы того требовали его планы, Монтальво готов был стать кальвинистом, лютеранином, магометанином или даже анабаптистом – смотря по требованиям минуты. Он объяснил бы это тем, что артисту удобно нарисовать какую угодно картину на чистом полотне.
Между тем эта способность приспосабливаться, это отсутствие убеждений и нравственного чувства, которые должны были бы облегчить графу житейские сношения, были главной причиной его слабости. Судьба сделала его солдатом, и он нес эту судьбу, как нес бы всякую другую. Но по природе он был актер, и изо дня в день он играл в жизни то одну, то другую роль, но никогда не был самим собой, потому что не имел определенного характера. Однако где-то глубоко в душе Монтальво скрывалось что-то постоянное и самостоятельное, и это что-то было и не доброе, и не злое. Оно очень редко проявлялось наружу, рука обстоятельств должна была глубоко погрузиться в душу графа, чтобы извлечь это нечто. Но несомненно, непреклонный, жестокий испанский дух, готовый всем пожертвовать ради того, чтобы спастись или даже выдвинуться, жил в нем. Лизбета видела именно этот дух в глазах Монтальво накануне, когда, не надеясь больше на победу, граф пытался убить своего противника, рискуя быть убитым самому. И не в последний раз она видела эту скрытую черту характера Монтальво – еще два раза ей суждено было натолкнуться на нее и дрожать перед ней.
Хотя Монтальво вообще не любил жестокости, но при случае мог сам быть жесток до крайней степени. Хотя он ценил друзей и желал иметь их, однако мог сделаться самым низким предателем. Без причины он не тронул бы ни одно живое существо, однако, найдя причину достаточной, он мог спокойно обречь на смерть целый город. И при этом ему было бы нелегко: он стал бы сожалеть об обреченных и впоследствии вспоминал бы о них с грустью и даже с участием. Этим он отличался от большинства своих соотечественников и современников, которые сделали бы то же, но гораздо жестче, руководствуясь честными принципами, и впоследствии радовались бы всю жизнь при воспоминании о своем деле.
У Монтальво была одна господствующая страсть: не война и не женщины, но деньги. Однако он любил не сами деньги, так как не был скуп и, будучи игроком, никогда не мог отложить ни гроша, – он любил тратить деньги, сорить ими.
В отличие от многих своих соотечественников, он мало обращал внимания на женщин, даже не любил их общества и увлечение ими считал обузой. Но он любил вызывать их восхищение, так что за неимением лучшего готов был выбиваться из сил, чтобы приобрести себе поклонницу в лице какой-нибудь служанки или рыбной торговки.
Все его усилия были направлены на то, чтобы всюду, где бы он ни показался, затмить в глазах городских красавиц всех остальных, и ради этого он поддерживал многочисленные любовные интриги, в сущности, вовсе не забавлявшие его. Удовлетворение тщеславия влекло за собой расходы, так как красавицы требовали денег и подарков, ему самому необходимы были наряды, лошади и все прочее, удовлетворяющее самому утонченному вкусу. Знакомых надо было принимать у себя, и притом так, чтобы у них являлось чувство, что их угощал испанский гранд.
Считаться грандом никогда не обходится дешево: и в наше время не один обедневший пэр знает, какая обуза титул без состояния. Монтальво носил титул – он был дворянин, но единственным его достоянием была башня, выстроенная одним из его воинственных предков в местности, прекрасно приспособленной для целей этого предка – ограбления проезжих во время их пути по узкому ущелью. Когда же путешественники перестали ездить этим путем или каким-то другим причинам разбойничество перестало составлять прибыльный промысел, доходы семьи Монтальво уменьшились и, наконец, совсем иссякли. Таким образом, последний представитель древнего рода оказался в положении заурядного военного, но, к несчастью для себя, обладающего разнообразными наклонностями, роковой страстью к игре и неимоверно гордящегося своим происхождением.
Быть может, Хуан де Монтальво сам не отдавал себя ясного отчета в этом, но у него было две цели в жизни: во-первых, удовлетворять все свои капризы и прихоти, а во-вторых, – и эта цель была второстепенной и несколько туманной, – восстановить свое родовое богатство. Обе цели сами по себе были вполне законны, и в те времена, когда можно было с успехом ловить рыбу в мутной воде, а человеку способному и настойчивому нетрудно было добиться блестящего положения, не представлялось причины сомневаться в том, что Монтальво добьется осуществления своих планов. Однако пока ему, несмотря на несколько представившихся случаев, ничего не удалось, хотя Монтальво было уже за тридцать. Причины неудач были различные, но в основании их лежал недостаток постоянства и изобретательности.
Человек, постоянно играющий роль, занимает многих, но не убеждает никого. Монтальво не мог убедить никого. Когда он разговаривал с монахами о тайнах религии, то даже монахи, в те времена большей частью люди недалекие, чувствовали, что присутствуют только при умственном упражнении. Когда он говорил о войне, его слушателям казалось, что в душе он только и думает что о любви. Когда он пел о любви, то особа, к которой он обращал свои речи, инстинктивно чувствовала, что он любит только самого себя, а не ее. И в этом женщины подходили ближе всего к истине: Монтальво действительно любил только самого себя. Ради самого себя он нуждался в больших деньгах, и целью его жизни стало так или иначе добыть эти деньги.
Но и в шестнадцатом столетии богатство не давалось само собой в руки каждому искателю приключений. Жалованье военные получали маленькое, и не всегда аккуратно, посторонний заработок был редок и быстро тратился. Даже выкуп за одного или двух богатых пленников скоро исчерпывался уплатой таких долгов чести, от которых нельзя было увернуться. Оставалась, конечно, возможность женитьбы. И в такой стране, как Нидерланды, где было много богатых невест, это не представлялось затруднительным для знатного, красивого, любезного испанца. Действительно, настало время, когда Монтальво должен был или жениться, или разориться: его долги, особенно карточные, возросли до громадной суммы, и он не мог ступить шагу, не встретив кредитора. К несчастью для него, многие из этих кредиторов имели доступ к властям, и таким образом произошло, что Монтальво получил извещение о необходимости предотвратить скандал из-за долгов вместе с угрозой, что в противном случае ему придется вернуться в Испанию, куда, правду сказать, его вовсе не тянуло. Одним словом, роковой час расплаты, который он всеми силами старался отдалить, настал, и женитьба, богатая женитьба являлась единственным выходом. Это был грустный итог для человека, имевшего свои причины, чтобы не желать вступать в брак. Но приходилось покориться.
Так случилось, что граф Монтальво, остановив свое внимание на красивой и богатой Лизбете ван Хаут как на единственной подходящей ему партии в Лейдене, пригласил молодую девушку в свои сани во время бега и очень старался быть приятным гостем в ее доме.
Пока все шло удачно, и более того, начало охоты было даже занимательным. Местное же общество после того, как Лизбета приняла приглашение быть его дамой во время бега и потом так долго каталась с ним наедине в лунную ночь, что, без сомнения, составляло теперь предмет бесконечных сплетен, было вполне подготовлено ко всякого рода вниманию, какое графу вздумалось бы оказать ей. И почему ему не поухаживать за девушкой свободной, по происхождению стоявшей ниже, но по богатству выше его? Правда, он знал, что ее имя соединялось с именем Дирка ван Гоорля. Он знал также, что молодые люди привязаны друг к другу, так как возвращаясь прошлой ночью, Дирк, может быть, имея на то причины, почтил его конфиденциальным полупризнанием. Но какое ему до этого дело, если они еще не помолвлены? А если б даже были помолвлены, то и тогда, разве не все равно? Но все же Дирк ван Гоорль являлся препятствием и, несмотря на то что он казался добрым малым и Монтальво было жаль его, необходимо было убрать его с дороги. Граф был убежден, что Лизбета – одно из тех упорных созданий, которые отказались бы от брака с ним, пока молодой лейденец не исчезнет с горизонта. А между тем Монтальво не желал дуэли хотя бы потому, что в дуэли всегда может произойти какая-нибудь неожиданность, а это был бы плохой исход. Точно так же не желал он быть замешанным в убийстве: во-первых, потому, что ему чрезвычайно неприятна была сама мысль об убийстве кого-либо без крайней на то необходимости, а во-вторых, потому, что убийство – не лучший путь, чтобы решить свои проблемы. Кроме того, нельзя было заранее предсказать, как взглянут власти на исчезновение молодого нидерландца почтенной фамилии.
Надо было подумать о другом средстве. Если этот молодой человек умрет, нельзя заранее сказать, как Лизбета отнесется к его смерти. Ей, может, вдруг вздумается отказаться от замужества или оплакивать своего жениха лет пять. Оба решения оказались бы одинаково невыгодными для планов Монтальво. А между тем, пока Дирк жив, есть ли возможность заставить Лизбету перенести на другого ее расположение? Таким образом, получалось, что Дирку необходимо умереть. С четверть часа Монтальво раздумывал над этим вопросом и, наконец, когда он уже готов был предоставить все дело случаю, в его голове блеснула блестящая, гениальная мысль.
Дирк не умрет, он будет жить, но его жизнь будет куплена ценою руки Лизбеты ван Хаут. Если она любит Дирка только вполовину того, как предполагает Монтальво, то, вероятно, согласится выйти замуж за кого угодно ради спасения дорогой головы: ведь девять десятых женщин способны на такой сентиментальный идиотизм. Кроме того, этот план имел и другие хорошие стороны, он был выгоден для всех. Дирк спасется от смерти, за что должен быть благодарен. Лизбета, кроме чести союза с графом, хотя, быть может, и временного, будет чувствовать небесное сияние добродетели, происходящее из сознания, что она сделала нечто весьма прекрасное и трагическое. Между тем как сам Монтальво, благодаря которому все получат такие выгоды, также воспользуется кое-чем.
Затруднение было в одном: как создать такое положение вещей? Как поставить Дирка в такое безвыходное положение, чтобы Лизбета проявила свое благородство ради его спасения? Вот если бы Дирк был еретиком! А не окажется ли он им и в самом деле? Трудно себе представить фигуру, более подходящую для роли еретика: плосколицый, с манерами святоши и носящий темные чулки. Монтальво заметил, что все еретики, мужчины и женщины, носили чулки темного цвета, может быть, имея в виду умерщвление плоти. Одно только несколько противоречило предположению Монтальво: молодой человек пил слишком много за ужином накануне. Впрочем, и между еретиками попадались такие, которые не прочь были выпить. И лучшие люди иногда спотыкаются. Еще старый монах-кастилец, учивший графа латыни, говорил: «Humanum est» etc[14 - «Человеческое есть» и т. д. (лат.).].
Таким образом, размышления Монтальво сводились к следующему: для того чтобы выпутаться из затруднительного положения, необходимо, во-первых, чтобы Лизбета ван Хаут через три месяца стала его женой. Во-вторых, если окажется невозможным устранить с дороги Дирка ван Гоорля, отбив у него привязанность молодой девушки или возбудив ее ревность (вопрос: возможно ли заставить женщину так приревновать этого пентюха, чтобы она с досады решилась выйти за другого?), надо принять более суровые меры. В-третьих, эти более суровые меры должны состоять в том, чтобы принудить Лизбету спасти ее возлюбленного от костра, соединившись браком с человеком, ради нее вошедшим в сделку со своей совестью и подстроившим это спасение. В-четвертых, самый лучший способ приведения всего этого в исполнение – доказать, что возлюбленный – еретик, а если, к несчастью, этого нельзя будет доказать, то все же выставить его еретиком. И в-пятых, пока как можно чаще видеться с менеером ван Гоорлем, потому что, вообще, при существующих обстоятельствах, сближение необходимо, а кроме того, у него при случае можно и денег перехватить.
Розыски еретиков тоже стоят денег, так как придется прибегнуть к услугам шпионов. Само собой разумеется, что друг Дирк, голландский каплун, должен сам доставить масло, на котором его станут жарить. И Монтальво закончил свое размышление так же, как начал его, громким раскатом смеха, после чего он встал и принялся за вкусный завтрак.
Был уже шестой час пополудни, когда капитан и исполняющий должность коменданта Монтальво вернулся со службы домой. Надо сказать, что он был усердный и дельный служака. Его встретил солдат-денщик, выбранный им за молчаливость и скрытность, ожидая приказаний.
– Женщина здесь? – спросил Монтальво.
– Здесь, ваше сиятельство, хоть и нелегко ее было доставить сюда: я застал ее в постели, больной.
– Какое мне дело, что было трудно? Где она?
– В вашей комнате, ваше сиятельство!
– Хорошо. Смотри, чтоб никто не помешал нам, а когда она выйдет отсюда, следи за ней, пока она не дойдет до дома.
Солдат снова взял под козырек, а Монтальво вошел в комнату, тщательно заперев дверь за собой. Комната была не освещена, но через большое сводчатое окно лился яркий лунный свет, и при нем Монтальво увидел сидящую на стуле с прямой спинкой темную закутанную фигуру. Было что-то странное, почти сверхъестественное в этой фигуре, сидевшей в молчаливом ожидании. Она напомнила ему – иногда фантазия его разыгрывалась совершенно некстати – хищную птицу, сидящую на обрубке высохшего дерева в ожидании рассвета, когда она собирается слететь на ожидающую ее добычу.
– Это ты, тетушка Мег? – спросил он совершенно серьезно. – Совсем как в старое время, в Халле, не правда ли?
Освещенная луной фигура повернула голову. Монтальво увидел, как свет отразился на белках ее глаз.
– Кто же как не я, ваше сиятельство, – отвечал охрипший от простуды голос, напоминавший карканье ворона, – хотя, правду сказать, не вашими молитвами жива. Крепкое надо иметь здоровье, чтобы не захворать, выкупавшись в проруби.
– Не ворчи: мне некогда слушать твою воркотню. Что тебя выкупали вчера, так поделом, за твою проклятую недогадливость. Разве ты не видела, что я веду свою линию, а ты портишь мне все. Я сделался бы посмешищем для своих людей, если б стал слушать, как ты предостерегаешь меня против девицы, расположение которой я желаю сохранить.