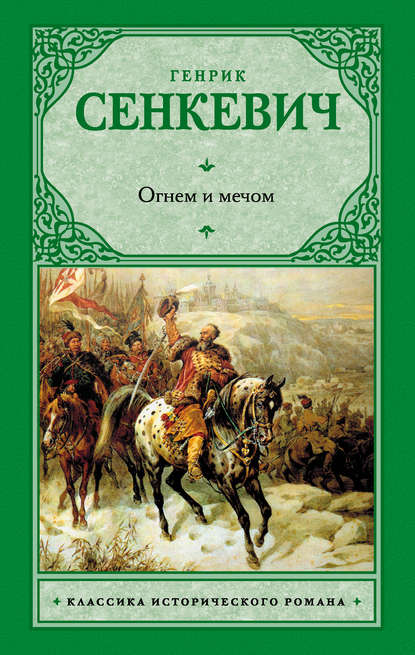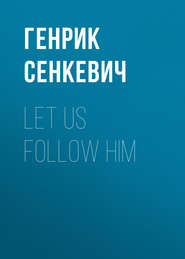По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огнем и мечом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Услыхав такое, княгиня отступила в угол сеней и, схватив рогатину, пошла на наместника. Князья тоже, похватав кто что мог – саблю, кистень, нож, – окружили его полукольцом, дыша, как свора бешеных волков.
– Ко князю пойдешь? – закричала княгиня. – А уйдешь ли живым отсюда? А не последний ли это час твой?
Скшетуский скрестил на груди руки и бровью не повел.
– Я в качестве княжеского посла возвращаюсь из Крыма, – сказал он, – и ежели тут хоть одна капля крови моей будет пролита, то через три дня от места этого и пепла не останется, а вы в лубенских темницах сгниете. Есть ли на свете сила, какая бы вас могла спасти? Не грозитесь же, не испугаете!
– Пусть мы погибнем, но подохнешь и ты!
– Тогда бей! Вот грудь моя.
Князья, предводительствуемые матерью, продолжали держать клинки нацеленными в наместникову грудь, но видно было, что некие незримые узы не пускали их. Сопя и скрежеща зубами, Булыги дергались в бессильной ярости, однако удара никто не наносил. Сдерживало их страшное имя Вишневецкого.
Наместник был хозяином положения.
Бессильный гнев княгини обратился теперь в поток оскорблений:
– Проходимец! Мелюзга! Голодранец! С князьями породниться захотел, так ничего же ты не получишь! Любому, только не тебе, отдадим, в чем нам и князь твой не указчик!
На что пан Скшетуский:
– Не время мне свое родословие рассказывать, но полагаю, что ваше княжеское сиятельство преспокойно могло бы за ним щит с мечом таскать. К тому же, если мужик вам хорош, то уж я-то получше буду. Что же касается достатков моих, то и они могут с вашими поспорить, а если даром Елену мне отдавать не хотите, не беспокойтесь – я тоже вас оставлю в Разлогах, расчетов по опеке не требуя.
– Не дари тем, что не твое.
– Не дарю я, но обязательство на будущее даю и в том ручаюсь словом рыцарским. Так что выбирайте – или князю отчет по опеке представите и от Разлогов отступитесь, или мне Елену отдадите, а имение удержите…
Рогатина медленно выскальзывала из княгининых рук и наконец со стуком упала на пол.
– Выбирайте! – повторил пан Скшетуский. – Aut pacem, aut bellum![30 - Или мир, или войну! (лат.)]
– Счастье же, – несколько мягче сказала Курцевичиха, – что Богун с соколами уехал, не имея желания на ваших милостей глядеть; он уже вечор что-то заподозрил. Иначе без кровопролития не обошлось бы.
– Так ведь и я, сударыня, саблю не для того ношу, чтобы пояс оттягивала.
– Да разве гоже такому кавалеру, войдя по-доброму в дом, так на людей набрасываться и девку, словно из неволи турецкой, силой отбирать.
– А отчего же нет, если она в неволе холопу должна быть продана?
– Такого, сударь, ты про Богуна не говори, ибо он хоть родства и не знает, но воин прирожденный и рыцарь знаменитый, а нам с малолетства известен и как родной в доме. Ему девку не отдать или ножом ударить – одна боль.
– А мне, любезная сударыня, ехать пора, поэтому прощения прошу, но еще раз повторяю: выбирайте!
Княгиня обратилась к сыновьям:
– А что, сынки, скажете вы на столь покорнейшую просьбу любезного кавалера?
Булыги поглядывали друг на дружку, подталкивали один другого локтями и молчали.
Наконец Симеон буркнул:
– Велишь бить, м а т и, так будем, велишь отдать девку, так отдадим.
– Бить – худо и отдать – худо.
Потом, обратившись к Скшетускому, сказала:
– Ты, сударь, так нас прижал, что хоть лопни. Богун – человек бешеный и пойдет на все. Кто нас от его мести оборонит? Сам погибнет от князя, но сперва нас погубит. Как же мне быть?
– Ваше дело.
Княгиня какое-то время молчала.
– Слушай же, сударь-кавалер. Все это должно в тайне остаться. Богуна мы в Переяслав отправим, сами с Еленой в Лубны поедем, а ты, сударь, упросишь князя, чтобы он нам охрану в Разлоги прислал. У Богуна поблизости полтораста казаков, часть из них у нас на постое. Сейчас ты Елену взять не можешь, потому что он ее отобьет. Иначе оно быть не может. Поезжай же, никому не говоря ни слова, и жди нас.
– А вы обманете.
– Да кабы мы могли! Сам видишь, не можем. Дай слово, что секрет до времени сохранишь!
– Даю. А вы девку даете?
– Мы ж не можем не дать, хотя нам Богуна и жаль…
– Тьфу ты! Милостивые государи, – внезапно сказал наместник, обращаясь к князьям, – четверо вас, аки дубы могучих, а одного казака испугались и коварством его провести хотите. Хоть я вас и благодарить должен, однако скажу: не годится достойной шляхте так жить!
– Ты, ваша милость, в это не мешайся, – крикнула княгиня. – Не твое это дело. Как нам быть-то прикажешь? Сколько у тебя, сударь, жолнеров против полутораста его казаков? Защитишь ли нас? Защитишь ли хоть Елену, которую он силой умыкнуть готов? Не твоей милости это дело. Поезжай себе в Лубны, а что мы станем делать – это знать нам, лишь бы мы тебе Елену доставили.
– Поступайте, как хотите. Одно только скажу: если тут княжне какая кривда будет – горе вам!
– Не говори же с нами так, не выводи ты нас из себя.
– А не вы ли над нею насилие учинить хотели, да и теперь, продавая ее за Разлоги, вам и в голову не пришло спросить – будет ли ей по сердцу моя персона?
– Вот и спросим при тебе, – сказала княгиня, сдерживая закипавший снова гнев, ибо отлично улавливала презрение в словах наместника.
Симеон пошел за Еленой и спустя некоторое время с нею вернулся.
Среди громов и угроз, которые, точно отзвуки стихающей бури, казалось, сотрясали еще воздух, среди насупленных этих бровей, яростных взглядов и суровых лиц прелестный облик девушки воссиял, словно солнце после бури.
– Сударыня-панна! – хмуро сказала ей княгиня, указывая на Скшетуского. – Ежели будет к тому твоя охота, то вот он, твой будущий муж.
Елена побелела как мел, с криком закрыла глаза руками, а потом внезапно протянула ладони к Скшетускому.
– Правда ли? – шепнула она в упоении.
Час спустя эскорт посла и отряд наместника неспешно шли лесною дорогой по направлению к Лубнам. Скшетуский с паном Лонгином Подбипяткой ехали в челе, за ними долгою вереницею тянулись посольские повозки. Наместник вовсе был погружен в печаль и размышления, когда вырвали его вдруг из раздумий оборвавшиеся слова песни:
Тужу, тужу, сердце болить…