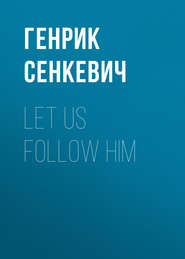По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огнем и мечом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Они умолкли. Через минуту какая-то темная фигура остановилась около них и послышался тихий голос:
– Не спите?
– Не спим, ваша светлость, – ответил Скшетуский.
– Будьте настороже. Это спокойствие не предвещает ничего хорошего. И князь пошел дальше, посматривая, не одолел ли сон утомленных солдат. Подбипента сложил руки на груди.
– Что за вождь! Что за воин!
– Он отдыхает меньше, чем мы, – сказал Скшетуский. – Так каждую ночь он обходит валы до второго пруда.
– Дай бог ему здоровья!
– Аминь!
Воцарилось молчание. Все напряженно всматривались в темноту, но ничего не было видно. В казацких шанцах было спокойно. Последние огни в них погасли.
– Их можно было бы изрубить, как сусликов, во сне, – пробормотал Володыевский.
– Кто знает, – ответил Скшетуский.
– Сон меня одолевает, – сказал Заглоба, – а спать нельзя. Любопытно знать, когда будет можно? Стреляют или не стреляют, а ты стой с оружием и качайся от утомления, как жид на молитве. Собачья служба! Сам не знаю, что меня так разбирает: водка или утренняя взбучка, которую мы с ксендзом Жабковским получили от Муховецкого.
– Как же это было? – спросил Подбипента. – Вы начали говорить и не кончили.
– Я расскажу теперь, может быть, сон пройдет. Сегодня утром мы пошли с ксендзом Жабковским в замок, чтобы найти чего-нибудь перекусить. Ходим, ходим, заглядываем всюду – нет ничего, возвращаемся мы злющие. Вдруг на дворе встречаем кальвинистского священника, который только что подготовил к смерти капитана Шенберка, того самого, которого вчера подстрелили, под хоругвью пана Фирлея. Я ему и говорю: «Чего ты тут шляешься, Богу глаза мозолишь? Еще Божий гнев на нас накличешь!» А он, видно, рассчитывая на покровительство бельского пана, отвечает: «Наша вера так же хороша, как и ваша, если не лучше!» Только он сказал это, как мы онемели от возмущения. Но я ни слова. Думаю: здесь ксендз Жабковский, пусть будет диспут. А мой Жабковский так и вскипел, и угостил его подреберным аргументом. Тот ничего не успел ответить, покатился как шар и ударился о стену. В эту минуту пришел князь с ксендзом Муховецким и как накинутся на нас, что мы, мол, ссоры затеваем, шумим, что не время и не место для диспутов… Намылили они нам головы, как школьникам, но вряд ли справедливо, потому что на самом деле эти пасторы Фирлея, сохрани бог, еще навлекут на нас какую-нибудь беду…
– А капитан Шенберк не обратился на путь истинный? – спросил Володыевский.
– Какое там! Умер в заблуждении, как жил.
– И как это люди предпочитают лучше отказаться от спасения, чем от своего упорства! – вздохнул пан Лонгин.
– Бог защищает нас от казацкого насилья и чар, – продолжал Заглоба, – а они еще оскорбляют Бога. Известно ли вам, Панове, что вчера, вон с того шанца, стреляли клубками ниток? Солдаты рассказывали, что в том месте, где упали клубки, земля тотчас проказой покрылась.
– Известное дело, что у Хмельницкого черти служат, – сказал, крестясь, литвин.
– Ведьм я сам видел, – прибавил Скшетуский, – и скажу вам, Панове… Дальнейшие слова прервал Володыевский, который сжал вдруг руку
Скшетуского и прошептал:
– Тише!
Потом прыгнул на край окопа и стал внимательно прислушиваться.
– Ничего не слышу, – сказал Заглоба.
– Тсс… Дождь заглушает, – ответил Скшетуский.
Пан Михал стал махать рукой, чтоб ему не мешали, и еще некоторое время прислушивался внимательно, наконец соскочив с вала, подошел к товарищам.
– Идут, – прошептал он.
– Дай знать князю! Он пошел к квартире Остророга, – тихо проговорил Скшетуский, – а мы побежим предостеречь солдат.
И они тотчас побежали вдоль окопов, то и дело останавливаясь и всюду шепча по дороге солдатам:
– Идут! Идут!
Слова эти точно тихая молния пронеслись по всей оборонительной линии. Через четверть часа появился князь, уже на коне, и отдал приказания офицерам. Так как неприятель хотел, по-видимому, застигнуть осажденных врасплох, то князь велел оставить его в этом заблуждении. Солдаты должны были вести себя как можно тише и подпустить штурмующих к самым валам, а затем, когда выстрел из пушки даст сигнал, ударить на него сразу.
Солдаты были наготове, лишь дула мушкетов склонились без шума, и наступило глухое молчание. Скшетуский, пан Лонгин и Володыевский стояли рядом, а пан Заглоба за ними. Он знал по опыту, что больше всего ядер и пуль падает на середину лагеря, а у валов, в присутствии таких трех рубак, – гораздо безопаснее.
Он поместился позади рыцарей, чтобы не попасть под первый натиск. Немного в стороне стал на одно колено пан Лонгин с мечом в руке, а Володыевский присел возле Скшетуского и шептал ему на ухо:
– Они идут…
– Мерным шагом.
– Это не чернь и не татары.
– Это запорожская пехота.
– Или янычары… Они хорошо маршируют. С коня их можно больше нарубить!
– Сегодня темно для конницы.
– Теперь слышишь?
– Тсс!.. Тсс!..
Лагерь, казалось, был погружен в глубокий сон. Нигде ни малейшего движения, ни света – всюду глухое молчание, прерываемое только шумом мелкого, точно просеиваемого сквозь сито, дождя.
Но среди этого шума слышался другой шум – тихий, но более отчетливый и мерный, – все ближе и ближе; наконец, шагах в пятидесяти от вала появилась какая-то длинная, сомкнутая масса.
Солдаты затаили дыхание, только маленький рыцарь щипал за ляжку Скшетуского, точно желая этим способом выразить свое удовольствие.
Между тем нападающие подошли ко рву и стали спускать в него лестницы, а затем, спустившись по ним, приставили их к валу.
Вал все молчал, точно за ним и на нем все умерло и настала смертельная тишина.
Только кое-где, несмотря на все предосторожности подымающихся, ступени лестницы стали скрипеть и трещать…
«Зададут вам перцу!» – думал Заглоба.
Володыевский перестал щипать Скшетуского, а пан Лонгин сжал рукоять меча и напряг зрение, так как был ближе всех у вала и надеялся первый ударить.
Вскоре три пары рук показались на краю вала, а затем медленно и осторожно стали подыматься три шишака все выше и выше.
– Не спите?
– Не спим, ваша светлость, – ответил Скшетуский.
– Будьте настороже. Это спокойствие не предвещает ничего хорошего. И князь пошел дальше, посматривая, не одолел ли сон утомленных солдат. Подбипента сложил руки на груди.
– Что за вождь! Что за воин!
– Он отдыхает меньше, чем мы, – сказал Скшетуский. – Так каждую ночь он обходит валы до второго пруда.
– Дай бог ему здоровья!
– Аминь!
Воцарилось молчание. Все напряженно всматривались в темноту, но ничего не было видно. В казацких шанцах было спокойно. Последние огни в них погасли.
– Их можно было бы изрубить, как сусликов, во сне, – пробормотал Володыевский.
– Кто знает, – ответил Скшетуский.
– Сон меня одолевает, – сказал Заглоба, – а спать нельзя. Любопытно знать, когда будет можно? Стреляют или не стреляют, а ты стой с оружием и качайся от утомления, как жид на молитве. Собачья служба! Сам не знаю, что меня так разбирает: водка или утренняя взбучка, которую мы с ксендзом Жабковским получили от Муховецкого.
– Как же это было? – спросил Подбипента. – Вы начали говорить и не кончили.
– Я расскажу теперь, может быть, сон пройдет. Сегодня утром мы пошли с ксендзом Жабковским в замок, чтобы найти чего-нибудь перекусить. Ходим, ходим, заглядываем всюду – нет ничего, возвращаемся мы злющие. Вдруг на дворе встречаем кальвинистского священника, который только что подготовил к смерти капитана Шенберка, того самого, которого вчера подстрелили, под хоругвью пана Фирлея. Я ему и говорю: «Чего ты тут шляешься, Богу глаза мозолишь? Еще Божий гнев на нас накличешь!» А он, видно, рассчитывая на покровительство бельского пана, отвечает: «Наша вера так же хороша, как и ваша, если не лучше!» Только он сказал это, как мы онемели от возмущения. Но я ни слова. Думаю: здесь ксендз Жабковский, пусть будет диспут. А мой Жабковский так и вскипел, и угостил его подреберным аргументом. Тот ничего не успел ответить, покатился как шар и ударился о стену. В эту минуту пришел князь с ксендзом Муховецким и как накинутся на нас, что мы, мол, ссоры затеваем, шумим, что не время и не место для диспутов… Намылили они нам головы, как школьникам, но вряд ли справедливо, потому что на самом деле эти пасторы Фирлея, сохрани бог, еще навлекут на нас какую-нибудь беду…
– А капитан Шенберк не обратился на путь истинный? – спросил Володыевский.
– Какое там! Умер в заблуждении, как жил.
– И как это люди предпочитают лучше отказаться от спасения, чем от своего упорства! – вздохнул пан Лонгин.
– Бог защищает нас от казацкого насилья и чар, – продолжал Заглоба, – а они еще оскорбляют Бога. Известно ли вам, Панове, что вчера, вон с того шанца, стреляли клубками ниток? Солдаты рассказывали, что в том месте, где упали клубки, земля тотчас проказой покрылась.
– Известное дело, что у Хмельницкого черти служат, – сказал, крестясь, литвин.
– Ведьм я сам видел, – прибавил Скшетуский, – и скажу вам, Панове… Дальнейшие слова прервал Володыевский, который сжал вдруг руку
Скшетуского и прошептал:
– Тише!
Потом прыгнул на край окопа и стал внимательно прислушиваться.
– Ничего не слышу, – сказал Заглоба.
– Тсс… Дождь заглушает, – ответил Скшетуский.
Пан Михал стал махать рукой, чтоб ему не мешали, и еще некоторое время прислушивался внимательно, наконец соскочив с вала, подошел к товарищам.
– Идут, – прошептал он.
– Дай знать князю! Он пошел к квартире Остророга, – тихо проговорил Скшетуский, – а мы побежим предостеречь солдат.
И они тотчас побежали вдоль окопов, то и дело останавливаясь и всюду шепча по дороге солдатам:
– Идут! Идут!
Слова эти точно тихая молния пронеслись по всей оборонительной линии. Через четверть часа появился князь, уже на коне, и отдал приказания офицерам. Так как неприятель хотел, по-видимому, застигнуть осажденных врасплох, то князь велел оставить его в этом заблуждении. Солдаты должны были вести себя как можно тише и подпустить штурмующих к самым валам, а затем, когда выстрел из пушки даст сигнал, ударить на него сразу.
Солдаты были наготове, лишь дула мушкетов склонились без шума, и наступило глухое молчание. Скшетуский, пан Лонгин и Володыевский стояли рядом, а пан Заглоба за ними. Он знал по опыту, что больше всего ядер и пуль падает на середину лагеря, а у валов, в присутствии таких трех рубак, – гораздо безопаснее.
Он поместился позади рыцарей, чтобы не попасть под первый натиск. Немного в стороне стал на одно колено пан Лонгин с мечом в руке, а Володыевский присел возле Скшетуского и шептал ему на ухо:
– Они идут…
– Мерным шагом.
– Это не чернь и не татары.
– Это запорожская пехота.
– Или янычары… Они хорошо маршируют. С коня их можно больше нарубить!
– Сегодня темно для конницы.
– Теперь слышишь?
– Тсс!.. Тсс!..
Лагерь, казалось, был погружен в глубокий сон. Нигде ни малейшего движения, ни света – всюду глухое молчание, прерываемое только шумом мелкого, точно просеиваемого сквозь сито, дождя.
Но среди этого шума слышался другой шум – тихий, но более отчетливый и мерный, – все ближе и ближе; наконец, шагах в пятидесяти от вала появилась какая-то длинная, сомкнутая масса.
Солдаты затаили дыхание, только маленький рыцарь щипал за ляжку Скшетуского, точно желая этим способом выразить свое удовольствие.
Между тем нападающие подошли ко рву и стали спускать в него лестницы, а затем, спустившись по ним, приставили их к валу.
Вал все молчал, точно за ним и на нем все умерло и настала смертельная тишина.
Только кое-где, несмотря на все предосторожности подымающихся, ступени лестницы стали скрипеть и трещать…
«Зададут вам перцу!» – думал Заглоба.
Володыевский перестал щипать Скшетуского, а пан Лонгин сжал рукоять меча и напряг зрение, так как был ближе всех у вала и надеялся первый ударить.
Вскоре три пары рук показались на краю вала, а затем медленно и осторожно стали подыматься три шишака все выше и выше.