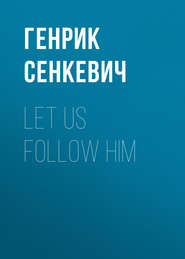По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пан Володыевский
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что это? Вы обручем как мячиком перебрасывались?
– А где тетушка? – спросила Дрогоевская, стараясь говорить как можно более естественным и спокойным голосом.
– Тетушка вылезает из саней, – ответила Бася тоже изменившимся голосом.
И ее подвижные ноздри зашевелились. Она еще раз взглянула на Кшисю, потом на пана Володыевского, который в эту минуту поднимал с пола обруч, и вдруг молча вышла из комнаты.
В эту минуту в комнату вкатилась пани Маковецкая, а сверху спустился пан Заглоба, и завязался разговор о жене львовского подкомория.
– Я не знала, что она крестная мать пана Нововейского, – сказала пани Маковецкая. – Он, должно быть, рассказал ей что-нибудь про Басю, потому что она все ее поддразнивала Нововейским.
– А что же Бася? – спросил Заглоба.
– Ну, что Бася – ничего! Она ей так ответила: «У него нет усов, а у меня ума, и еще неизвестно, кто раньше дождется своего».
– Я знал, что она за словом в карман не полезет. Но кто знает, что у нее на уме? Женская хитрость!
– У Баси что на уме, то и на языке. Я уже вам говорила, что она еще воли Божьей не чует, Кшися – другое дело!
– Тетя! – вдруг перебила ее Дрогоевская.
Дальнейший разговор был прерван слугой, который доложил, что ужин подан. Все отправились в столовую. Недоставало только Баси.
– Где панна? – спросила пани Маковецкая, обращаясь к слуге.
– Панна на конюшне. Я говорил панне, что ужин готов, – она ответила: «Хорошо» – и пошла на конюшню.
– Неужели она чем-нибудь огорчилась? Все время она была так весела, – заметила пани Маковецкая, обращаясь к Заглобе.
Тут маленький рыцарь, совесть которого была не чиста, сказал:
– Я побегу за нею!
И он побежал. Он, действительно, нашел ее за дверью конюшни, сидевшей на охапке сена. Она так задумалась, что и не заметила, как он вошел.
– Панна Барбара! – сказал маленький рыцарь, наклоняясь к ней.
Бася вздрогнула, как будто проснувшись от сна, подняла на него свои глаза, и Володыевский, к своему удивлению, заметил в них две крупных, как жемчуг, слезы.
– Ради бога, что с вами? Вы плачете?
– И не думала даже! – воскликнула Бася, вскакивая. – И не думала: это от мороза!
И она рассмеялась весело, но смех ее был искусственный. Потом, чтобы отвлечь от себя его внимание, она указала на стойло, в котором стоял жеребец, подаренный Володыевскому гетманом, и живо сказала:
– Вы говорили, что к этой лошади нельзя подходить?.. Посмотрим!
И прежде чем пан Михал успел удержать ее, она вскочила в стойло. Дикий конь сразу стал приседать на задние ноги, бить копытами землю и насторожил уши.
– Ради бога, ведь он может убить вас! – крикнул Володыевский, бросаясь за нею.
Но Бася хлопала жеребца по спине и повторяла:
– Пусть убьет! Пусть убьет! Пусть убьет!
Конь повернул к ней дымящиеся ноздри и тихо ржал, как будто радуясь ее ласкам.
X
Все прежние бессонные ночи Володыевского были ничто в сравнении с той, которую он провел после объяснения с Кшисей. Он изменил памяти своей дорогой покойницы, которую так чтил; он обманул доверие к нему другой, злоупотребил дружбой, связал себя каким-то обязательством и поступил как человек без совести. Другой солдат на его месте не придал бы никакого значения этим поцелуям и, самое большее, при воспоминании о них покручивал бы усы; но пан Володыевский, особенно после смерти Ануси, относился ко всему строго, как человек, у которого наболела душа. Что ему теперь делать? Как поступить?
До его отъезда оставалось всего несколько дней, а с этим отъездом все ведь могло кончиться само собой. Но можно ли было уехать, не сказав ни слова Кшисе, бросить ее так, как бросают сенную девушку, у которой крадут случайный поцелуй? При этой мысли содрогалось благородное сердце рыцаря. Даже теперь, когда он боролся с собою, мысль о Кшисе наполняла его блаженством, а воспоминание об этом поцелуе заставляло его вздрагивать от наслаждения. Он приходил от этого в бешенство, а все же не мог побороть этого чувства блаженства и наслаждения. Впрочем, во всем он винил только себя.
– Я сам довел Кшисю до этого, – повторял он с горечью, – сам довел, и мне нельзя уезжать, не объяснившись с нею.
– Ну, и что же? Сделать предложение и уехать женихом Кшиси?
Тут перед ним вставала вся белая, точно восковая, вся в белом, Ануся Божобогатая, такая, какой он ее видел в гробу.
– Мне лишь одно осталось, – говорила она, – чтобы ты тосковал обо мне… Ты сначала хотел сделаться монахом, всю жизнь меня оплакивать, а теперь ты берешь другую, прежде чем душа моя успела долететь до врат небесных. Ах, подожди! Пусть я сначала достигну небесной обители и перестану смотреть на землю…
И казалось рыцарю, что он клятвопреступник по отношению к той чистой душе, память о которой он должен был чтить и сохранять, как святыню. Ему было и больно, и стыдно – он презирал самого себя… Он жаждал смерти.
– Ануся, – повторял он, стоя на коленях, – я до самой смерти не перестану оплакивать тебя. Но что же мне теперь делать?
Беленькая фигурка ничего не отвечала и рассеивалась как легкий туман; и вместо нее в воображении рыцаря вставала Кшися, ее губы с легким пушком, а вместе с ними искушения, от которых бедный солдат старался отряхнуться, как от татарских стрел.
Так колебалось сердце рыцаря в нерешимости, горе и муке. Минутами ему приходило в голову пойти к Заглобе, рассказать ему все и посоветоваться с этим человеком, ум которого всегда мог справляться со всеми затруднениями. Ведь он все предвидел, все предсказал: вот что значит дружба с женщинами!
Но именно это и останавливало маленького рыцаря. Он вспомнил, как он резко крикнул на пана Заглобу: «Вы Кшисю не оскорбляйте!» И кто же, кто теперь оскорбил Кшисю? Кто сейчас думал, не лучше ли уехать и бросить ее, как бросают сенную девушку?
– Если бы не та, бедняжка, я бы и минуты не раздумывал, – сказал про себя маленький рыцарь. – Не огорчаться, а радоваться тогда мне следовало бы, что я отведал такого лакомства.
Через минуту он пробормотал:
– Я отведал бы его охотно и еще сто раз.
Но видя, что им снова овладевают искушения, он пытался отряхнуться от них и рассуждал так:
– Свершилось! Раз я поступил уже, как человек, который ищет не дружбы, а любви, то надо идти по той же дороге и завтра же сказать Кшисе, что я хочу на ней жениться.
Тут он остановился на минуту и продолжал думать:
– Предложением этим я добьюсь того, что и сегодняшний поступок не будет казаться бесчестным, и завтра я могу опять себе позволить…
Тут он ударил себя рукой по губам.
«Тьфу, – сказал он, – должно быть, в меня целый чамбул чертей вселился!»