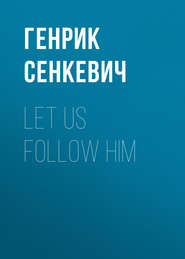По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пан Володыевский
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я так привык с детства к войне, что и на старости лет захотел потягаться с Дорошенкой.
После этого все еще с большим удивлением смотрели на него. Всякий ценил Заглобу, даже узнав, что он ехал не в качестве посла: ведь простой наблюдатель бывает иногда гораздо важнее Впрочем, каждый сенатор рассчитывал на то. что месяца через два начнутся элекции (общие собрания), когда всякое слово такого знаменитого воина будет иметь громадный успех. Все, даже самые знатные вельможи, кланялись и обнимали Заглобу. Подляский пан три дня поил его, а господа Пацы, которых он встретил в Калушине, даже носили его на руках.
Часто случилось, что паны приказывали своим слугам укладывать потихоньку в повозку Заглобы вина, водки и даже более ценные подарки, как, например, богато отделанные сабли и пистолеты.
Хорошо было и слугам Заглобы, но сам он, вопреки решению и обещанию, ехал до того медленно, что только через три недели прибыл в Минск.
Но зато он не остановился в Минске. Выехав на рынок, он увидел многочисленную дворню, какой еще нигде не встречал по пути: там были разодетые дворяне и пехота, без которой нельзя было ехать на сейм, и хоть она была не вооружена, но зато такая стройная, что даже шведский король мог позавидовать ей: она была стройнее его гвардии. Там же стояла масса вызолоченных повозок с обоями и коврами, которые везли для обивки комнат в корчмах и постоялых дворах, множество возов с посудой и провизией; но вся почти дворня состояла из иностранцев, говоривших на непонятном для него языке.
Наконец Заглоба заметил одного человека, одетого по-польски, и остановился; будучи уверен, что его хорошо примут, он спустил одну ногу из повозки и спросил.
– Чья это такая стройная дворня?.
– Чьей же ей быть, как не князя – конюшего литовского, – отвечал дворянин.
– Кого? – повторил Заглоба.
– Вы глухи, что ли? Князя Богуслава Радзивилла, который едет на голосование и – Бог даст – после элекции будет электором[2 - Т. е. лицом, непосредственно участвующим в выборах короля.].
Заглоба быстро спрятал ногу в повозку.
– Поезжай! – крикнул он вознице. – Здесь нам нечего делать.
И он уехал, трясясь от негодования.
– Великий Боже! – говорил он – Непонятны для нас Твои дела, и если Ты не сразишь громом этого изменника, то разве только потому, что скрываешь свои намерения, которых мы не можем постичь; судя с человеческой точки зрения стоило бы порядком наказать этого разбойника. Но плохо же, как видно, обстоят дела в Речи Посполитой если такие перебежчики без стыда и чести едут себе безнаказанно, да еще исполняют общественные функции. Видно, нам суждено погибнуть, потому что ни в какой стране, ни в каком государстве не может случиться ничего подобного. Да! Чересчур уж был добр король Ян Казимир, все прощал и этим приучил всякого верить в безнаказанность. Впрочем, не один он тому причиной. Ясно, что и в народе притупились всякие понятия о совести и добродетели. Тьфу! Тьфу!.. Он посол! Ему вручают попечение о целости и невредимости отечества – ему, бесчестному и опозоренному, в его руки, которыми он это же отечество терзал и заковывал в шведские цепи. Нет, видно настал час нашей погибели!.. И его же прочат в короли!.. Впрочем, как видно, все возможно в таком государстве. Но странно, какой же он посол?.. Ведь в законе довольно ясно сказано, что состоящие на иностранной службе не могут быть послами, а ведь он исправляет должность главного губернатора княжества Пруссии у своего дядьки. Ну, погоди же. Попадешься ты у меня. «А ну-ка, удалить его с сейма!» – скажут ему… Но если я не пойду в залу заседания и не возьмусь за это дело, хотя бы как частное лицо, то пусть я сейчас же сделаюсь бараном, а мой возница – моим коновалом. Найдутся такие послы, которые поддержат меня. Не знаю, удастся ли мне удалить этого влиятельного изменника из посольства, но что я поврежу ему на элекции – это так же верно, как я – Заглоба. Бедный Михаил. Теперь ему придется подождать меня ради доброго общественного дела.
Так раздумывал Заглоба, твердо решившись хлопотать и частным образом склонять послов к удалению Радзивилла. Ввиду этого он поспешил в Варшаву, чтобы не опоздать к открытию конвокационного сейма[3 - Конвокационный сейм созывался в Речи Посполитой 16–18 вв. после смерти или отречения короля для поддержания законности и являлся высшим органом власти до выборов нового короля.].
Заглоба приехал довольно рано, но всевозможные послы и прочие приезжие до того переполнили все гостиницы и частные дома, что некуда было пристроиться ни в Варшаве, ни на Праге, ни даже за городом. В одной комнате помещалось по нескольку человек. Первую ночь Заглоба провел у одного торговца, некоего Фукера, до того весело и приятно, что, протрезвившись на следующий день на своей плетеной повозке, не знал хорошенько, что ему делать.
– Боже! Боже! – восклицал он, осматривая Краковское предместье, по которому проезжал. – Вот Бернардинский монастырь, а вот и развалины замка Казановских. Неблагодарный город! Отнимая его у неприятеля, я проливал за него свою кровь и пот, а он жалеет теперь угла для меня, его защитника.
Но город однако не жалел угла, а просто его не было. Однако счастье не покидало Заглобу, и только что он подъехал к замку Конецпольских, как вдруг чей-то голос крикнул вознице:
– Стой!
Тот остановил лошадей; в ту же минуту к Заглобе подошел какой-то незнакомый господин с веселым лицом и, кланяясь, воскликнул:
– А господин Заглоба! Что, не узнаете меня?
Заглоба посмотрел на мужчину лет тридцати в рысьей шапке с пером, свидетельствовавшем о беспорочной службе, ярком жупане и темно-красном кунтуше, подпоясанном золоченым кушаком. Незнакомец был очень красив собою. Бледный цвет лица, тронутого легким загаром, голубые глаза с выражением задумчивости и грусти и правильные черты чрезвычайно шли к его остальной фигуре. Несмотря на польскую одежду, у него были длинные волосы и подстриженная на заграничный манер борода. Подойдя к повозке, он раскрыл свои объятия, и Заглоба обнял его за шею, хотя и не помнил, кто он.
Они сердечно целовались, отодвигаясь по временам друг от друга, чтобы получше присмотреться; наконец Заглоба сказал:
– Извините, пожалуйста, но до сих пор я не могу припомнить.
– Гасслинг-Кетлинг!
– Боже мой! Лицо как будто знакомое, но в этом платье вас не узнать; вы раньше носили кавалерийскую куртку. Так вы уже по-польски одеваетесь!
– Потому что я считаю Речь Посполитую своей матерью, которая приютила меня, бездомного горемыку, приласкала и накормила. Вы знаете, что я получил право гражданства после войны.
– Это приятное известие. Значит, вам посчастливилось.
– Да, как в этом, так и в другом. Я встретил на жмудской границе, в Курляндии, своего однофамильца, который усыновил меня, приписал к своему гербу и дал состояние. Он живет в Курляндии, но у него есть имения и по эту сторону. Одно из них, имение Шкуды, он записал на меня.
– Пошли вам Бог счастья. Так значит, вы бросили военную службу?
– Да, но явлюсь непременно на войну, когда надо будет. Поэтому-то я и отдал в аренду свое имение, а сам ожидаю здесь.
– Вот это по-рыцарски! Вот что значит горячая кровь. Точь-в-точь, как я в молодости. Правду сказать, что и теперь не вода течет в моих жилах. Что же вы в Варшаве поделываете?
– Я избран послом на избирательный сейм.
– О, Господи! Так вы уже по форме поляк!
Молодой воин улыбнулся.
– Я поляк душою, а это гораздо важнее.
– Вы женаты?
Кетлинг вздохнул.
– Нет.
– Этого вам только и недостает. Но неужели у вас не прошла прежняя страсть к Биллевич?
– Коли тебе и это, сударь, ведомо, а я полагал, что это моя тайна, так знай, нет у меня пока другого предмета для воздыханий.
– Опомнись, братец! Она вот-вот нового Кмицица нам подарит. Опомнись! Неблагодарное это занятие вздыхать по той, что давным-давно в мире и согласии с другим поживает. Сказать по правде, это смешно.
Кетлинг, вознес грустные очи к небу.
– Я сказал лишь, что пока другого предмета нету!
– Ну это уже полбеды! Женим мы тебя. Вот увидишь! По собственному опыту знаю, что в любви излишнее постоянство одни неприятности сулит. И я в свое время был постоянен, как Троил, а уж как настрадался, сколько добрых партий упустил!
– Дай Бог каждому такой бодрости в столь преклонные годы!
– Жил всегда в благочестии, потому ни один суставчик у меня не болит! Где остановился, братец, нашел ли себе пристанище?
– Домик мой под Мокотовом, хорош и удобен, я после войны его стают.
– Счастливчик. А я со вчерашнего дня по всему городу гоняю, и без толку.
– Любезный друг. Сделай одолжение! Милости прошу ко мне. Уж в этом ты мне не откажешь! Поживи у меня – во дворе, кроме дома, флигель, конюшни. И для челяди, и для лошадей места хватил.
После этого все еще с большим удивлением смотрели на него. Всякий ценил Заглобу, даже узнав, что он ехал не в качестве посла: ведь простой наблюдатель бывает иногда гораздо важнее Впрочем, каждый сенатор рассчитывал на то. что месяца через два начнутся элекции (общие собрания), когда всякое слово такого знаменитого воина будет иметь громадный успех. Все, даже самые знатные вельможи, кланялись и обнимали Заглобу. Подляский пан три дня поил его, а господа Пацы, которых он встретил в Калушине, даже носили его на руках.
Часто случилось, что паны приказывали своим слугам укладывать потихоньку в повозку Заглобы вина, водки и даже более ценные подарки, как, например, богато отделанные сабли и пистолеты.
Хорошо было и слугам Заглобы, но сам он, вопреки решению и обещанию, ехал до того медленно, что только через три недели прибыл в Минск.
Но зато он не остановился в Минске. Выехав на рынок, он увидел многочисленную дворню, какой еще нигде не встречал по пути: там были разодетые дворяне и пехота, без которой нельзя было ехать на сейм, и хоть она была не вооружена, но зато такая стройная, что даже шведский король мог позавидовать ей: она была стройнее его гвардии. Там же стояла масса вызолоченных повозок с обоями и коврами, которые везли для обивки комнат в корчмах и постоялых дворах, множество возов с посудой и провизией; но вся почти дворня состояла из иностранцев, говоривших на непонятном для него языке.
Наконец Заглоба заметил одного человека, одетого по-польски, и остановился; будучи уверен, что его хорошо примут, он спустил одну ногу из повозки и спросил.
– Чья это такая стройная дворня?.
– Чьей же ей быть, как не князя – конюшего литовского, – отвечал дворянин.
– Кого? – повторил Заглоба.
– Вы глухи, что ли? Князя Богуслава Радзивилла, который едет на голосование и – Бог даст – после элекции будет электором[2 - Т. е. лицом, непосредственно участвующим в выборах короля.].
Заглоба быстро спрятал ногу в повозку.
– Поезжай! – крикнул он вознице. – Здесь нам нечего делать.
И он уехал, трясясь от негодования.
– Великий Боже! – говорил он – Непонятны для нас Твои дела, и если Ты не сразишь громом этого изменника, то разве только потому, что скрываешь свои намерения, которых мы не можем постичь; судя с человеческой точки зрения стоило бы порядком наказать этого разбойника. Но плохо же, как видно, обстоят дела в Речи Посполитой если такие перебежчики без стыда и чести едут себе безнаказанно, да еще исполняют общественные функции. Видно, нам суждено погибнуть, потому что ни в какой стране, ни в каком государстве не может случиться ничего подобного. Да! Чересчур уж был добр король Ян Казимир, все прощал и этим приучил всякого верить в безнаказанность. Впрочем, не один он тому причиной. Ясно, что и в народе притупились всякие понятия о совести и добродетели. Тьфу! Тьфу!.. Он посол! Ему вручают попечение о целости и невредимости отечества – ему, бесчестному и опозоренному, в его руки, которыми он это же отечество терзал и заковывал в шведские цепи. Нет, видно настал час нашей погибели!.. И его же прочат в короли!.. Впрочем, как видно, все возможно в таком государстве. Но странно, какой же он посол?.. Ведь в законе довольно ясно сказано, что состоящие на иностранной службе не могут быть послами, а ведь он исправляет должность главного губернатора княжества Пруссии у своего дядьки. Ну, погоди же. Попадешься ты у меня. «А ну-ка, удалить его с сейма!» – скажут ему… Но если я не пойду в залу заседания и не возьмусь за это дело, хотя бы как частное лицо, то пусть я сейчас же сделаюсь бараном, а мой возница – моим коновалом. Найдутся такие послы, которые поддержат меня. Не знаю, удастся ли мне удалить этого влиятельного изменника из посольства, но что я поврежу ему на элекции – это так же верно, как я – Заглоба. Бедный Михаил. Теперь ему придется подождать меня ради доброго общественного дела.
Так раздумывал Заглоба, твердо решившись хлопотать и частным образом склонять послов к удалению Радзивилла. Ввиду этого он поспешил в Варшаву, чтобы не опоздать к открытию конвокационного сейма[3 - Конвокационный сейм созывался в Речи Посполитой 16–18 вв. после смерти или отречения короля для поддержания законности и являлся высшим органом власти до выборов нового короля.].
Заглоба приехал довольно рано, но всевозможные послы и прочие приезжие до того переполнили все гостиницы и частные дома, что некуда было пристроиться ни в Варшаве, ни на Праге, ни даже за городом. В одной комнате помещалось по нескольку человек. Первую ночь Заглоба провел у одного торговца, некоего Фукера, до того весело и приятно, что, протрезвившись на следующий день на своей плетеной повозке, не знал хорошенько, что ему делать.
– Боже! Боже! – восклицал он, осматривая Краковское предместье, по которому проезжал. – Вот Бернардинский монастырь, а вот и развалины замка Казановских. Неблагодарный город! Отнимая его у неприятеля, я проливал за него свою кровь и пот, а он жалеет теперь угла для меня, его защитника.
Но город однако не жалел угла, а просто его не было. Однако счастье не покидало Заглобу, и только что он подъехал к замку Конецпольских, как вдруг чей-то голос крикнул вознице:
– Стой!
Тот остановил лошадей; в ту же минуту к Заглобе подошел какой-то незнакомый господин с веселым лицом и, кланяясь, воскликнул:
– А господин Заглоба! Что, не узнаете меня?
Заглоба посмотрел на мужчину лет тридцати в рысьей шапке с пером, свидетельствовавшем о беспорочной службе, ярком жупане и темно-красном кунтуше, подпоясанном золоченым кушаком. Незнакомец был очень красив собою. Бледный цвет лица, тронутого легким загаром, голубые глаза с выражением задумчивости и грусти и правильные черты чрезвычайно шли к его остальной фигуре. Несмотря на польскую одежду, у него были длинные волосы и подстриженная на заграничный манер борода. Подойдя к повозке, он раскрыл свои объятия, и Заглоба обнял его за шею, хотя и не помнил, кто он.
Они сердечно целовались, отодвигаясь по временам друг от друга, чтобы получше присмотреться; наконец Заглоба сказал:
– Извините, пожалуйста, но до сих пор я не могу припомнить.
– Гасслинг-Кетлинг!
– Боже мой! Лицо как будто знакомое, но в этом платье вас не узнать; вы раньше носили кавалерийскую куртку. Так вы уже по-польски одеваетесь!
– Потому что я считаю Речь Посполитую своей матерью, которая приютила меня, бездомного горемыку, приласкала и накормила. Вы знаете, что я получил право гражданства после войны.
– Это приятное известие. Значит, вам посчастливилось.
– Да, как в этом, так и в другом. Я встретил на жмудской границе, в Курляндии, своего однофамильца, который усыновил меня, приписал к своему гербу и дал состояние. Он живет в Курляндии, но у него есть имения и по эту сторону. Одно из них, имение Шкуды, он записал на меня.
– Пошли вам Бог счастья. Так значит, вы бросили военную службу?
– Да, но явлюсь непременно на войну, когда надо будет. Поэтому-то я и отдал в аренду свое имение, а сам ожидаю здесь.
– Вот это по-рыцарски! Вот что значит горячая кровь. Точь-в-точь, как я в молодости. Правду сказать, что и теперь не вода течет в моих жилах. Что же вы в Варшаве поделываете?
– Я избран послом на избирательный сейм.
– О, Господи! Так вы уже по форме поляк!
Молодой воин улыбнулся.
– Я поляк душою, а это гораздо важнее.
– Вы женаты?
Кетлинг вздохнул.
– Нет.
– Этого вам только и недостает. Но неужели у вас не прошла прежняя страсть к Биллевич?
– Коли тебе и это, сударь, ведомо, а я полагал, что это моя тайна, так знай, нет у меня пока другого предмета для воздыханий.
– Опомнись, братец! Она вот-вот нового Кмицица нам подарит. Опомнись! Неблагодарное это занятие вздыхать по той, что давным-давно в мире и согласии с другим поживает. Сказать по правде, это смешно.
Кетлинг, вознес грустные очи к небу.
– Я сказал лишь, что пока другого предмета нету!
– Ну это уже полбеды! Женим мы тебя. Вот увидишь! По собственному опыту знаю, что в любви излишнее постоянство одни неприятности сулит. И я в свое время был постоянен, как Троил, а уж как настрадался, сколько добрых партий упустил!
– Дай Бог каждому такой бодрости в столь преклонные годы!
– Жил всегда в благочестии, потому ни один суставчик у меня не болит! Где остановился, братец, нашел ли себе пристанище?
– Домик мой под Мокотовом, хорош и удобен, я после войны его стают.
– Счастливчик. А я со вчерашнего дня по всему городу гоняю, и без толку.
– Любезный друг. Сделай одолжение! Милости прошу ко мне. Уж в этом ты мне не откажешь! Поживи у меня – во дворе, кроме дома, флигель, конюшни. И для челяди, и для лошадей места хватил.