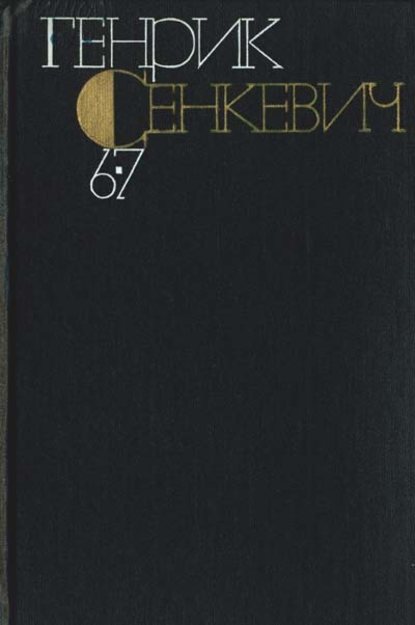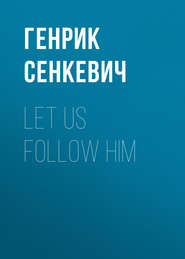По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Без догмата
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что бы ни происходило в душе Анельки, ей пришлось отвечать мне в тон, а тут еще в разговор вмешались тетя и пани Целина. Так прошли первые минуты. Все, что я говорил, имело целью замаскировать то, что оба мы переживали.
И весь вечер я не выходил из взятой на себя роли, хоть и чувствовал, что меня пот прошибает от этих усилий над собой. Я был еще очень слаб после недавней болезни, и, кроме того, так трудно было держать себя в руках! За ужином я видел, с какой тревогой и волнением Анелька поглядывает на мое бледное лицо и поседевшие виски; она, должно быть, поняла, что я пережил. Но я и о моих берлинских злоключениях рассказывал почти шутливо. При этом я старался не смотреть на ее изменившуюся фигуру, чтобы не дать ей почувствовать, что перемена эта меня поразила. К концу вечера я уже несколько раз был близок к обмороку, но превозмог себя, и Анелька могла читать в моих глазах только спокойствие, глубокую нежность и полнейшее примирение со своей участью. Она очень чутка, все понимает и угадывает, но на этот раз я превзошел себя, держался так естественно и непринужденно, чтобы она могла в конце концов поверить, что я решил примириться с неизбежным. Если даже в душе ее и оставались сомнения на этот счет, зато в одном я убедил ее окончательно: что я люблю ее, как любил, и что она всегда останется для меня прежней обожаемой Анелькой.
Я видел, что у нее потеплело на душе. И поистине мог гордиться собой, так как сразу внес луч радости в этот дом, где царило такое унылое настроение. И тетя и пани Целина это оценили. Когда я желал им доброй ночи, пани Целина сказала:
– Слава богу, что ты приехал. Теперь нам будет веселее.
Анелька же, нежно пожимая мне руку, спросила:
– Ты поживешь с нами подольше, не скоро уедешь?..
– Нет, Анелька, никуда больше не уеду, – ответил я ей. И ушел – вернее, убежал к себе наверх, чувствуя, что больше не выдержу. В этот вечер я так остро ощутил свое несчастье, что еще и сейчас меня душат слезы. Есть малые отречения, которые обходятся нам дороже самых больших.
8 ноября
Почему я так часто твержу себе, что эта женщина мне дороже всего на свете? Да потому, что действительно надо любить ее больше жизни, и не только как женщину, но и как дорогого, близкого человека, чтобы не бежать от нее при таких обстоятельствах. Я уверен, что от всякой другой меня оттолкнуло бы уже одно физическое отвращение, а вот эту я не оставил и не оставлю. И снова мне приходит на мысль, что любовь моя – своего рода болезнь, какая-то нервная аномалия, и будь я нормальным и здоровым человеком, я не мог бы любить так. Современный человек, все объясняющий неврозом и все анализирующий, лишен даже того утешения, какое может дать сознание своей верности. Ибо, когда говоришь себе: «Верность твоя и постоянство – болезнь, а не заслуга», – в душе остается только горечь. Если, осознавая такие вещи, люди все больше отравляют себе жизнь, – зачем мы так стремимся к самоанализу?
Только сегодня, при дневном свете, я разглядел, как сильно изменилось даже лицо Анельки, – и сердце у меня рвется на части. Губы у нее распухли, лоб, прежде такой безупречно красивый, утратил чистоту линий. Тетя была права – от красоты Анельки почти не осталось следа, только глаза прежние. Но мне и этого довольно. Ее изменившееся лицо только усиливает во мне нежность и жалость и словно стало мне еще милее. Хотя бы она еще в десять раз больше подурнела, я любить ее не перестану. Если это болезнь, – пусть будет так. Я не желаю от нее выздоравливать, лучше умереть от такой болезни, чем от всякой другой.
9 ноября
Придет время, беременность кончится, и красота ее вернется. Сегодня, думая об этом, я задавал себе вопрос: как же сложатся наши отношения в будущем, изменятся ли они? Я уверен, что нет. Я уже знаю, что значит жить без нее, и не сделаю ничего такого, что заставило бы ее меня оттолкнуть, – а она останется такой, как была. Теперь я уже ничуть не сомневаюсь, что я ей нужен, но никогда она даже в душе не назовет своего чувства ко мне иначе, чем большой сестринской привязанностью. Чем бы это чувство ни было в основе своей, – для нее оно будет оставаться всегда идеальной близостью душ, а значит – чем-то дозволенным, возможным и между родственниками. Если бы не это, она снова начала бы борьбу со своим чувством ко мне.
Да, на этот счет я не создаю себе никаких иллюзий. Как я уже говорил, наши отношения стали ей дороги с того времени, как они изменились и она поверила в их чистоту. Пусть же они такими и останутся, только бы она не перестала дорожить ими!
10 ноября
Как неверно мнение, будто в наше время люди стали менее чувствительны. Я вот думаю иногда как раз обратное. Ведь, когда у человека вместо двух осталось только одно легкое, он поневоле дышит им усиленно. А у нас, современных людей, отнято то, чем прежде жил человек, остались только нервы, более издерганные и впечатлительные, чем у прежних людей. Если нехватка красных шариков в крови делает и чувства наши болезненными, ненормальными, – то ведь тем трагичнее наши переживания. Трагедия наших душ страшнее потому, что прежде человек, которому не повезло в любви, мог находить утешение в религии или в сознании своего общественного долга. Нам же эти утешения уже недоступны. Прежде тормозом для бурных страстей была воля, характер. Теперь сильные характеры встречаются все реже и должны исчезнуть под влиянием разлагающего нас скептицизма. Он, как бацилла, источил человеческую душу, ослабил и уничтожил ее сопротивляемость физиологическим прихотям нервов, которые в довершение всего у нас больные. Современный человек все осознает и анализирует, но бессилен что-либо изменить.
11 ноября
От Кромицкого довольно давно нет никаких вестей, даже Анельке он не пишет. Я известил его телеграммой о выезде адвоката, затем написал письмо, но все адресовал наугад: как знать, где он сейчас находится? Конечно, и письмо и телеграмма в конце концов дойдут до него, но когда – неизвестно. Старик Хвастовский написал сыну. Может быть, он раньше нас получит ответ.
Я теперь целые часы провожу с Анелькой, – и никто нам не мешает, даже пани Целина: мы с тетей объяснили ей истинное положение вещей, и она просила меня как-нибудь подготовить Анельку к тем вестям, которые не сегодня-завтра могут прийти от Кромицкого. Я уже говорил Анельке, что затеи ее мужа могут кончиться плохо, но подчеркнул, что это только мое личное предположение. Я сказал, что, если даже Кромицкий все потеряет, не надо принимать этого близко к сердцу, что это в некотором смысле будет самый лучший исход, так как она заживет наконец без тревог. Я совершенно успокоил ее относительно моих денег, одолженных Кромицкому, заверив, что они никак пропасть не могут. А в заключение упомянул и о планах тетушки. Анелька выслушала меня довольно спокойно. Ее поддерживает главным образом сознание, что она среди людей, любящих ее, а таких людей подле нее достаточно. Никакими словами не выразить, как я теперь люблю ее, – и она это видит, читает по моему лицу. Когда мне удается ее развеселить, вызвать у нее улыбку, я испытываю такую радость, что сердце не вмещает ее. В моей любви к Анельке есть сейчас что-то от слепой преданности слуги к обожаемой госпоже. Я испытываю по временам непреодолимую потребность смиренно покоряться ей, чувствую, что мое место – у ее ног. Пусть она подурнеет, изменится, постареет – для меня она всегда останется прежней, от нее я все приму, на все соглашусь, и ничто не изменит моего обожания.
12 ноября
Кромицкого нет больше в живых! Катастрофа поразила нас всех как громом. Дай бог, чтобы с Анелькой, когда она узнает, не случилось чего плохого в ее положении! Сегодня пришла телеграмма, что Кромицкому, обвиненному в мошенничестве, грозила тюрьма и он покончил с собой. Чего угодно, а этого я от него не ожидал…
Итак, Кромицкий умер, Анелька свободна! Но как она перенесет это? Телеграмма получена несколько часов назад, а я все еще то и дело ее перечитываю, и мне кажется, что это сон, я не смею верить своим глазам, хотя подпись Хвастовского на телеграмме – ручательство, что все это правда. Я знал, что добром эта история не кончится, но никак не думал, что конец будет такой внезапный и трагический. Нет, ничего подобного мне и на ум не приходило, – и меня точно обухом по голове хватили. Если и сейчас у меня не помутится рассудок, значит, все могу выдержать. Совесть моя чиста – я и в первый раз помог Кромицкому и недавно послал ему на выручку адвоката. Правда, было время, когда я от всей души желал ему смерти, но, несмотря на это, я пытался спасти его – и в атом моя заслуга. И вдруг смерть унесла его не вследствие моих усилий, а вопреки им, – и Анелька свободна! Странно – я это знаю, но еще не вполне в это верю. Хожу как во сне. Кромицкий был мне чужой, и притом самой главной помехой в моей жизни. Помехи этой больше нет, так что мне бы радоваться без меры, а я не могу, не смею радоваться, – быть может, потому, что страшно боюсь за Анельку. Первой моей мыслью по прочтении телеграммы было: как Анелька перенесет эту весть, что будет с ней? Храни ее бог! Она этого человека не любила, но в ее положении потрясение может убить. Я уже подумываю о том, как бы ее увезти отсюда.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Какое счастье, что телеграмму мне передали у меня в комнате, а не в столовой или гостиной! Не знаю, удалось ли бы мне скрыть свое волнение. Некоторое время я не мог прийти в себя. Наконец сошел вниз, к тетушке, но и ей не сразу показал телеграмму, сказал только:
– Я получил очень дурные вести о Кромицком.
– Какие? Что случилось?
– Вы не пугайтесь, тетя…
– Он уже попал под суд? Да?..
– Нет… Хуже… Он уже перед судом, но не человеческим…
Тетя заморгала глазами.
– Что такое ты говоришь, Леон?
Тут я протянул ей телеграмму. Прочитав ее, она не сказала ни слова, отошла к налою и, опустившись на колени, закрыв лицо руками, начала молиться. А помолившись, встала и сказала:
– Анельке это может стоить жизни. Что нам делать?
– Надо, чтобы она ничего не узнала, пока не родит.
– Но как от нее скрыть? Об этом все будут говорить, да и в газетах… Как тут ее уберечь?
– Тетя, дорогая, я вижу только один выход. Надо вызвать врача – и пусть он предпишет Анельке уехать, сказав, что этого требует состояние ее здоровья. Тогда я увезу ее и пани Целину в Рим, – у меня там свой дом, и я сделаю так, чтобы никакие вести до нее не дошли. А здесь это будет трудно, особенно когда наши люди узнают…
– Но сможет ли она ехать в таком состоянии?
– Не знаю. Это решит доктор. Я еще сегодня его привезу.
Тетя одобрила мой план. Да ничего лучше и в самом деле нельзя было придумать. Мы решили посвятить пани Целину в тайну для того, чтобы она поддержала нас. Прислуге было строжайше приказано не передавать Анельке никаких вестей, а газеты, телеграммы и все письма относить прямо ко мне в комнату.
Тетя долго ходила как оглушенная. По ее понятиям, самоубийство – тягчайший из грехов, какие человек может совершить. Поэтому к чувству сожаления о покойнике у нее примешивается ужас и негодование. Она каждую минуту твердит: «Он не должен был так поступить, ведь знал же, что скоро станет отцом!» А я допускаю, что он так и не узнал этого. В последнее время он, вероятно, метался как в лихорадке, переезжая с места на место, как этого требовали его запутанные дела. Я не решаюсь его осуждать и, откровенно говоря, не могу отказать ему в некотором уважении. Иные люди после того, как они справедливо осуждены за всякие мошенничества или злоупотребления, распивают шампанское даже в тюрьме, ведут веселую жизнь. А Кромицкий до такого падения не дошел – он решил смертью смыть с себя незаслуженный позор. Может, он помнил, кто он. Я меньше жалел бы его, если бы он покончил с собой только из-за разорения. Но думается, что и это одно могло довести его до самоубийства. Помню, какие мысли он высказывал в Гаштейне. Если моя любовь – невроз, то уж несомненно его лихорадка наживы была тем же. И когда он потерпел поражение, потерял почву под ногами, он увидел перед собой такую же бездну и пустоту, как я, когда бежал от Анельки в Берлин. После этого что могло его остановить? Мысль об Анельке? Но он был уверен, что мы ее не оставим, и к тому же – кто знает? – быть может, чувствовал, что не очень любим ею. Как бы то ни было, а я ошибался в нем, считал его ничтожнее, чем он был в действительности. Да, не ожидал я от него такого мужества – и, признаюсь, был несправедлив к нему.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я было уже отложил перо, но снова берусь за него: все равно, о сне нечего и мечтать, а когда пишешь, немного успокаиваешься, так авось уляжется бешеный вихрь мыслей в моей голове. Анелька свободна, свободна! Я повторяю эти слова без конца, но еще не постиг всего их значения. Мне кажется, что я с ума сойду от радости, – но тут же меня охватывает какой-то непонятный страх. Неужели и вправду начинается для меня новая жизнь? Что это – ловушка, расставленная мне судьбой, или бог смиловался надо мной за то, что я так тяжко страдал и так любил? Или, может, есть такой закон бытия, мистическая сила, отдающая Женщину тому мужчине, кто сильнее всех ее любит, чтобы исполнился извечный закон создания жизни? Не знаю. Я только испытываю такое ощущение, словно меня и всех вокруг несет мощная волна, в которой тонет всякая человеческая воля и все человеческие усилия…
Меня оторвали от дневника – вернулся экипаж, посланный за доктором. Доктор не приехал: у него сегодня операционный день. Обещал приехать завтра утром. Я добьюсь, чтобы он оставался в Плошове до нашего отъезда и сопровождал нас в Рим. А в Риме найдутся другие.
Поздняя ночь. Анелька спит, не подозревая, что над ней нависло, какая огромная перемена произошла в ее судьбе. Хоть бы эта перемена принесла ей счастье и покой! Она заслужила их. Может, это над ней, а не надо мной сжалился господь?
Нервы мои так напряжены, что пугает каждый звук, – как услышу собачий лай из деревни или трещотку ночного сторожа, мне уже кажется, что это пришла какая-то новая весть и может дойти до Анельки.
Пытаясь успокоиться, я эту странную тревогу, которая меня одолела, объясняю страхом за Анельку. Твержу себе, что, если бы не ее беременность, мне нечего было бы бояться, что страхи мои пройдут, как проходит все, и начнется новая жизнь.
Мне еще нужно привыкнуть к мысли, что Кромицкий умер. Эта катастрофа принесет мне счастье, о котором я и мечтать не смел. Но есть в нас какое-то нравственное чувство, запрещающее радоваться смерти ближнего, даже смерти врага. Притом самый факт смерти внушает ужас. У гроба люди всегда говорят шепотом. Вот почему я не смею радоваться.
13 ноября
Все мои планы рушатся. Утром приехал врач и, осмотрев Анельку, сказал нам, что о путешествии не может быть и речи, это было бы опасно для ее жизни. Он нашел у нее какие-то осложнения. Что за мученье слушать эти медицинские термины, каждый из них словно грозит смертью моей любимой. Я рассказал доктору, в каком мы положении. На это он ответил, что из двух зол выбирают меньшее.
Больше всего меня возмутил и ужаснул его совет подготовить Анельку и сообщить ей о смерти мужа. К сожалению, должен признать, что рассуждает он довольно разумно. Вот что он нам сказал: «Если вы совершенно уверены, что сумеете устроить так, чтобы эта весть не дошла до пани Кромицкой в течение нескольких месяцев, тогда, конечно, лучше ей ничего не говорить. Но если не уверены, – лучше будет осторожно подготовить ее и затем сообщить, потому что внезапное потрясение может вызвать вторую катастрофу».
Как быть? Допустим, что я устрою вокруг Плошова настоящий кордон, не буду подпускать близко ни человека, ни письма, ни газет, объясню всей прислуге, что говорить, даже как смотреть… Какое впечатление производят такого рода вести даже на человека, к ним подготовленного, я сегодня имел случай убедиться, когда нам пришлось наконец сказать правду пани Целине. Она дважды падала в обморок, и у нее начались спазмы. Я чуть с ума не сошел от страха, что весь дом услышит ее стоны. А ведь она не так уж любила зятя. Ее тоже больше всего ужасает мысль, что будет с Анелькой.
И весь вечер я не выходил из взятой на себя роли, хоть и чувствовал, что меня пот прошибает от этих усилий над собой. Я был еще очень слаб после недавней болезни, и, кроме того, так трудно было держать себя в руках! За ужином я видел, с какой тревогой и волнением Анелька поглядывает на мое бледное лицо и поседевшие виски; она, должно быть, поняла, что я пережил. Но я и о моих берлинских злоключениях рассказывал почти шутливо. При этом я старался не смотреть на ее изменившуюся фигуру, чтобы не дать ей почувствовать, что перемена эта меня поразила. К концу вечера я уже несколько раз был близок к обмороку, но превозмог себя, и Анелька могла читать в моих глазах только спокойствие, глубокую нежность и полнейшее примирение со своей участью. Она очень чутка, все понимает и угадывает, но на этот раз я превзошел себя, держался так естественно и непринужденно, чтобы она могла в конце концов поверить, что я решил примириться с неизбежным. Если даже в душе ее и оставались сомнения на этот счет, зато в одном я убедил ее окончательно: что я люблю ее, как любил, и что она всегда останется для меня прежней обожаемой Анелькой.
Я видел, что у нее потеплело на душе. И поистине мог гордиться собой, так как сразу внес луч радости в этот дом, где царило такое унылое настроение. И тетя и пани Целина это оценили. Когда я желал им доброй ночи, пани Целина сказала:
– Слава богу, что ты приехал. Теперь нам будет веселее.
Анелька же, нежно пожимая мне руку, спросила:
– Ты поживешь с нами подольше, не скоро уедешь?..
– Нет, Анелька, никуда больше не уеду, – ответил я ей. И ушел – вернее, убежал к себе наверх, чувствуя, что больше не выдержу. В этот вечер я так остро ощутил свое несчастье, что еще и сейчас меня душат слезы. Есть малые отречения, которые обходятся нам дороже самых больших.
8 ноября
Почему я так часто твержу себе, что эта женщина мне дороже всего на свете? Да потому, что действительно надо любить ее больше жизни, и не только как женщину, но и как дорогого, близкого человека, чтобы не бежать от нее при таких обстоятельствах. Я уверен, что от всякой другой меня оттолкнуло бы уже одно физическое отвращение, а вот эту я не оставил и не оставлю. И снова мне приходит на мысль, что любовь моя – своего рода болезнь, какая-то нервная аномалия, и будь я нормальным и здоровым человеком, я не мог бы любить так. Современный человек, все объясняющий неврозом и все анализирующий, лишен даже того утешения, какое может дать сознание своей верности. Ибо, когда говоришь себе: «Верность твоя и постоянство – болезнь, а не заслуга», – в душе остается только горечь. Если, осознавая такие вещи, люди все больше отравляют себе жизнь, – зачем мы так стремимся к самоанализу?
Только сегодня, при дневном свете, я разглядел, как сильно изменилось даже лицо Анельки, – и сердце у меня рвется на части. Губы у нее распухли, лоб, прежде такой безупречно красивый, утратил чистоту линий. Тетя была права – от красоты Анельки почти не осталось следа, только глаза прежние. Но мне и этого довольно. Ее изменившееся лицо только усиливает во мне нежность и жалость и словно стало мне еще милее. Хотя бы она еще в десять раз больше подурнела, я любить ее не перестану. Если это болезнь, – пусть будет так. Я не желаю от нее выздоравливать, лучше умереть от такой болезни, чем от всякой другой.
9 ноября
Придет время, беременность кончится, и красота ее вернется. Сегодня, думая об этом, я задавал себе вопрос: как же сложатся наши отношения в будущем, изменятся ли они? Я уверен, что нет. Я уже знаю, что значит жить без нее, и не сделаю ничего такого, что заставило бы ее меня оттолкнуть, – а она останется такой, как была. Теперь я уже ничуть не сомневаюсь, что я ей нужен, но никогда она даже в душе не назовет своего чувства ко мне иначе, чем большой сестринской привязанностью. Чем бы это чувство ни было в основе своей, – для нее оно будет оставаться всегда идеальной близостью душ, а значит – чем-то дозволенным, возможным и между родственниками. Если бы не это, она снова начала бы борьбу со своим чувством ко мне.
Да, на этот счет я не создаю себе никаких иллюзий. Как я уже говорил, наши отношения стали ей дороги с того времени, как они изменились и она поверила в их чистоту. Пусть же они такими и останутся, только бы она не перестала дорожить ими!
10 ноября
Как неверно мнение, будто в наше время люди стали менее чувствительны. Я вот думаю иногда как раз обратное. Ведь, когда у человека вместо двух осталось только одно легкое, он поневоле дышит им усиленно. А у нас, современных людей, отнято то, чем прежде жил человек, остались только нервы, более издерганные и впечатлительные, чем у прежних людей. Если нехватка красных шариков в крови делает и чувства наши болезненными, ненормальными, – то ведь тем трагичнее наши переживания. Трагедия наших душ страшнее потому, что прежде человек, которому не повезло в любви, мог находить утешение в религии или в сознании своего общественного долга. Нам же эти утешения уже недоступны. Прежде тормозом для бурных страстей была воля, характер. Теперь сильные характеры встречаются все реже и должны исчезнуть под влиянием разлагающего нас скептицизма. Он, как бацилла, источил человеческую душу, ослабил и уничтожил ее сопротивляемость физиологическим прихотям нервов, которые в довершение всего у нас больные. Современный человек все осознает и анализирует, но бессилен что-либо изменить.
11 ноября
От Кромицкого довольно давно нет никаких вестей, даже Анельке он не пишет. Я известил его телеграммой о выезде адвоката, затем написал письмо, но все адресовал наугад: как знать, где он сейчас находится? Конечно, и письмо и телеграмма в конце концов дойдут до него, но когда – неизвестно. Старик Хвастовский написал сыну. Может быть, он раньше нас получит ответ.
Я теперь целые часы провожу с Анелькой, – и никто нам не мешает, даже пани Целина: мы с тетей объяснили ей истинное положение вещей, и она просила меня как-нибудь подготовить Анельку к тем вестям, которые не сегодня-завтра могут прийти от Кромицкого. Я уже говорил Анельке, что затеи ее мужа могут кончиться плохо, но подчеркнул, что это только мое личное предположение. Я сказал, что, если даже Кромицкий все потеряет, не надо принимать этого близко к сердцу, что это в некотором смысле будет самый лучший исход, так как она заживет наконец без тревог. Я совершенно успокоил ее относительно моих денег, одолженных Кромицкому, заверив, что они никак пропасть не могут. А в заключение упомянул и о планах тетушки. Анелька выслушала меня довольно спокойно. Ее поддерживает главным образом сознание, что она среди людей, любящих ее, а таких людей подле нее достаточно. Никакими словами не выразить, как я теперь люблю ее, – и она это видит, читает по моему лицу. Когда мне удается ее развеселить, вызвать у нее улыбку, я испытываю такую радость, что сердце не вмещает ее. В моей любви к Анельке есть сейчас что-то от слепой преданности слуги к обожаемой госпоже. Я испытываю по временам непреодолимую потребность смиренно покоряться ей, чувствую, что мое место – у ее ног. Пусть она подурнеет, изменится, постареет – для меня она всегда останется прежней, от нее я все приму, на все соглашусь, и ничто не изменит моего обожания.
12 ноября
Кромицкого нет больше в живых! Катастрофа поразила нас всех как громом. Дай бог, чтобы с Анелькой, когда она узнает, не случилось чего плохого в ее положении! Сегодня пришла телеграмма, что Кромицкому, обвиненному в мошенничестве, грозила тюрьма и он покончил с собой. Чего угодно, а этого я от него не ожидал…
Итак, Кромицкий умер, Анелька свободна! Но как она перенесет это? Телеграмма получена несколько часов назад, а я все еще то и дело ее перечитываю, и мне кажется, что это сон, я не смею верить своим глазам, хотя подпись Хвастовского на телеграмме – ручательство, что все это правда. Я знал, что добром эта история не кончится, но никак не думал, что конец будет такой внезапный и трагический. Нет, ничего подобного мне и на ум не приходило, – и меня точно обухом по голове хватили. Если и сейчас у меня не помутится рассудок, значит, все могу выдержать. Совесть моя чиста – я и в первый раз помог Кромицкому и недавно послал ему на выручку адвоката. Правда, было время, когда я от всей души желал ему смерти, но, несмотря на это, я пытался спасти его – и в атом моя заслуга. И вдруг смерть унесла его не вследствие моих усилий, а вопреки им, – и Анелька свободна! Странно – я это знаю, но еще не вполне в это верю. Хожу как во сне. Кромицкий был мне чужой, и притом самой главной помехой в моей жизни. Помехи этой больше нет, так что мне бы радоваться без меры, а я не могу, не смею радоваться, – быть может, потому, что страшно боюсь за Анельку. Первой моей мыслью по прочтении телеграммы было: как Анелька перенесет эту весть, что будет с ней? Храни ее бог! Она этого человека не любила, но в ее положении потрясение может убить. Я уже подумываю о том, как бы ее увезти отсюда.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Какое счастье, что телеграмму мне передали у меня в комнате, а не в столовой или гостиной! Не знаю, удалось ли бы мне скрыть свое волнение. Некоторое время я не мог прийти в себя. Наконец сошел вниз, к тетушке, но и ей не сразу показал телеграмму, сказал только:
– Я получил очень дурные вести о Кромицком.
– Какие? Что случилось?
– Вы не пугайтесь, тетя…
– Он уже попал под суд? Да?..
– Нет… Хуже… Он уже перед судом, но не человеческим…
Тетя заморгала глазами.
– Что такое ты говоришь, Леон?
Тут я протянул ей телеграмму. Прочитав ее, она не сказала ни слова, отошла к налою и, опустившись на колени, закрыв лицо руками, начала молиться. А помолившись, встала и сказала:
– Анельке это может стоить жизни. Что нам делать?
– Надо, чтобы она ничего не узнала, пока не родит.
– Но как от нее скрыть? Об этом все будут говорить, да и в газетах… Как тут ее уберечь?
– Тетя, дорогая, я вижу только один выход. Надо вызвать врача – и пусть он предпишет Анельке уехать, сказав, что этого требует состояние ее здоровья. Тогда я увезу ее и пани Целину в Рим, – у меня там свой дом, и я сделаю так, чтобы никакие вести до нее не дошли. А здесь это будет трудно, особенно когда наши люди узнают…
– Но сможет ли она ехать в таком состоянии?
– Не знаю. Это решит доктор. Я еще сегодня его привезу.
Тетя одобрила мой план. Да ничего лучше и в самом деле нельзя было придумать. Мы решили посвятить пани Целину в тайну для того, чтобы она поддержала нас. Прислуге было строжайше приказано не передавать Анельке никаких вестей, а газеты, телеграммы и все письма относить прямо ко мне в комнату.
Тетя долго ходила как оглушенная. По ее понятиям, самоубийство – тягчайший из грехов, какие человек может совершить. Поэтому к чувству сожаления о покойнике у нее примешивается ужас и негодование. Она каждую минуту твердит: «Он не должен был так поступить, ведь знал же, что скоро станет отцом!» А я допускаю, что он так и не узнал этого. В последнее время он, вероятно, метался как в лихорадке, переезжая с места на место, как этого требовали его запутанные дела. Я не решаюсь его осуждать и, откровенно говоря, не могу отказать ему в некотором уважении. Иные люди после того, как они справедливо осуждены за всякие мошенничества или злоупотребления, распивают шампанское даже в тюрьме, ведут веселую жизнь. А Кромицкий до такого падения не дошел – он решил смертью смыть с себя незаслуженный позор. Может, он помнил, кто он. Я меньше жалел бы его, если бы он покончил с собой только из-за разорения. Но думается, что и это одно могло довести его до самоубийства. Помню, какие мысли он высказывал в Гаштейне. Если моя любовь – невроз, то уж несомненно его лихорадка наживы была тем же. И когда он потерпел поражение, потерял почву под ногами, он увидел перед собой такую же бездну и пустоту, как я, когда бежал от Анельки в Берлин. После этого что могло его остановить? Мысль об Анельке? Но он был уверен, что мы ее не оставим, и к тому же – кто знает? – быть может, чувствовал, что не очень любим ею. Как бы то ни было, а я ошибался в нем, считал его ничтожнее, чем он был в действительности. Да, не ожидал я от него такого мужества – и, признаюсь, был несправедлив к нему.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я было уже отложил перо, но снова берусь за него: все равно, о сне нечего и мечтать, а когда пишешь, немного успокаиваешься, так авось уляжется бешеный вихрь мыслей в моей голове. Анелька свободна, свободна! Я повторяю эти слова без конца, но еще не постиг всего их значения. Мне кажется, что я с ума сойду от радости, – но тут же меня охватывает какой-то непонятный страх. Неужели и вправду начинается для меня новая жизнь? Что это – ловушка, расставленная мне судьбой, или бог смиловался надо мной за то, что я так тяжко страдал и так любил? Или, может, есть такой закон бытия, мистическая сила, отдающая Женщину тому мужчине, кто сильнее всех ее любит, чтобы исполнился извечный закон создания жизни? Не знаю. Я только испытываю такое ощущение, словно меня и всех вокруг несет мощная волна, в которой тонет всякая человеческая воля и все человеческие усилия…
Меня оторвали от дневника – вернулся экипаж, посланный за доктором. Доктор не приехал: у него сегодня операционный день. Обещал приехать завтра утром. Я добьюсь, чтобы он оставался в Плошове до нашего отъезда и сопровождал нас в Рим. А в Риме найдутся другие.
Поздняя ночь. Анелька спит, не подозревая, что над ней нависло, какая огромная перемена произошла в ее судьбе. Хоть бы эта перемена принесла ей счастье и покой! Она заслужила их. Может, это над ней, а не надо мной сжалился господь?
Нервы мои так напряжены, что пугает каждый звук, – как услышу собачий лай из деревни или трещотку ночного сторожа, мне уже кажется, что это пришла какая-то новая весть и может дойти до Анельки.
Пытаясь успокоиться, я эту странную тревогу, которая меня одолела, объясняю страхом за Анельку. Твержу себе, что, если бы не ее беременность, мне нечего было бы бояться, что страхи мои пройдут, как проходит все, и начнется новая жизнь.
Мне еще нужно привыкнуть к мысли, что Кромицкий умер. Эта катастрофа принесет мне счастье, о котором я и мечтать не смел. Но есть в нас какое-то нравственное чувство, запрещающее радоваться смерти ближнего, даже смерти врага. Притом самый факт смерти внушает ужас. У гроба люди всегда говорят шепотом. Вот почему я не смею радоваться.
13 ноября
Все мои планы рушатся. Утром приехал врач и, осмотрев Анельку, сказал нам, что о путешествии не может быть и речи, это было бы опасно для ее жизни. Он нашел у нее какие-то осложнения. Что за мученье слушать эти медицинские термины, каждый из них словно грозит смертью моей любимой. Я рассказал доктору, в каком мы положении. На это он ответил, что из двух зол выбирают меньшее.
Больше всего меня возмутил и ужаснул его совет подготовить Анельку и сообщить ей о смерти мужа. К сожалению, должен признать, что рассуждает он довольно разумно. Вот что он нам сказал: «Если вы совершенно уверены, что сумеете устроить так, чтобы эта весть не дошла до пани Кромицкой в течение нескольких месяцев, тогда, конечно, лучше ей ничего не говорить. Но если не уверены, – лучше будет осторожно подготовить ее и затем сообщить, потому что внезапное потрясение может вызвать вторую катастрофу».
Как быть? Допустим, что я устрою вокруг Плошова настоящий кордон, не буду подпускать близко ни человека, ни письма, ни газет, объясню всей прислуге, что говорить, даже как смотреть… Какое впечатление производят такого рода вести даже на человека, к ним подготовленного, я сегодня имел случай убедиться, когда нам пришлось наконец сказать правду пани Целине. Она дважды падала в обморок, и у нее начались спазмы. Я чуть с ума не сошел от страха, что весь дом услышит ее стоны. А ведь она не так уж любила зятя. Ее тоже больше всего ужасает мысль, что будет с Анелькой.