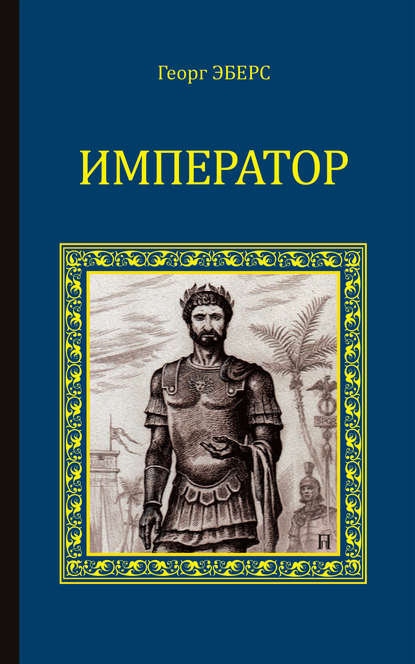По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Император
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты еще вчера говорил, что старые солдаты пригодны к ночной службе лучше молодых.
Император кивнул головой и сказал:
– В твоем возрасте люди, когда они не спят, живут втрое быстрее, чем в моем, а потому вдвое больше нуждаются во сне. Ты – вправе быть утомленным. Мы взошли на гору только в три часа пополуночи, но как часто пиры оканчиваются еще позднее!
– Как там, вверху, было холодно и неприятно!
– Да, но только после восхода солнца.
– Сначала ты этого не замечал, – возразил Антиной, – потому что был занят созерцанием звезд.
– А ты только самим собою. Это правда!
– Я думал также о твоем здоровье, когда похолодало перед выездом Гелия[5 - Гелий, или Гелиос, – бог солнца у древних греков; изображался правящим колесницей, запряженной четверкой.].
– Я должен был дождаться его появления.
– Разве ты и по восходу солнца умеешь узнавать будущее?
Адриан с удивлением посмотрел на вопрошавшего и отрицательно покачал головой. Затем он устремил взор на потолок шатра и после длительного молчания заговорил короткими фразами, часто прерывая их паузами.
– День – это сплошь настоящее; будущее же возникает из тьмы. Из земной борозды вырастают злаки; из мрачной тучи изливается дождь, из чрева матери выходят новые поколения; во сне возобновляется свежесть наших членов. А кто может знать, что возникает из темной смерти?
Вслед за тем император некоторое время безмолвствовал, и юноша спросил его:
– Но если солнечный восход не объясняет тебе будущего, то зачем ты так часто прерываешь свой ночной отдых и взбираешься на горы, чтобы наблюдать его?
– Зачем… зачем… – медленно отвечал Адриан, задумчиво погладил свою поседевшую бороду и, как бы говоря сам с собою, продолжал: – На этот вопрос разум не дает ответа, уста не находят слов; но если бы и то и другое было в моем распоряжении, то кто бы из черни мог понять меня? Это лучше всего можно объяснить образами. Всякий, принимающий участие в жизни, есть действующее лицо на мировой сцене. Кто хочет быть высоким в театре, тот надевает котурны[6 - Котурны – обувь на толстой пробковой подошве, которую носили древнегреческие и римские актеры, чтобы казаться выше со сцены и придать себе более внушительный вид.], а разве гора не есть высочайший пьедестал, на котором только может покоиться человеческая пята? Гора Казий – это холм, но я стоял на гигантских вершинах и видел под собою облака, словно Юпитер с вершины Олимпа.
– Тебе нет надобности всходить ни на какие горы, чтобы чувствовать себя богом! – вскричал Антиной. – Тебя называют «божественный»; ты повелишь – и целый мир должен повиноваться. Правда, на горе человек ближе к небу, чем на равнине, но…
– Но?
– Я не решаюсь высказать мысль, которая мне пришла в голову.
– Говори смело.
– Была одна маленькая девочка. Когда я усаживал ее к себе на плечо, она обычно поднимала руки кверху и кричала: «Какая я большая!» В эту минуту ей казалось, что она выше меня, а все же она была та же малютка Пантея.
– Но ей казалось, что она была большая, и этим решается вопрос, ибо для человека всякий предмет таков, каким он его ощущает. Правда, меня называют «божественным», но я по сто раз в день чувствую ограниченность человеческой силы и человеческой природы, за пределы которых я никак не могу выйти. На вершине какой-нибудь горы я не чувствую этого. Там мне кажется, что я велик, так как ничто на земле, ни вблизи, ни вдали, не возвышается над моей головой. И когда там перед моим взором исчезает ночь, когда лучезарное сияние юного солнца вновь возрождает для меня мир, возвращая моему восприятию все то, что еще недавно было поглощено мраком, тогда глубоким дыханием вздымается грудь и упивается чистым и легким воздухом высей. Лишь там, наверху, в одиноком безмолвии, ничто не напоминает мне о земной суете; там я ощущаю свое единство с великой расстилающейся передо мной природой. Приходят – уходят морские волны; опускаются – поднимаются кроны деревьев в лесу; туманы, пары и облака вздуваются и рассеиваются во все стороны, и там, вверху, я чувствую себя настолько растворившимся в окружающем меня мироздании, что порою мне кажется, будто все оно приводится в движение собственным моим дыханием. Как журавлей и ласточек, так и меня тянет вдаль. И поистине, где же глазу будет дано, хотя бы в намеке, созерцать недостижимую цель, если не на вершине горы? Безграничная даль как будто принимает здесь осязательную форму, и взор как бы прикасается к ее пределам. Расширенным, а не вознесенным чувствую я все свое существо, и исчезает тоска, испытываемая мною, когда я принимаю участие в водовороте жизни или когда государственные заботы требуют моих сил… Но этого, мальчик, ты не понимаешь… Все это – тайны, которыми я не делюсь ни с кем из смертных.
– И лишь мне одному ты не гнушаешься открыть их! – воскликнул Антиной, который теперь совсем повернулся в сторону императора и, широко раскрыв глаза, старался уловить каждое его слово.
– Тебе? – спросил Адриан, и улыбка, не совсем чуждая насмешке, заиграла у него на устах. – От тебя я скрываю не больше, чем от того Амура, изваянного Праксителем[7 - Пракситель (ок. 390–330 гг. до н. э.) – знаменитый греческий скульптор. До нас дошла копия его Эрота Теспийского, а также копия другого Эрота, найденная в Риме в 1594 г.], что стоит в Риме у меня в кабинете.
Вся кровь юноши прихлынула к лицу, окрасив щеки пылающим пурпуром. Император это заметил и добавил успокоительным тоном:
– Ты для меня – больше, чем произведение искусства. Мрамор не может покраснеть. Во времена Праксителя красота правила миром. Ты же доказываешь мне, что и в наши дни богам бывает угодно воплощаться в зримых образах. Глядя на тебя, я примиряюсь с дисгармониями нашей жизни. Это мне приятно. Но разве я могу требовать, чтобы ты меня понимал? Чело твое не создано для раздумья… Или, может быть, ты понял что-либо из моих слов?
Антиной оперся на левую руку и, подняв правую, произнес решительно:
– Да.
– Что же именно?
– Мне знакома тоска.
– По чему?
– По многим вещам.
– Назови хоть одну.
– По удовольствию, за которым не следовало бы отрезвления. Такого я не знаю.
– Эту тоску ты разделяешь со всей римской молодежью. Но только она опускает твое придаточное предложение… Дальше!
– Не смею сказать.
– Кто запрещает тебе говорить со мной откровенно?
– Ты сам.
– Я?
– Да, ты, потому что ты запретил мне говорить о моей родине, о моей матери, обо всех мне близких.
Лоб императора нахмурился, и он отвечал сурово:
– Твой отец – я, и вся твоя душа должна принадлежать мне.
– Она твоя, – отвечал юноша, снова опускаясь на медвежью шкуру и плотно окутывая плечи плащом, так как холодный ветер подул в открытую дверь шатра, через которую вошел Флегон, личный секретарь императора. За ним следовал раб со множеством запечатанных свитков под мышкой.
– Не благоугодно ли будет тебе, цезарь, покончить с полученными бумагами и письмами? – спросил секретарь.
– Да, а затем мы запишем то, что мне удалось заметить в эту ночь. Под рукою ли у тебя таблички?[8 - Древние писали на покрытых воском деревянных табличках со слегка выступающими краями. Для писания пользовались стилем – железной или костяной иглой, заостренной на одном конце и плоской на другом. Острым концом писали, а плоским стирали написанное.]
– Я велел приготовить их в рабочем шатре, цезарь.
– Буря усилилась?
– Ветер, по-видимому, дует разом и с востока и с севера. На море сильные волны! Императрице предстоит бурное плавание.
– Когда она отправилась?
– Якорь был поднят около полуночи. Ее корабль – прекрасное судно, но оно отличается боковой, весьма неприятной качкой.
При последних словах император громко и ядовито воскликнул: