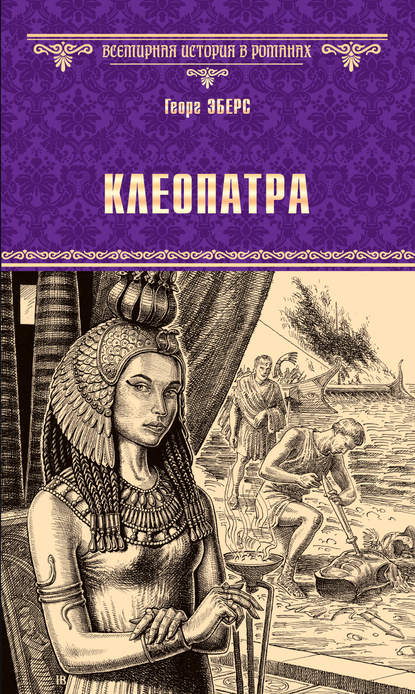По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Клеопатра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сохранив веселый характер несмотря на несчастное замужество и всевозможные огорчения, она сумела привлечь в свой дом всю александрийскую интеллигенцию, стараясь не оказывать предпочтения никому из гостей. Барина следила за собой, чтобы не дать никому из них той власти, которая естественно выпадает на долю человека, сознающего, что он любим. И Диона она не особенно отличала, но теперь охотно отдала бы весь свой блеск за счастье быть им любимой и принадлежать ему. С ним она предпочла бы безвестное уединение этому шумном и блестящему обществу.
Теперь она знала, что делать, если он вздумает добиваться ее руки, и архитектор впервые увидел Барину такой молчаливой. Он охотно проводил бы ее обратно в дом деда, где увидел бы ее сестру Елену, так как думал, что та огорчится, видя, что ее защитник не возвращается.
После неожиданного прекращения словесной распри Дион почувствовал сильный подъем духа. Не раз уже случалось ему вступаться за правое дело и одерживать победу, но никогда это не доставляло ему такой радости, как в настоящем случае. Теперь он только и мечтал увидеться с Бариной, сообщить ей о случившемся и услышать благодарность за свою услугу.
Внутреннее чувство подсказывало ему, какого рода будет та благодарность, но лишь только светлый образ будущего уступил место размышлениям, веселое выражение на его мужественном лице сменилось озабоченным.
Несмотря на окружавшую его темноту, которой не мог рассеять тусклый свет горевшей смолы, ему казалось, что он стоит в ярком блеске солнечного полдня в цветущем саду своего дворца, а Барина, у которой он потребовал награду за свое заступничество, в глубоком волнении кинулась к нему на грудь, и он целует ее влажные от слез глаза.
Видение вскоре исчезло, но было таким ярким, точно наяву.
Неужели Барина значит для него больше, чем он сам думал? Неужели его привлекали в ней не только ум и красота? Неужели им овладела истинная, серьезная страсть? Неужели наступит день, когда, повинуясь таинственному, непреодолимому инстинкту, наперекор рассудку, он соединится, быть может, на всю жизнь с ней, Бариной, принадлежавшей когда-то Филострату, а ныне игравшей такую заметную роль в александрийском обществе?
Будь она чиста, как лебедь, – а сомневаться в этом у него не было оснований, – все же ее имя упоминается в одном ряду с именами Аспазии[25 - Аспазия (около 470 г. до н. э.) – афинская гетера, отличавшаяся красотой, умом, образованностью; в ее доме собирались художники, поэты, философы. С 445 г. – жена Перикла, афинского стратега, вождя демократов.] и многих других, к которым посетители являлись не только ради пения и увлекательной беседы. Дарами, которыми так щедро наделили ее боги, наслаждались слишком многие, чтобы он, последний отпрыск благородной македонской фамилии, мог ввести ее хозяйкой во дворец, так заботливо и успешно возведенный ему Горгием.
Во всяком случае, если в нем чего-то недоставало, так только заботливой хозяйки.
А согласится ли она вступить с ним в союз, не освященный браком?
Нет!
Он не мог сделать своей любовницей внучку Дидима, женщину, которая нравилась ему, тем более, что всегда возбуждала в нем уважение, несмотря на свободное обращение с гостями. Да он и сам не хотел этого, хотя его друзья посмеялись бы над такой щепетильностью. Могла ли святость брака иметь какое-нибудь значение в городе, где сама царица дважды вступала в связь с чужими мужьями? И у него случались кое-какие любовные интрижки, но именно поэтому было бы особенно неприятно уравнять Барину с женщинами, любовью которых он пользовался, быть может, только благодаря золоту.
Мужества и твердости у него было довольно, но никогда еще не приходилось ему бороться с такой силой, как теперь.
Проклятое видение! Оно всплывало перед ним снова и снова, смеялось и манило, и Дион чувствовал – наступит день, когда у него не хватит сил бороться с желанием осуществить его на деле. Если только он не расстанется с ней, то, без сомнения, наделает такого, что сам же будет раскаиваться; ему следует молить богиню красноречия ниспослать Архибию дар убеждения, когда он будет уговаривать Барину оставить Александрию.
Трудно будет отказаться от ее общества, но все-таки лучше ей уехать. Пройдет немало времени, пока они снова увидятся, стало быть, есть надежда на победу.
Дион просто не узнавал себя.
Нетвердыми шагами продвигался он вперед, подавив желание зайти для разговора к Дидиму. Там он мог бы встретить Барину, а этого ему не хотелось, хотя все его существо стремилось видеть ее лицо, слышать ее голос и слова благодарности из ее милых уст. Радостное чувство сменилось в нем раздражением, как у человека, который стоит на перекрестке перед тремя дорогами, ведущими к различным целям, из которых ни одна не может вполне удовлетворить его.
Улица, по которой он шел, протискавшись сквозь толпу, вела вдоль берега к театру Диониса. Увидев его, Дион вспомнил, что именно здесь Горгий хотел поставить статую. Он решил осмотреть место, выбранное архитектором, в надежде, что этот осмотр изменит ход его мыслей.
Когда молодой человек подошел к театру, певец только что окончил гимн и толпа слушателей стала расходиться. Все говорили о радостной вести, переданной в пышных стихах Анаксенором, любимцем Антония, без сомнения, имевшим верные сведения. Со всех сторон раздавались крики в честь Клеопатры, новой Изиды, и Антония, нового Диониса, и вскоре старые и молодые, греки и египтяне слились в общем крике: «В Себастеум!» Так назывался дворец, напротив которого находилось помещение регента и правительства. Народ хотел услышать подтверждение радостной вести.
Дион вообще терпеть не мог таких шумных излияний восторга, но на этот раз настолько заинтересовался вестью, что хотел было примкнуть к толпе, стремившейся в Себастеум. Но тут внимание его было привлечено криками служителей, пролагавших путь для закрытых носилок.
Он узнал носилки Иры. Она-то во всяком случае должна иметь точные сведения, только в такой давке вряд ли удастся потолковать с ней. Ира, по-видимому, была другого мнения на этот счет, так как заметила и подозвала его. В ее голосе, обыкновенно звонком и чистом, звучали хриплые ноты. Вопросы, которыми она засыпала Диона, выдавали глубокое волнение. Не поздоровавшись с ним, она поспешно спросила, отчего волнуется народ, кто принес известие о победе и куда стремится толпа.
Отвечая ей, Дион с трудом протискивался сквозь толпу, стараясь не отстать от носилок. Она заметила это и приказала слугам нести носилки к воротам, запиравшимся на ночь, мимо которых они проходили в эту минуту, назвала страже свое имя и, когда ворота были открыты, велела внести носилки и поставить на площадке, а служителям дожидаться снаружи.
Необычное возбуждение и торопливость девушки не на шутку обеспокоили молодого человека. Она отказалась от предложения выйти из носилок и пройтись с ним.
– Зачем, – сказала она, – зачем ты мешаешь регенту, твоему дяде, исполнить его план и ораторствуешь в толпе как наемный смутьян?
– Как Филострат, хочешь ты сказать, которому вы заплатили, а я дал несколько щелчков в дополнение к вашему золоту.
– Ну да, как Филострат! Не по твоей ли милости столкнули его в воду, после того как ты охладил его пыл? Ты, должно быть, хорошо исполнил свою задачу. То, что делаешь с любовью, обыкновенно удается. Смотри только, чтобы его брат, Алексас, не восстановил против тебя Антония. Что касается меня, то я желала бы только знать, ради чего и ради кого ты все это устроил?
– Ради кого? Да ради славного старика, учителя моего отца, – отвечал Дион без всякого стеснения. – А сверх того ради хорошего вкуса, так как вряд ли можно найти менее подходящее место для этой статуи, чем сад Дидима.
Ира засмеялась отрывистым и резким смехом, и ее тонкое лицо, которое можно было бы назвать красивым, если б не чересчур длинный прямой нос и маленький подбородок, слегка нахмурилось.
– По крайней мере, ты откровенен! – воскликнула она.
– Ты, кажется, знаешь мой характер, – спокойно ответил он. – Впрочем, такой знаток, как архитектор Горгий, тоже такого же мнения.
– Слыхала и об этом. Вы оба усердные посетители этой, как ее… обворожительной Барины?
– Барины? – повторил Дион, принимая изумленный вид. – Ты, кажется, хочешь, чтобы наш разговор напоминал лабиринт, в котором мы находимся. Я говорю о произведениях искусства, а ты все сводишь… на живое существо, – положим, тоже образцовое творение богов. Во всяком случае, заступаясь за старика ученого, я и в мыслях не имел его внучки.
– Ну конечно, – возразила она насмешливо, – молодые люди твоего склада и с твоими привычками всегда больше склонны думать о почтенных учителях своих отцов, чем о тех женщинах, от которых происходит все зло на земле с тех пор, как Пандора[26 - Пандора («всем одаренная») – в греческой мифологии женщина, созданная по воле Зевса, чтобы принести людям соблазны и несчастья. Несмотря на запрет богов, любопытная Пандора открыла сосуд (или ящик), в котором были заключены все людские пороки, и тогда по земле расползлись бедствия и болезни. «Ящик Пандоры» – в переносном смысле – источник всяких бед.] открыла свой ящик. Но, – тут она отбросила назад черные локоны, закрывавшие до половины ее высокий лоб, – я сама не понимаю, как могут меня занимать такие пустяки в подобное время, да еще когда у меня страшная тяжесть на душе… Мне так же мало дела до старика, как и до его бесчисленных сочинений и комментариев, хотя они мне знакомы… Пусть у него будет столько же внучат, сколько злых языков в Александрии. Но теперь нужно устранять все, что может быть неудобным для царицы. Я только что из Лохиаса, из дворца царских детей, и что я там узнала… Это… Нет, я не хочу и не могу этому верить… Одна мысль о таком несчастье душит меня…
– Дурные вести о флоте? – с беспокойством спросил Дион.
Ира не ответила, только утвердительно кивнула головой, прижав к губам веер из страусовых перьев в знак молчания. Несмотря на темноту, он заметил, как она вздрогнула. Потом продолжала вполголоса тоном, выдававшим внутреннее волнение:
– Об этом еще не следует говорить… Моряк из Родоса… Впрочем, ничего неизвестно наверняка… Этого не может, не должно случиться!.. А все-таки… Болтовня… Болтовня Анаксенора, который возбуждает надежды в народе, совершенно некстати… Никто так не вредит сильным мира, как те, кто обязан им всем. Я знаю, Дион, что ты умеешь молчать. Ты еще в детстве доказывал это, когда нужно было что-нибудь скрыть от родителей. А помнишь, как ты бросился в воду ради меня? Сделаешь ли ты это теперь? Вряд ли! Но на тебя можно положиться. Это известие сдавило мне сердце. Только смотри, никому ни слова, никому! Я не нуждаюсь в поверенных и могла бы скрыть эту новость и от тебя, но мне хочется, чтоб ты, именно ты, меня понял… Когда я садилась в носилки в Лохиасе, вернулся Цезарион, и я говорила с ним.
– Цезарион, – перебил Дион на этот раз вполне серьезно, – любит Барину.
– Так эта ужасающая глупость уже известна? – спросила она с волнением. – Я никогда не подозревала, что у этого мечтателя может пробудиться такая глубокая страсть. Царица вернется, быть может, не с таким успехом, какого мы желаем, увидит тех, от кого ожидает радости, добра, величия, узнает, что ускользнуло от ее проницательного взора, узнает о том, что случилось с мальчиком… Он ей дорог, дороже, чем все вы думаете. Сколько беспокойства, огорчения для нее! Не права ли она будет, если рассердится на тех, кто должен смотреть за мальчиком?
– И потому, – заметил Дион, – нужно устранить камень с дороги. Устраивая неприятности Дидиму, ты делаешь первый шаг к этой цели.
Он правильно разгадал ее намерения, предположив, что история с Дидимом подстроена ею с целью предоставить властям случай разделаться с ученым и его родными, к числу которых принадлежала Барина. По египетскому закону родственники человека, виновного в каких-либо действиях против правительства, тоже отправлялись в ссылку. Подобная интрига по отношению к ни в чем неповинному ученому, конечно, была подлостью, и однако Дион чувствовал, что Ирой руководила не только низменная ревность, но и более благородное чувство: любовь к своей госпоже, стремление избавить ее от неприятностей и забот в трудное время. Он хорошо знал Иру, ее железную волю и беззастенчивость в достижении целей. Теперь самым главным для него было избавить Барину от грозившей ей опасности. Впрочем, и Ира, дочь Кратеса, соседа его отца, с которой он играл еще в детстве, была ему не безразлична, и если б он мог развеять удручавшую ее заботу, то охотно сделал бы это.
Его замечание удивило Иру. Она убедилась, что человек, который был для нее дороже всех, разгадал ее мысли, а любящей женщине всегда приятно чувствовать превосходство своего возлюбленного. К тому же она с детства принадлежала к обществу, где выше всего ценятся тонкость и гибкость ума. Ее черные глаза, сначала сверкавшие недоверием, потом потемневшие от скорби, теперь приняли новое выражение. Устремив на своего друга умоляющий взор, она сказала:
– Да, Дион, внучка философа не должна здесь оставаться. Или, быть может, ты укажешь другое средство удержать этого беспутного мальчика от величайшего зла? Ты знаешь меня давно, знаешь, что я, так же как и ты, не люблю нарушать законные права других или причинять кому-либо зло без надобности. Я привыкла уважать тебя! Ты правдивейший из людей, и еще вчера уверял меня, будто Эрос вовсе не замешан в твоих отношениях с этой знаменитой женщиной, будто тебя привлекает в ней только ее живой ум. Я потеряла веру во многое, но не в тебя и не в твое слово, однако ж, когда я узнала о твоем заступничестве за деда и представила себе, что ты добиваешься награды и благодарности от внучки, то… то во мне снова проснулись подозрения. Теперь ты, кажется, разделяешь мое мнение…
– Так же, как и ты, – подтвердил он, – я думаю, что Барину нужно избавить от домогательств Цезариона, которые ей не менее неприятны, чем тебе. Цезарион не может покинуть Александрию, в особенности если дела царицы принимают неблагоприятный оборот; остается, стало быть, удалить отсюда Барину, разумеется, с ее согласия.
– Если хочешь, хоть на золотой колеснице и увенчанную розами! – воскликнула Ира.
– Ну это, пожалуй, наделает шума, – возразил Дион, смеясь. – Теперь, когда я знаю причины твоего поступка, и хотя он мне по-прежнему не нравится, я охотно помогу тебе. Твои извилистые дороги тоже приводят к цели, и на них меньше шансов споткнуться, но я предпочитаю прямые пути и, кажется, нашел именно такой! Один из друзей Барины приглашает ее в свое имение, недалеко отсюда, быть может, на морском берегу.
– Ты? – спросила Ира, и тонкие брови ее слегка сдвинулись.
– Неужели ты думаешь, что она согласилась бы на мое предложение? – отвечал он. – Нет. К счастью, у нас есть более старые друзья, и главный из них – твой дядя и вернейший слуга царицы.
– Архибий! – воскликнула Ира. – Да, но удастся ли ему уговорить ее?
– Он попытается, так как тоже беспокоится насчет Цезариона. Пока мы здесь разговариваем, он убеждает Барину уехать в его имение. Деревенский воздух будет ей полезен.
– Пусть она расцветет, как пастушка.
Теперь она знала, что делать, если он вздумает добиваться ее руки, и архитектор впервые увидел Барину такой молчаливой. Он охотно проводил бы ее обратно в дом деда, где увидел бы ее сестру Елену, так как думал, что та огорчится, видя, что ее защитник не возвращается.
После неожиданного прекращения словесной распри Дион почувствовал сильный подъем духа. Не раз уже случалось ему вступаться за правое дело и одерживать победу, но никогда это не доставляло ему такой радости, как в настоящем случае. Теперь он только и мечтал увидеться с Бариной, сообщить ей о случившемся и услышать благодарность за свою услугу.
Внутреннее чувство подсказывало ему, какого рода будет та благодарность, но лишь только светлый образ будущего уступил место размышлениям, веселое выражение на его мужественном лице сменилось озабоченным.
Несмотря на окружавшую его темноту, которой не мог рассеять тусклый свет горевшей смолы, ему казалось, что он стоит в ярком блеске солнечного полдня в цветущем саду своего дворца, а Барина, у которой он потребовал награду за свое заступничество, в глубоком волнении кинулась к нему на грудь, и он целует ее влажные от слез глаза.
Видение вскоре исчезло, но было таким ярким, точно наяву.
Неужели Барина значит для него больше, чем он сам думал? Неужели его привлекали в ней не только ум и красота? Неужели им овладела истинная, серьезная страсть? Неужели наступит день, когда, повинуясь таинственному, непреодолимому инстинкту, наперекор рассудку, он соединится, быть может, на всю жизнь с ней, Бариной, принадлежавшей когда-то Филострату, а ныне игравшей такую заметную роль в александрийском обществе?
Будь она чиста, как лебедь, – а сомневаться в этом у него не было оснований, – все же ее имя упоминается в одном ряду с именами Аспазии[25 - Аспазия (около 470 г. до н. э.) – афинская гетера, отличавшаяся красотой, умом, образованностью; в ее доме собирались художники, поэты, философы. С 445 г. – жена Перикла, афинского стратега, вождя демократов.] и многих других, к которым посетители являлись не только ради пения и увлекательной беседы. Дарами, которыми так щедро наделили ее боги, наслаждались слишком многие, чтобы он, последний отпрыск благородной македонской фамилии, мог ввести ее хозяйкой во дворец, так заботливо и успешно возведенный ему Горгием.
Во всяком случае, если в нем чего-то недоставало, так только заботливой хозяйки.
А согласится ли она вступить с ним в союз, не освященный браком?
Нет!
Он не мог сделать своей любовницей внучку Дидима, женщину, которая нравилась ему, тем более, что всегда возбуждала в нем уважение, несмотря на свободное обращение с гостями. Да он и сам не хотел этого, хотя его друзья посмеялись бы над такой щепетильностью. Могла ли святость брака иметь какое-нибудь значение в городе, где сама царица дважды вступала в связь с чужими мужьями? И у него случались кое-какие любовные интрижки, но именно поэтому было бы особенно неприятно уравнять Барину с женщинами, любовью которых он пользовался, быть может, только благодаря золоту.
Мужества и твердости у него было довольно, но никогда еще не приходилось ему бороться с такой силой, как теперь.
Проклятое видение! Оно всплывало перед ним снова и снова, смеялось и манило, и Дион чувствовал – наступит день, когда у него не хватит сил бороться с желанием осуществить его на деле. Если только он не расстанется с ней, то, без сомнения, наделает такого, что сам же будет раскаиваться; ему следует молить богиню красноречия ниспослать Архибию дар убеждения, когда он будет уговаривать Барину оставить Александрию.
Трудно будет отказаться от ее общества, но все-таки лучше ей уехать. Пройдет немало времени, пока они снова увидятся, стало быть, есть надежда на победу.
Дион просто не узнавал себя.
Нетвердыми шагами продвигался он вперед, подавив желание зайти для разговора к Дидиму. Там он мог бы встретить Барину, а этого ему не хотелось, хотя все его существо стремилось видеть ее лицо, слышать ее голос и слова благодарности из ее милых уст. Радостное чувство сменилось в нем раздражением, как у человека, который стоит на перекрестке перед тремя дорогами, ведущими к различным целям, из которых ни одна не может вполне удовлетворить его.
Улица, по которой он шел, протискавшись сквозь толпу, вела вдоль берега к театру Диониса. Увидев его, Дион вспомнил, что именно здесь Горгий хотел поставить статую. Он решил осмотреть место, выбранное архитектором, в надежде, что этот осмотр изменит ход его мыслей.
Когда молодой человек подошел к театру, певец только что окончил гимн и толпа слушателей стала расходиться. Все говорили о радостной вести, переданной в пышных стихах Анаксенором, любимцем Антония, без сомнения, имевшим верные сведения. Со всех сторон раздавались крики в честь Клеопатры, новой Изиды, и Антония, нового Диониса, и вскоре старые и молодые, греки и египтяне слились в общем крике: «В Себастеум!» Так назывался дворец, напротив которого находилось помещение регента и правительства. Народ хотел услышать подтверждение радостной вести.
Дион вообще терпеть не мог таких шумных излияний восторга, но на этот раз настолько заинтересовался вестью, что хотел было примкнуть к толпе, стремившейся в Себастеум. Но тут внимание его было привлечено криками служителей, пролагавших путь для закрытых носилок.
Он узнал носилки Иры. Она-то во всяком случае должна иметь точные сведения, только в такой давке вряд ли удастся потолковать с ней. Ира, по-видимому, была другого мнения на этот счет, так как заметила и подозвала его. В ее голосе, обыкновенно звонком и чистом, звучали хриплые ноты. Вопросы, которыми она засыпала Диона, выдавали глубокое волнение. Не поздоровавшись с ним, она поспешно спросила, отчего волнуется народ, кто принес известие о победе и куда стремится толпа.
Отвечая ей, Дион с трудом протискивался сквозь толпу, стараясь не отстать от носилок. Она заметила это и приказала слугам нести носилки к воротам, запиравшимся на ночь, мимо которых они проходили в эту минуту, назвала страже свое имя и, когда ворота были открыты, велела внести носилки и поставить на площадке, а служителям дожидаться снаружи.
Необычное возбуждение и торопливость девушки не на шутку обеспокоили молодого человека. Она отказалась от предложения выйти из носилок и пройтись с ним.
– Зачем, – сказала она, – зачем ты мешаешь регенту, твоему дяде, исполнить его план и ораторствуешь в толпе как наемный смутьян?
– Как Филострат, хочешь ты сказать, которому вы заплатили, а я дал несколько щелчков в дополнение к вашему золоту.
– Ну да, как Филострат! Не по твоей ли милости столкнули его в воду, после того как ты охладил его пыл? Ты, должно быть, хорошо исполнил свою задачу. То, что делаешь с любовью, обыкновенно удается. Смотри только, чтобы его брат, Алексас, не восстановил против тебя Антония. Что касается меня, то я желала бы только знать, ради чего и ради кого ты все это устроил?
– Ради кого? Да ради славного старика, учителя моего отца, – отвечал Дион без всякого стеснения. – А сверх того ради хорошего вкуса, так как вряд ли можно найти менее подходящее место для этой статуи, чем сад Дидима.
Ира засмеялась отрывистым и резким смехом, и ее тонкое лицо, которое можно было бы назвать красивым, если б не чересчур длинный прямой нос и маленький подбородок, слегка нахмурилось.
– По крайней мере, ты откровенен! – воскликнула она.
– Ты, кажется, знаешь мой характер, – спокойно ответил он. – Впрочем, такой знаток, как архитектор Горгий, тоже такого же мнения.
– Слыхала и об этом. Вы оба усердные посетители этой, как ее… обворожительной Барины?
– Барины? – повторил Дион, принимая изумленный вид. – Ты, кажется, хочешь, чтобы наш разговор напоминал лабиринт, в котором мы находимся. Я говорю о произведениях искусства, а ты все сводишь… на живое существо, – положим, тоже образцовое творение богов. Во всяком случае, заступаясь за старика ученого, я и в мыслях не имел его внучки.
– Ну конечно, – возразила она насмешливо, – молодые люди твоего склада и с твоими привычками всегда больше склонны думать о почтенных учителях своих отцов, чем о тех женщинах, от которых происходит все зло на земле с тех пор, как Пандора[26 - Пандора («всем одаренная») – в греческой мифологии женщина, созданная по воле Зевса, чтобы принести людям соблазны и несчастья. Несмотря на запрет богов, любопытная Пандора открыла сосуд (или ящик), в котором были заключены все людские пороки, и тогда по земле расползлись бедствия и болезни. «Ящик Пандоры» – в переносном смысле – источник всяких бед.] открыла свой ящик. Но, – тут она отбросила назад черные локоны, закрывавшие до половины ее высокий лоб, – я сама не понимаю, как могут меня занимать такие пустяки в подобное время, да еще когда у меня страшная тяжесть на душе… Мне так же мало дела до старика, как и до его бесчисленных сочинений и комментариев, хотя они мне знакомы… Пусть у него будет столько же внучат, сколько злых языков в Александрии. Но теперь нужно устранять все, что может быть неудобным для царицы. Я только что из Лохиаса, из дворца царских детей, и что я там узнала… Это… Нет, я не хочу и не могу этому верить… Одна мысль о таком несчастье душит меня…
– Дурные вести о флоте? – с беспокойством спросил Дион.
Ира не ответила, только утвердительно кивнула головой, прижав к губам веер из страусовых перьев в знак молчания. Несмотря на темноту, он заметил, как она вздрогнула. Потом продолжала вполголоса тоном, выдававшим внутреннее волнение:
– Об этом еще не следует говорить… Моряк из Родоса… Впрочем, ничего неизвестно наверняка… Этого не может, не должно случиться!.. А все-таки… Болтовня… Болтовня Анаксенора, который возбуждает надежды в народе, совершенно некстати… Никто так не вредит сильным мира, как те, кто обязан им всем. Я знаю, Дион, что ты умеешь молчать. Ты еще в детстве доказывал это, когда нужно было что-нибудь скрыть от родителей. А помнишь, как ты бросился в воду ради меня? Сделаешь ли ты это теперь? Вряд ли! Но на тебя можно положиться. Это известие сдавило мне сердце. Только смотри, никому ни слова, никому! Я не нуждаюсь в поверенных и могла бы скрыть эту новость и от тебя, но мне хочется, чтоб ты, именно ты, меня понял… Когда я садилась в носилки в Лохиасе, вернулся Цезарион, и я говорила с ним.
– Цезарион, – перебил Дион на этот раз вполне серьезно, – любит Барину.
– Так эта ужасающая глупость уже известна? – спросила она с волнением. – Я никогда не подозревала, что у этого мечтателя может пробудиться такая глубокая страсть. Царица вернется, быть может, не с таким успехом, какого мы желаем, увидит тех, от кого ожидает радости, добра, величия, узнает, что ускользнуло от ее проницательного взора, узнает о том, что случилось с мальчиком… Он ей дорог, дороже, чем все вы думаете. Сколько беспокойства, огорчения для нее! Не права ли она будет, если рассердится на тех, кто должен смотреть за мальчиком?
– И потому, – заметил Дион, – нужно устранить камень с дороги. Устраивая неприятности Дидиму, ты делаешь первый шаг к этой цели.
Он правильно разгадал ее намерения, предположив, что история с Дидимом подстроена ею с целью предоставить властям случай разделаться с ученым и его родными, к числу которых принадлежала Барина. По египетскому закону родственники человека, виновного в каких-либо действиях против правительства, тоже отправлялись в ссылку. Подобная интрига по отношению к ни в чем неповинному ученому, конечно, была подлостью, и однако Дион чувствовал, что Ирой руководила не только низменная ревность, но и более благородное чувство: любовь к своей госпоже, стремление избавить ее от неприятностей и забот в трудное время. Он хорошо знал Иру, ее железную волю и беззастенчивость в достижении целей. Теперь самым главным для него было избавить Барину от грозившей ей опасности. Впрочем, и Ира, дочь Кратеса, соседа его отца, с которой он играл еще в детстве, была ему не безразлична, и если б он мог развеять удручавшую ее заботу, то охотно сделал бы это.
Его замечание удивило Иру. Она убедилась, что человек, который был для нее дороже всех, разгадал ее мысли, а любящей женщине всегда приятно чувствовать превосходство своего возлюбленного. К тому же она с детства принадлежала к обществу, где выше всего ценятся тонкость и гибкость ума. Ее черные глаза, сначала сверкавшие недоверием, потом потемневшие от скорби, теперь приняли новое выражение. Устремив на своего друга умоляющий взор, она сказала:
– Да, Дион, внучка философа не должна здесь оставаться. Или, быть может, ты укажешь другое средство удержать этого беспутного мальчика от величайшего зла? Ты знаешь меня давно, знаешь, что я, так же как и ты, не люблю нарушать законные права других или причинять кому-либо зло без надобности. Я привыкла уважать тебя! Ты правдивейший из людей, и еще вчера уверял меня, будто Эрос вовсе не замешан в твоих отношениях с этой знаменитой женщиной, будто тебя привлекает в ней только ее живой ум. Я потеряла веру во многое, но не в тебя и не в твое слово, однако ж, когда я узнала о твоем заступничестве за деда и представила себе, что ты добиваешься награды и благодарности от внучки, то… то во мне снова проснулись подозрения. Теперь ты, кажется, разделяешь мое мнение…
– Так же, как и ты, – подтвердил он, – я думаю, что Барину нужно избавить от домогательств Цезариона, которые ей не менее неприятны, чем тебе. Цезарион не может покинуть Александрию, в особенности если дела царицы принимают неблагоприятный оборот; остается, стало быть, удалить отсюда Барину, разумеется, с ее согласия.
– Если хочешь, хоть на золотой колеснице и увенчанную розами! – воскликнула Ира.
– Ну это, пожалуй, наделает шума, – возразил Дион, смеясь. – Теперь, когда я знаю причины твоего поступка, и хотя он мне по-прежнему не нравится, я охотно помогу тебе. Твои извилистые дороги тоже приводят к цели, и на них меньше шансов споткнуться, но я предпочитаю прямые пути и, кажется, нашел именно такой! Один из друзей Барины приглашает ее в свое имение, недалеко отсюда, быть может, на морском берегу.
– Ты? – спросила Ира, и тонкие брови ее слегка сдвинулись.
– Неужели ты думаешь, что она согласилась бы на мое предложение? – отвечал он. – Нет. К счастью, у нас есть более старые друзья, и главный из них – твой дядя и вернейший слуга царицы.
– Архибий! – воскликнула Ира. – Да, но удастся ли ему уговорить ее?
– Он попытается, так как тоже беспокоится насчет Цезариона. Пока мы здесь разговариваем, он убеждает Барину уехать в его имение. Деревенский воздух будет ей полезен.
– Пусть она расцветет, как пастушка.